Анализ отдельных произведений Н. С. Гумилева
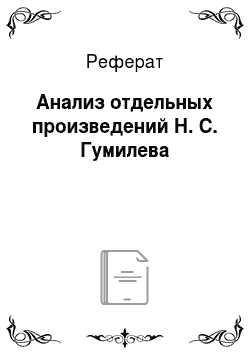
Структурообразующим в стихотворении становится мотив пути, однако эта традиционная для творчества Гумилева тема радикально трансформируется. Образ пути наряду с топологической семантикой, предполагающей пространственную локализацию («Мы проскочили сквозь рощу пальм, / Через Неву, через Нил и Сену / Мы прогремели по трем мостам»), преобразуется в путешествие по времени. Но эта почти… Читать ещё >
Анализ отдельных произведений Н. С. Гумилева (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стихотворение «Заблудившийся трамвай»
Структурообразующим в стихотворении становится мотив пути, однако эта традиционная для творчества Гумилева тема радикально трансформируется. Образ пути наряду с топологической семантикой, предполагающей пространственную локализацию («Мы проскочили сквозь рощу пальм, / Через Неву, через Нил и Сену / Мы прогремели по трем мостам»), преобразуется в путешествие по времени. Но эта почти сюрреалистическая контаминация разных временных отрезков не является хаотической — она строго мотивирована биографией самого поэта. Ю. Л. Кроль интерпретирует данное стихотворение как своего рода автобиографию Гумилева, втиснутую в рамки трамвайного маршрута1. При этом фантастические пространственные смещения обусловливаются временной инверсией, которая приводит к парадоксальным семантическим сдвигам, связанным с наложением хронологических пластов: «Мчался он бурей темной, крылатой, / Он заблудился в бездне времен…» .
Стихотворение может быть прочитано и в ключе метемпсихоза, и в русле православной идеи зона как восхождения героя к своему надвременному прообразу посредством совмещения всех разновременных событий в один панхронический пучок и воспоминания обо всех проявлениях этого прообраза в других временах. В пользу последнего прочтения говорит и то, что «в оконной раме» промелькнул старик умерший «в Бейруте год назад», что исключает идею метемпсихоза, поскольку старик появляется в пространстве Петрограда, а значит, перед нами совмещение временных планов, а не перерождение души лирического героя.
Собственно, совмещение времен оборачивается и совмещением пространств, приуроченных к каждому из этих времен. Мотивацией подобных наложений могут служить механизмы человеческой памяти, которая вольна «сжимать» время и трансформировать пространство. Но личная авторская память, постепенно расширяясь, начинает вбирать в себя мифологизированное пространство истории и культуры. Так, ситуации современной действительности по ассоциативному принципу притягивают аналогичные литературные коллизии. Совсем не случайно в тексте стихотворения сразу после жуткого видения торговли «мертвыми головами» возникает идиллическая тема «Машеньки», развиваемая в коллизиях, типология которых напоминает инверсированный сюжет «Капитанской дочки». Ведь основная тема пушкинского романа — «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», в условиях которого сохранение личной и дворянской чести возможно только ценой собственной жизни. Отсюда и гумилевские «поправки» пушкинского счастливого финала, и трагедийная, «панихидная» тональность последних строф «Заблудившегося трамвая» .
Но это еще не все. В эонический архетип «всевремени» и «всепространства» оказывается включено и будущее. Оно предстает в сюрреалистическом образе зеленной лавки, в которой Вместо капусты и вместо брюквы Мертвые головы пролают…
В красной рубашке, с лицом, как вымя, Голову срезал палач и мне.
Она лежала вместе с другими Здесь, и ящике скользком, на самом дне…
Гумилев здесь не просто дает свою интерпретацию действительности. Он творит новую реальность в графически четких и в то же время как бы галлюцинирующих образах, содержащих предвидение собственной насильственной смерти и коллективной судьбы в эпоху большого террора (когда человеческая жизнь будет стоить не больше, чем капуста и брюква). Но если роковая «логика пути» приводит лирического героя к гибели, то мистический поиск «Индии Духа» увенчивается небывалым духовным прорывом и сакральным озарением, позволяющим постичь тайну вселенского бытия и обрести духовную свободу:
Понял теперь я: наша свобода — Только оттуда бьющий свет, Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет.
Есть основания полагать, что поэт считал стихотворение «Заблудившийся трамвай» образцом «мистической поэзии». В интервью английскому журналисту Бечхоферу (1917) Гумилев поясняет, что понимает под мистической поэзией:
" Сегодня она возрождается только в России, благодаря ее связи с великими религиозными воззрениями нашего народа. В России до сих пор сильна вера в Третий Завет. Ветхий Завет — это завещание Бога-Отца. Новый Завет — Бога Сына, а Третий Завет должен исходить от Бога Святого Духа. Утешителя. Его-то и ждут в России, и мистическая поэзия связана с этими ожиданиями. Когда современный поэт чувствует ответственность перед миром, он обращает мысли к драме как к высшему выражению человеческих страстей, чисто человеческих страстей. Но когда он задумывается о судьбе человечества и о жизни после смерти, тогда он и обращается к мистической поэзии" .
Как следует из процитированного интервью (которое могло бы служить комментарием к «Заблудившемуся трамваю»), мистические прозрения поэта тесно связаны с его размышлениями о духовной судьбе России. Отсюда и реминисцентный образ «Медного всадника», символизирующий «твердыню» российской государственности, и сразу за ним следующий образ «твердыни православия» — «Исакия». Символичен тот факт, что Исаакиевский собор оказывается «конечным пунктом» трамвайного маршрута, искоси «точкой сборки», собирающей время и пространство. Очевидно, православие осмысляется поэтом как некая нерушимая национальная твердь, общий «соборный знаменатель» русского народа, с которым лирический герой ощущает глубинную, сакральную связь. Вот почему стихотворение заканчивается мотивом церковного отпевания самого себя — как умершего — и признанием, на которое способен только поэт, сознательно делающий трагический выбор:
И трудно дышать, и больно жить… Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить.
" Заблудившийся трамвай" - уникальное произведение, написанное «визионером и пророком» (А. А. Ахматова), предвидевшим свою судьбу и судьбу своего поколения. В конце «странствия земного» поэту удалось вернуть Слову его первозданную силу и мощь, сделать его не только хранителем прошлого, но и свидетельством о будущем, ибо такова, по Гумилеву, природ;! поэтического слова, отрицающего время.