Художественный мир В. В. Набокова
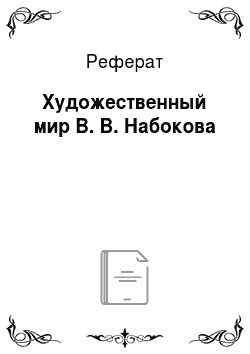
Для героя набоковского эпоса любовь — всегда проклятье и жизненная катастрофа. История Кречмара («Камера обскура»), богатого немецкого бюргера, приближающегося «к концу своего четвертого десятка», и 16-летней девушки Магды Петере тоже разворачивается на фоне любовного треугольника, третьей гранью которого оказывается художник-карикатурист Роберт Горн. Для Кречмара, убитого в конце романа своей… Читать ещё >
Художественный мир В. В. Набокова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Набоков предлагает литературе новую концепцию личности. Главный герой романа «Машенька» русский эмигрант Ганин противопоставляет свои идеализированные воспоминания о первой любви, о дореволюционной барской усадьбе современной берлинской жизни в изгнании, бледной, почти бесцветной. Герой первого романа Набокова обнаруживает качество, которое станет основополагающим для художественного мира писателя: реальности он противопоставляет иной мир, вымышленный, мнимый, ареальный — мир потусторонности, как определила его исследовательница творчества писателя Зинаида Шаховская. Этот термин прочно утвердился в современном набоковедении. Мир потусторонности, или мнимости, сказывается у Набокова подчас очень зримо, в явной метафоре. Так, один из героев романа «Король, дама, валет» удачливый и талантливый предприниматель по фамилии Драйер мимолетно увлечен созданием искусственных манекенов, способных двигаться почти как живые люди.
" В тишине был слышен мягкий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли: мужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем подмышкой, — и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало скучно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались слишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах, — сосредоточенное и приторное выражение, которое он видел уже много раз. Конечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и мягко сработаны, — и все-таки от них теперь веяло вялой скукой, — особенно юноша в штанах был невыносим. И. словно почувствовав, что холодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно, одна из них — в смокинге — смущенно замедлила шаг, устали и две другие, их движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от усталости, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером замер посреди сцепы, — хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как будто прилип к полу и пытаться оторвать подошвы. Потом он затих совсем. Изнеможение. Молчание" .
Этот эпизод очень показателен. Воплощением мнимости здесь выступает манекен. Чертой набоковского романа является отсутствие характера в традиционном, реалистическом смысле слова. Перед нами не столько характер, сколько кукла, автомат, литературным провозвестником которого был Э. Гофман. Главным и единственным характером в таком романе оказывается характер самого автора, а герои находятся в явно подчиненном положении, они мыслятся не как самостоятельные образы, наделенные неповторимой индивидуальностью, но как исполнители авторской воли, самой причудливой и нереальной.
Набоков очень редко давал интервью, но несколько исключений он все же сделал, и одно из них — для своего университетского ученика Альфреда Аппеля в 1966 г. Понимая невозможность подойти к героям писателя с традиционных реалистических позиций, ученик задаст своему учителю наивный и в то же время каверзный вопрос: «Писатели нередко говорят, что их герои ими завладевают и в некотором смысле начинают диктовать им развитие событий. Случалось ли с вами подобное?» Набоков не заставил себя ждать в опровержении этой удивительной черты реалистической эстетики, когда герой «оживает» под авторским пером, начинает действовать как бы самостоятельно, эмансипируясь от авторской воли:
" Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Писатели, с которыми происходит такое, — это или писатели очень второстепенные, или вообще душевнобольные. Нет, замысел романа прочно держится в моем сознании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него придумал. В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность и прочность отвечаю я один" '.
В самом деле, перед нами не герой в традиционном смысле этого слова, но, скорее, некое воплощение авторской идеи, некий набор тех или иных качеств. Его судьба, поступки, поведение порождены не столько логикой характера (она вообще может отсутствовать, персонаж романа Набокова может быть совершенно алогичен), сколько полной подчиненностью его авторской воле, авторскому замыслу. Герой романа Набокова полностью «бесправен» и абсолютно зависим: никакой диалог на равных между голосом автора и героя, как, например, в полифоническом романе Ф. М. Достоевского, в принципе невозможен. У Набокова начисто отсутствуют доверие к герою и уважение его суверенитета, характеризующее реалистический роман. Его герои лишены самых, казалось бы, естественных человеческих эмоций, а если и наделены ими, то в пародийной форме.
Это заметили еще первые критики творчества Набокова. Например, «Лолита» — роман о любви, но любви там как раз и нет, а есть болезненная, скорее даже физиологическая и психопатическая страсть Гумберта Гумберта, взрослого мужчины, к 12-летней «нимфетке», девочке-подростку, но никак не духовное парение. В ситуации любви герои Набокова чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными. Таковы гроссмейстер Лужин, жена которого застает его мирно спящим в первую брачную ночь, или Гумберт Гумберт, все-таки брошенный своей нимфеткой Лолитой. Женское начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «Приглашения на казнь»; Магда из «Камеры обскура»; жена главного героя из романа «Отчаяние», правда, оставшегося совершенно равнодушным к ее измене). В этом заключается одно из самых парадоксальных качеств Набокова: его художественный мир основан на отрицании женского начала. Страсть Гумберта Гумберта к Лолите как раз и обусловлена тем, что в ней нет пока еще ничего женского. Оно появляется лишь в конце романа, у повзрослевшей и утратившей свое обаяние Лолиты.
Откуда у абсолютно здорового и счастливого в семейной жизни человека, пронесшего через все годы изгнания тепло и свет родительской любви и нежности, которыми судьба наделила его с избытком в детстве и юности, откуда у любящего и верного мужа, прекрасного отца, такое странное отношение к женщине и любви? Поиски ответа на этот вопрос давали возможность психоаналитической школе в литературоведении развивать в отношении Набокова разнообразные вариации сюжета об изживании благоприобретемных комплексов в своих творениях. Набоков терпеть не мог подобных фрейдистских подходов и яростно издевался над ними. В статье «Что всякий должен знать?», построенной как пародия на фрейдистский анализ, он иронизирует над такими горе-филологами:
" Филологи подтвердят, что выражения: барометр падает, падший лист, падшая лошадь — все намеки (подсознательные) на падшую женщину. Сравните также трактирного полового или половую тряпку с половым вопросом. Сюда же относятся слова: пол-года, пол-сажени, пол-ковник и т. д. Немало есть и имен, проникнутых эротизмом: Шура. Мура. Люба (от «любви»), Женя (от «жены»), а у испанцев есть даже имя «Жуан» (от «Дон-Жуана»)" .
Конечно. Набоков был прав, выступая против столь примитивного толкования творчества (да и вообще человеческого сознания). Ключ к специфике его художественного мира нужно искать не в изживании через художественное творчество неких комплексов, а в творческой (и вполне осознанной) позиции самого автора. Одна из традиций русской литературы — идеализация любви, восприятие ее как величайшей нравственной ценности, способной обогатить личность. Проверку любовью проходят все герои И. С. Тургенева; она стала важнейшим испытанием «лишнего человека» — от Евгения Онегина до Ильи Ильича Обломова. Неудача в любви была способом мотивировать их жизненную несостоятельность; в неудачной любви виделись истоки неудачи жизненной. Однако нельзя объяснить простым разрывом с традицией то, что герой Набокова не знает любви. Пафос индивидуализма, страх отдать хоть каплю собственной индивидуальности другому человеку, поставить себя под его суд или, что страшнее всего, пойти на подчинение себя предмету своей любви, заставляет Набокова и его героя вообще забыть о любви. Это происходит в первую очередь потому, что, согласно Набокову, любовь всегда таит в себе предательство, и человек, способный отдаться этому чувству, — погибший человек.
В основе набоковского сюжета очень часто лежит любовный треугольник. Коллизия нередко нарочито снижена: герой — русский эмигрант, живущий в Германии, — возвращается из командировки и застает у жены любовника по фамилии Берг (рассказ «Подлец»). Бедный Антон Петрович, который «был коротконог, кругловат и носил монокль», пораженный изменой, вызывает Берга, бывшего компаньона, на дуэль, вряд ли в тот момент осознавая свою «недуэлеспособность». Берг был «плечист, строен, чисто выбрит, и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела». Однажды он показал Антону Петровичу старую черную записную книжку «времен Деникина и покоренья Крыма», страницы которой были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счетом 523: «Я считал, — сказал он, — конечно, только тех, которых бил наповал». Так что силы дуэлянтов явно неравны, и Набоков с удовольствием показывает позорнейшее бегство Антона Петровича. Благородная драма обманутого мужа сведена к фарсу: секундант, «длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий па черную таксу», носит фамилию Гнушке; Антон Петрович не умеет стрелять и пытается тренироваться на пресс-папье; утром перед дуэлью пудрит лицо, пользуясь косметикой изгнанной жены, чтобы скрыть мертвенную бледность, и в конце концов, позорно убегает, так и не дойдя до места «побоища». Холодный смех обращает автор на своего героя, называя его в названии рассказа подлецом, и не наделяя ни каплей сочувствия или хотя бы сострадания, которого он все же, быть может, достоин.
Для героя набоковского эпоса любовь — всегда проклятье и жизненная катастрофа. История Кречмара («Камера обскура»), богатого немецкого бюргера, приближающегося «к концу своего четвертого десятка», и 16-летней девушки Магды Петере тоже разворачивается на фоне любовного треугольника, третьей гранью которого оказывается художник-карикатурист Роберт Горн. Для Кречмара, убитого в конце романа своей любовницей Магдой, Набоков находит страшную метафору-лейтмотив: неожиданно вспыхнувшая любовь-страсть настигает его в небольшом зале кинематографа, куда он входит посреди сеанса, прямо во тьму зрительного зала. Ослепшего от внезапной тьмы, его встречает девушка с электрическим фонариком в руке, которая проводит па свободные места случайных посетителей, — красивая и бездушная Магда, воплощение его будущей страшной судьбы. Роман с Магдой, который Кречмар неумело пытается завязать, выводит ее из тьмы кинематографического зальчика, из тьмы «камеры обскура», но погружает самого Кречмара в вечную тьму. Нравственное ослепление от безумной страсти к 16-летней девчонке, оборачивающееся уходом из дома, разрывом с женой и дочерью, с близким кругом родных, отзывается настоящей, физической слепотой. Потрясенный изменой любовницы, Кречмар разбивается в автомобиле; результатом аварии становятся шрам на лице и абсолютная потеря зрения: тьма кинематографа, куда он вступил и нашел любовную страсть, оборачивается тьмой духовного ослепления и трагической физической слепотой. Магда и Горн, лишенные какого бы то пи было нравственного чувства, обманывая уже слепого Кречмара и бездумно проматывая его состояние, живут в снятом загородном особняке, пользуясь беспомощностью слепца, который может лишь подозревать присутствие третьего человека. Любовь — тьма, безысходная пропасть, погружающая человека в «камеру обскура». Женщина может возбудить лишь страсть, оборачивающуюся в итоге тьмой и небытием.
Такая вывернутость и искалеченность любви у героев Набокова обусловлена очень странной чертой его писательского мира, основанного на активном неприятии женского начала — от того его варианта, который показан в «Лолите», до комически сниженного образа развратницы Марфиньки («Приглашение па казнь»), радостно сообщающей Цинциннату Ц. о своих изменах, и доброй невесты Лужина, не подозревающей о той странной игре с жизнью, которую ведет по законам шахмат ее муж («Защита Лужина»). Даже в «Даре», где любовь Годунова-Чердынцева к Зине освещена человеческим светом и основана на взаимной и безусловной поддержке, Набоков не может не улыбнуться. Роман заканчивается отъездом родителей Зины, комнату в квартире которых снимает Федор Константинович, и герои наконец могут оказаться наедине. Но, увы, вход в дом, который теперь станет их общим домом, для них закрыт: обе связки ключей по рассеянности Зининых родителей и самого Федора Константиновича оказались забыты в передней и в ящике письменного стола. Писатель оставит своих счастливых героев за несколько шагов до подъезда, когда волей-неволей они выяснят, что надежда на ключ, лежащий в милой дамской сумочке или в кармане пиджака, увы, эфемерна. «С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт» — Набоков тоже оставляет своего героя в минуту не то что бы злую, но весьма досадную для него. Впрочем, это самая милая шутка, которую сыграл Набоков с влюбленными из своих романов.
В отношении Набокова к своим героям сказались черты характера самого автора: индивидуализм, возведенный в жизненный принцип, желанное творческое и личное одиночество, неприятие соседства в любых его формах, недоверие простым и естественным человеческим чувствам. Подобная совершенно новая для русской литературы этическая система, основанная на принципиальном индивидуализме и пафосе «общественного неслужения», которую отстаивал писатель, вела к разрыву с традицией и в сфере эстетической. Набоков отказался от реализма и пришел к модернистской эстетике. В результате в его творчестве происходит разрушение реалистического характера, что обусловлено иными, чем в реализме, принципами типизации. Довольно долго бытовало мнение, что в отличие от героя реалистического романа, сознание которого сформировано типическими обстоятельствами окружающего бытия, герой модернистской литературы ничем не мотивирован. Разумеется, это не так. Герой модернистского романа тоже детерминирован, но эти мотивации совсем иной, нереалистической природы. Если мы с этой точки зрения посмотрим на роман Набокова «Приглашение на казнь», то увидим, что все драмы главного героя Цинцинната Ц. происходят от его непрозрачности. В мире, где живет Цинциннат, прозрачны все, кроме пего.
" С ранних лет. чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том. чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому, в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в .этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов…" .
Чаще всего подобная «непрозрачность» трактуется как некая метафора, объясняющая трагедию человека, лишенного в тоталитарном обществе права индивидуального бытия, а весь роман рассматривается как антиутопия. Но это верно лишь отчасти, о чем свидетельствует упомянутое выше интервью А. Аппеля с писателем: уставший твердить о своем нежелании превращать литературу в арену политической борьбы, Набоков нехотя уступает интервьюеру. Однако лишь такой трактовкой нельзя объяснить главную сюжетообразующую метафору романа — метафору непрозрачности, приведшей героя к тюрьме и «приглашению на казнь» .
Метафора модернистского романа в принципе неисчерпаема, несводима к однозначному, эмблематичному толкованию. И пусть Цинциннат Ц. не настоящий (в традиционном, реалистическом смысле) характер. Ему не присуща противоречивость героя реалистической литературы; его мотивации лежат вовсе не в сфере социально-исторического процесса, чьи трагические разломы пришлись на судьбу поколения, к которому принадлежал и сам Набоков. Однако, будучи определен лишь единственной своей чертойнепрозрачностью в прозрачном, проникнутом солнцем светлом мире, — Цинциннат не менее сложен, чем герои реалистической литературы. Пусть его движения похожи на поступь тех самых манекенов, от которых устал Драйер, но попять и определить суть такого персонажа однозначно, раз и навсегда, невозможно. Его сложность совсем иная, и состоит в другом — в специфических принципах мотивации. Драма Цинцинната Ц. детерминирована его непрозрачностью, так же как вся жизнь, все сознание и мироощущение Гумберта Гумберта мотивированы страстью к нимфетке, а характер гроссмейстера Лужина сформирован логикой шахматной игры, заменившей ему реальность.
В подобного рода законах мотивации характера проявляются и важнейшая грань концепции человека у Набокова, и его принципиальный разрыв с реализмом. Отношения между героем и действительностью оказываются искривленными и алогичными. Вглядываясь в реальную жизнь, социальную или сугубо частную, герой пытается постигнуть ее — и не может сделать этого. Возникает характерный мотив бегства от враждебного, чуждого, алогичного мира. Поэтому, например, «защита», которую пытается выработать Лужин, направлена не только на организацию противодействия атаке белых фигур, но и на противостояние реальности, пугающей и отталкивающей, втягивающей в себя каждого человека, без изъятия, даже вопреки его воле.
Ключом к удивительному и во многом уникальному для русской литературы дару Владимира Набокова оказывается его псевдоним, под которым он выступал до 1940 г., последнего для его русской прозы, — Владимир Сирин. В средневековой мифологии сирин — райская птица-дева с женской головкой и грудью. В русских духовных стихах птица сирин, спускаясь на землю, зачаровывает людей своим чудесным пением, поистине райским, неземным. В западноевропейских легендах сирин воплощает несчастную, не нашедшую приюта душу. Неземная красота, чудесная гармония звуков, внутренняя трагичность — вот что стояло за столь претенциозным псевдонимом молодого писателя. В этой претензии, безусловно, обоснованной, проявлялась жизненная и творческая позиция Набокова, реализовавшаяся в его литературном поведении.
Подобная позиция писателя шла вразрез с как будто незыблемыми принципами и гуманистическим пафосом русской литературной традиции. Весь литературный опыт предшествующего столетия утверждал жалость к «маленькому человеку», открытому А. С. Пушкиным в «Станционном смотрителе», сострадание «униженным и оскорбленным» Ф. М. Достоевского. Набоков, со своей стороны, не видит в литературе места для жалости и сострадания. Русская литературно-философская мысль XIX в. декларировала любовь как величайшую общечеловеческую ценность — в романах Набокова нет любви: есть лишь жалкая, гротескная пародия на нее. Трагедия «лишнего человека», от Онегина до Обломова, объяснялась невозможностью для мыслящей личности проявить себя на поприще общественного служения в условиях скверной действительности. Для Набокова сама мысль об общественном служении или социальном пафосе литературы кажется кощунственной и недостойной искусства и художника. Чехов объясняет трагедию Ионыча тем, что жизнь прошла мимо, не затронув и не взволновав, — для Набокова здесь не может быть трагедии, ибо куда важнее внутренний мир личности, субъективное ощущение счастья и состоявшейся жизни. Стоит ли говорить о неприятии Набоковым и его героем любого судабудь то суд «общественности», стоящей справа или слева от художника, или же суд собственной совести героя, находящегося чаще всего вообще вне нравственного закона, как в «Лолите» или «Камере обскура» .
Таким образом, все, что отталкивало от Набокова читателя ли, частного человека, случайно пересекшегося с ним, социально ориентированного критика: неземная гордыня, в лучшем случае подчеркнутая снисходительность к ближнему, антисоциальность, принципиальный индивидуализм, декларируемый пафос общественного неслужения, элитарный эстетизм и отсутствие желания быть понятым, перерастающее в открытое пренебрежение читателем, — было попыткой защитить свой дар и право частного бытия от жестокого натиска истории, свирепости непросвещенной толпы, в детской резвости колеблющей треножник художника и посягающей на естественное право любой самостоятельной личности — право быть самой собой. С этой точки зрения Набоков был как раз очень русским писателем! В сущности, и жизнью, и творчеством он отстаивал суверенитет частного человека, пытаясь своей судьбой, литературным и личным поведением показать возможность сугубо индивидуального бытия в XX в., когда казалось, что социальная действительность оставляет личности все меньше возможности для этого. Набоков шел своей и только своей дорогой в литературе, отметая все нелепые требования редакторов и издателей (вроде предложения сделать из нимфетки Лолиты мальчика — тогда, дескать, публика поймет), не побоялся скандальной славы и обвинений в порнографии, когда роман был опубликован. Собственно, такая позиция была попыткой выйти из-под диктата сил общественности, выступавшей с проповедью незыблемых моральных ценностей или утверждающей социальное самопожертвование единственно возможной и оправданной формой индивидуального бытия.
Пафос индивидуальности стал основой романистики Набокова, и в этом — продолжение и развитие глубинных основ русской литературной традиции с се уважением к личности, той самой любовью к человеку, которой так не хватало критикам Сирина. Суть в том, что набоковская любовь к человеку связана с утверждением его права быть самим собой без оглядки на кого-то второго. Ведь именно этим, а не пустым самолюбованием обусловлен страх перед толпой всех его героев: Лужина, бегущего от толпы гимназических товарищей; Ганина, охраняющего свой мир от посягательств на ненужное общение с Алферовым, нелепым мужем Машеньки, и другими жителями русского пансиона; Гумберта Гумберта, противопоставляющего свою необычную страсть скучному американскому стандарту, захватывающему все сферы жизни — от социальной до самой интимной.
Литературной общественности с ее устоявшейся пресной моралью, которая часто оборачивается покушением на свободную мысль и новое мнение, бросает свой вызов князь Годунов-Чердынцев, герой романа «Дар». Набоков прекрасно знает, что ждет его самого и его героя, осмелившихся покуситься на святое имя русской революционной демократии 1860-х гг. — имя Н. Г. Чернышевского. Он прекрасно предвидит (и дает возможность своему герою выслушать) упреки в том, что его повесть (ставшая четвертой главой романа «Дар» и стыдливо отвергнутая в первой публикации «Современными записками» в 1938 г.1) — «беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина» .
" Есть традиции русской общественности, — гневно клеймит Годунова-Чердымцева редактор Васильев, кому предложена рукопись для издания, — над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаетесь, но все-таки (и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце) я как друг прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся.
— Предпочитаю затылки, — сказал Федор Константинович" .
Ответ Годунова-Чердымцева мог бы стать девизом автора. Н. Г. Чернышевский превратился в антигероя «Дара», предмет злой иронии Набокова, именно потому, что, во-первых, сама эта фигура несла в себе явно комический элемент (вспомним «Крокодила» Ф. М. Достоевского, где объектом злой пародии выступает несчастливая судьба Николая Гавриловича). Во-вторых, трудно найти образ, воплощавший собой столь полную противоположность Набокову: в Чернышевском он нашел все те черты, которые не принимал в литераторе и которые, с его точки зрения, утвердившись в общественном сознании, освещенные мученической судьбой «клоновоняющего господина» (Л. Н. Толстой), во многом привели к трагедии XX в. Вот почему антитезой не столько даже Чернышевскому, сколько литературному и общественному направлению, которое он представлял, могла быть критика его не с общественных позиций, скажем, либеральных, но с позиций эстетических, куда более важных и выигрышных для Набокова. Это давало возможность показать всю ничтожность и фигуры, выбранной как воплощение идеи, и самой идеи.
Оставим в стороне вопросы о том, достоин ли Чернышевский столь жестокой критики; так ли уж нестерпима демократическая идея, им принесенная, его теория разумного эгоизма и наивный антропологизм, на котором она основана. Обсуждая эти проблемы, мы неизбежно придем к выводу редактора Васильева, отчитывающего, хватаясь за сердце, Годунова-Чердынцева. Мы должны просто понять, что соотносить реального Чернышевского с героем романа «Дар» столь же наивно, как реального Наполеона с героем «Войны и мира». Речь идет о тенденции, направлении в русской литературе и общественной мысли, которую воплощает для Набокова образ Чернышевского.
" Забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь (причем она сразу застревала в другом месте, и автору приходилось опять возиться с занозой), долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл в мелочном толковании своих мельчайших действий, прилипчивая нелепость этих действий (словно у человека руки были в столярном клее, и обе были левые), серьезность, вялость, честность, бедность — все это так понравилось Федору Константиновичу, его так поразило и развеселило допущение, что автор с таким умственным и словесным стилем мог как-либо повлиять на литературную судьбу России, что на другое же утро он выписал себе в государственной библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского" .
Такую точную характеристику стиля и манеры повествования Чернышевского мог дать только Набоков. Писателя не устраивало в нем все, но в первую очередь предпочтение голой теоретической, псевдофилософской схемы перед живой жизнью. Восемнадцатилетний Николай Гаврилович, едущий в Петербург со своей матушкой, не отрывается от книжки: «склонявшимся в мыль колосьям он предпочел словесную войну». Уткнувшись в книгу, он не видит вокруг себя того, что действительно достойно созерцания: красоты русского ландшафта, «красоты просительной, выжидательной, готовой броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать» .
Конечно, ирония Набокова в адрес Чернышевского выглядит убийственно, хотя через эту иронию, как бы из жалости, он замечает и те стороны личности своего литературного оппонента, с которым его разделяет полвека, что достойны уважения: мужество, пламенность бойца, бескомпромиссность. Не прощает он ему лишь одного — пустого теоретизирования и, как следствие, застрявшей посреди фразы мысли, т. е. отсутствие Дара, и чудовищной уверенности в собственном праве навязывать целой России свои идеи. Именно так воспринималась Набоковым отвергаемая им социальная функция литературы — как навязывание личности и обществу неких пошлых революционно-преобразовательных, идеи. Недаром в романе появляется мельком миловидное лицо дворянской барышни, заболевшей рахметовщиной, спавшей на соломе и питавшейся лишь молоком да кашей. Каковы эти идеи, от кого они исходят — от революционеров или от правительства, — не важно. Их никчемность и бездарность писатель видит не только в 1860-х гг. и не только у Чернышевского. Так, гуляя по Берлину, Годунов-Чердынцев презрительно размышляет о каком-то государственном празднике (каком — принципиально неважно!):
" Из окон домов торчали трех сортов флаги: черно-желто-красные, черно-бело-красные и просто красные: каждый сорт что-то означал, а смешнее всего — это что-то кого-то могло волновать гордостью или злобой. Ныли флаги большие и малые, на коротких древках и на длинных, но от всего этого эксгибиционизма гражданского возбуждения город не стал привлекательнее среди знамен было одно с русской надписью «За Серб и Молт!», так что некоторое время Федор тяготился мыслью, где это живут Молты, — или это Молдоване? Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий — маленький ярмарочный писк грошовой истины" .
" Грошовая истина" - жалкий социальный остаток всех революций — несопоставима с тем даром внутренней свободы, которой обладает действительно свободная и суверенная личность вне зависимости от тех социально-политических условий, в которые она погружена. Само сопоставление свободы внешней — революционной, социальной, любой, отождествляемой с образом «общего места в пиджачке и кепке» , — с истинной свободой, свободой внутренней в пушкинском се понимании кажется Набокову забавным и несерьезным. Такое сопоставление делает Федор Константинович, и позиция автора здесь совпадает с позицией героя — случай не столь уж частый у Набокова.
" Все пройдет и забудется, — думает он, — и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках (если только не будет моего мира, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей, впрочем, если не хотите, не надо, мне решительно все равно)" .
Ему действительно было «все равно». Писатель, с такой последовательностью отстаивающий свою творческую и личную внесоциальность, не желающий примыкать пи к политическому течению, пи к литературной группировке, пи к творческому союзу, — явление уникальное, пожалуй, даже в литературе XX в., открывшегося символизмом, утонченными течениями в области эстетической или религиозно-философской мысли. Он стал художником, сумевшим до конца последовательно продолжить их пафос, основанный на отрицании того, что социальное служение литературы есть ее важнейшая и единственная функция, как раз и определяющая ее специфику, ибо народ, не имеющий иной общественной трибуны, использует в качестве таковой литературу. Именно поэтому Набоков не принимал саму идею социального заказа.
Эта позиция Набокова выражена не только в художественных произведениях, но и в его литературоведческих работах. Так, в знаменитом «Предисловии к «Герою нашего времени» «Набоков побранил Лермонтова за сюжетные неувязки, которые производят комический эффект, а в Бэле разглядел восточную красавицу с коробки рахат-лукума. Однако, расправившись с критиками, свято верящими словам из авторского предисловия, будто портрет Печорина «составлен из пороков всего нашего поколения», и отвергнув возможность конкретно-исторической трактонки, Набоков оценил «чудесную гармонию всех частей и частностей в романе». В эссе «Николай Гоголь» он отказался видеть социальный смысл сатиры Гоголя или сострадание к «маленькому человеку» :
" На этом сверхвысоком уровне искусства литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей" .
Разумеется, в подобной принципиально эстетической трактовке содержалось и обеднение смысла гоголевского творчества, ибо социальная проблематика неразрывна с ее эстетическим воплощением. Набоков такую связь нарочито разрывал, и это был его принцип, который он истолковывал в лекции 1958 г. «Русские писатели, цензоры, читатели». В ней говорилось о том, что русская литературная ситуация всегда характеризовалась сосуществованием двух сил, в равной степени противоестественных для свободной литературы. Одна сила — «правительство, правительственная цензура». Другая — настроенные против правительства «социально сознательные критики, утилитаристы, политические, гражданские радикалы того времени». Это были честные люди, искренне желавшие соотечественникам добра, однако и они, продолжает Набоков, деспотически подавляли литературу, только с другой стороны.
" При всех своих достоинствах эти радикальные критики стали таким же препятствием на дороге искусства, как и правительство. Правительство и революция, царь и радикалы занимали в искусстве одинаково филистерские позиции, ибо равно требовали от художника исполнения социального заказа, не допуская никаких причуд" .
Эстетизм стал не просто качеством художественного мира Набокова, проявившись в усложненности стиля и феноменальности метафор, а осознанной и декларируемой жизненной позицией, которая была сформирована обстоятельствами русского литературного бытия последних полутора столетий. Только эстетизм мог проложить некий третий путь — между правительством и революционной общественностью — для русской литературы и художника, желающего сохранить свою самость. Именно эта мысль, а вовсе не «пасквиль» на Чернышевского определяет проблематику «Дара». Ведь в центре романа находится образ художника, человека, мужественно преодолевающего и невнимание читательской публики к первой книжке своих стихов (судьба первых поэтических опытов самого Набокова), и тиранию общественных установок, наивно идеализирующих и сакрализующих революционно-демократический опыт 1860-х гг., и внутреннюю цензуру, и невнимание к себе со стороны не ставшего другом молодого талантливого литератора Кончеева, тоже явно придерживающегося эстетического направления.
В сущности, способность или неспособность личности на подобное противостояние диктату общественности, исследование форм такого противостояния и создает проблематику эпоса Набокова. Меняется сам герой: это писатель Годунов-Чердынцев, гроссмейстер Лужин, творчески одаренный герой романа «Соглядатай». В центре набоковского повествования может быть даже преступник, убийца — Гумберт Гумберт («Лолита»), герой романа «Отчаяние», даже человек, полностью лишенный нравственного закона, — Горн («Камера обскура»). И этот герой не встретит осуждения (что приводило в отчаяние первых критиков писателя), но он интересен Набокову тем, что своим преступлением и своей безнравственностью противостоит внешнему диктату, пусть и страшно уродливой формой. Так или иначе, каждый роман Набокова — роман о трагическом конфликте личности и действительности, который каждый раз разрешается по-разному: убийством своего обидчика, похитителя нимфетки («Лолита»), бегством от мира в шахматную игру («Защита Лужина»), творческим самоутверждением («Дар»).
* * *.
Таково было творческое кредо В. В. Набокова. В наследии А. С. Пушкина он нашел для себя завещание внутренней, тайной свободы, и остался верен ей и в литературе, и в действительности, отрицая саму идею свободы внешней, социальной.
" Пет, решительно, так называемой социальной жизни и всему, что толкнуло на бунт моих сограждан, нет места в лучах моей лампы; и если я не требую башни из слоновой кости, то только потому, что доволен своим чердаком" .