«Самый русский из писателей»: иван шмелев (1873-1950)
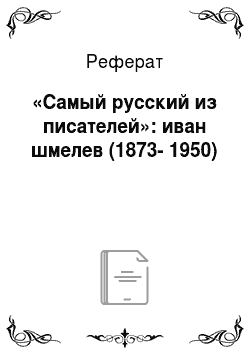
Причину упадка Шмелев видит в отступлении от Бога. «Сорвали завесу с „тайны“, — говорит доктор Игнатьев, — хулиган пришел и сорвал… до сроку сорвал, пока превращение из скотов еще не закончилось». Продолжая традиции Достоевского, писатель утверждает, что, заменив Бога человеком, недолго прийти к отрицанию вечных истин и вседозволенности; что, проповедуя происхождение человека от обезьяны, можно… Читать ещё >
«Самый русский из писателей»: иван шмелев (1873-1950) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения материала данной главы студент должен: знать
- • основные вехи биографии И. Шмелева;
- • ранние эмигрантские произведения писателя (рассказы, «Солнце мертвых»);
- • книгу «Лето Господне»;
- • как оценивалось творчество И. Шмелева в критике русской эмиграции (Г. Адамович, И. Ильин и другие);
уметь
- • анализировать проблематику и стилистику «Солнца мертвых»;
- • передавать философскую направленность «Лета Господнего»;
- • находить художественные средства писателя для создания русского национального характера;
- • выделять яркую живописность стиля Шмелева; владеть навыками
- • анализа материала о различных оценках романа «Пути небесные»;
- • подготовки рефератов об отдельных сторонах творчества писателя в эмиграции.
«Самым русским из зарубежных писателей»[1] назвал Шмелева Константин Бальмонт.
«Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза… эти глаза владеют всем лицом… наклонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо, изборожденное глубокими складками-впадинами, от созерцания и сострадания, от скорби о родине, о мире… лицо русское — лицо из прошлых веков. Таков портрет писателя в последние годы его жизни»[2], — пишет близко знавшая Шмелева племянница его жены Ю. А. Кутырина. «Изборожденное морщинами, измученное лицо с седой бородой»[3], — первое, что бросилось в глаза посетившему Шмелева немецкому писателю Томасу Манну.
Среди многочисленных фотографий и портретов писателя лучшие те, где он изображен в профиль: высокий лоб, нос с небольшой горбинкой, борода клинышком. И глаза. Глубоко посаженные, а от них лучи морщин, идущие к вискам, переходящие на подбородок. Обыкновенный, каких тысячи, русский человек, чем-то похожий на Иисуса Христа, пострадавшего за людей и не разуверившегося в них.
«Шмелев — поэт мировой скорби[4], — писал о нем видный русский философ и друг писателя И. Ильин. — Идея, которая составляла духовный предмет его творчества, — путь, ведущий человека из тьмы, — через муку и скорбь к просветлению»[5].
Иван Сергеевич Шмелев родился в семье строительного подрядчика в купеческом районе Москвы — Зарядье. Семья была глубоко религиозной, вела строгий образ жизни. «Дома я не видел книг, кроме Евангелия», — вспоминал писатель. Зато — «во дворе было много ремесленников — бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неподражаемых чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни — самой важной и мудрой. Здесь получились тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами… Слов было много на нашем дворе — всяких. Это была первая прочитанная мной книга — книга живого, бытового и красочного слова».
Московские впечатления и русское просторечное слово играют огромную роль в творчестве писателя. Восемь лет тягостной службы после окончания юридического факультета Московского университета помощником присяжного поверенного и налоговым инспектором, из которых пять лет прошли в провинции, позволили Шмелеву, по его собственному признанию, «узнать деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство» и тем самым расширить диапазон своих будущих книг до масштабов всей России.
В 1907 г., имея за плечами не одно опубликованное произведение, Шмелев решает стать профессиональным писателем и уходит в отставку.
До отъезда в эмиграцию он уже был автором 53 книг и восьмитомного собрания сочинений. Наибольшим успехом пользовалась его повесть «Человек из ресторана» (1911).
Принято считать, что в своих ранних произведениях писатель развил традиционную для русской литературы линию «маленького человека». Это, безусловно, так. Верно и то, что художник не только симпатизирует своим героям, но и, подобно Ф. Достоевскому и М. Горькому, наделяет их «душой живой», превосходящей по своему нравственному развитию тех, кому они вынуждены подчиняться или служить. Не вызывает сомнения и критическое отношение писателя к обществу, к его верхушке. Однако — и это стало ясно только после появления эмигрантских произведений писателя, — уже в ранних вещах Шмелева звучал христианский мотив прихода через муку и скорбь к «сиянию» жизни. Знаменателен воспроизведенный главным героем «Человека из ресторана» Скороходовым разговор со старичком-торговцем, укрывавшим от полиции Скороходова-младшего. Старик «сказал глубокое слово:
— Без Господа не проживешь.
А я ему и говорю:
- — Да и без добрых людей трудно.
- — Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!.."
Не менее знаменателен и тот факт, что Шмелев воспринял Первую мировую войну как осуществление пророчеств Апокалипсиса, возмездие за содеянное (рассказ «Лик скрытый») и начало всеобщей расплаты. Еще более значимо, что уже тогда он ратовал за дружную соборную жизнь (рассказ «Праздничные герои»). «Перед читателем, — писал об этом рассказе рецензент журнала „Новости детской литературы“, — встает русская старинная действительность, чувствуется атмосфера простых отношений, непосредственное сближение разных социальных положений, хотя бы только и в праздничные дни»[6].
Октябрь 1917 г. писатель расценил как нарушение норм нравственности и уехал с женой и прошедшим окопы германского фронта сыном в Крым. Там семью Шмелевых постиг страшный удар. Был арестован и увезен из Алушты, где он служил при управлении коменданта и не принимал участия в боях, единственный сын писателя Сергей, поверивший в объявленную большевиками амнистию для участников врангелевской армии. «На все мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, — вспоминал позже об этих кошмарных днях Шмелев, — мне отвечали усмешками: „Выслали на Север!“». Не зная, что Сергей давно расстрелян вместе с 60 тыс. других белых офицеров, Шмелевы кинулись в Москву в надежде на помощь. Им пришлось проехать весь Крым, видя всюду произвол, разрушения и смерть. Но увидели они и отзывчивость простых людей. От голода их спас официант, узнавший в Шмелеве автора «Человека из ресторана» и вынесший ему краюху хлеба.
Осенью 1922 г. супруги выехали в Берлин, все еще не зная о судьбе сына, а через год по приглашению И. Бунина переехали в Париж. Здесь писателя постиг второй удар: в 1936 г. умерла его жена Ольга Александровна. Иван Сергеевич пережил се на 14 лет и умер от сердечного приступа по дороге в монастырь Покрова Божьей Матери, что под Парижем. Его мечта быть похороненным в семейной могиле Донского монастыря Москвы осуществилась только 30 мая 2000 г. Сбылась и другая мечта писателя: он вернулся на родину своими книгами.
Лучшие из них — «Солнце мертвых» и «Про одну старуху» (1925), «Богомолье» (1931 — 1948), «Лето Господне» (1933—1948).
«Солнце мертвых» написано на основе крымских впечатлений писателя. И тем не менее это не воспоминания и даже не публицистические эссе, каковыми были «Окаянные дни» И. Бунина или «Последний дневник» 3. Гиппиус. И хотя повествование ведется от первого лица, было бы неверно полностью отождествлять автора и рассказчика.
Лучше всех жанр своей книги определил сам Шмелев — эпопея, т. е. предельно широкое повествование о судьбе народа, страны, истории, космоса — всего, что находится под солнцем в годину великих испытаний. Можно даже сказать, что это апокалиптическое столкновение мира Божьего с дьяволом (оба эти образа присутствуют в тексте книги).
В первом мире все одушевлено, слито в едином порыве к жизни. На первой странице появляется корова, «красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, опора семьи», что живет рядом с рассказчиком. Характерно, что у коровы человеческое имя — Тамарка. Имена, то нежные, то иронические, имеют и другие животные, один за другим входящие в рассказ: куры — Жаднюха и Торпедка, кобыла — Лярва, коза — Прелесть, козел — Бубик, павлин — Пава, еще одна корова — Цыганочка. Точно живые существа, описаны ш мелевым виноградники, грушевые деревья, розы, олеандры, миндалевые сады. Вот стоят кусты граба, «не кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки… Вот канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы… А вот, если прищуришь глаз, — забытая кем-то арфа… рядом старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами подымается змея, живая совсем, когда набегает ветер. А где-то вознесшийся черный крест, заросший…».
Казалось бы, все дано людям на радость. Мир прекрасен и благостен. «Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!.. Хорош городок отсюда (с гор. — В. А.) в садах, в кипарисах, в тополях высоких. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вотвот услышишь вечернее — „Свете Тихий“». Но, замечает писатель, городок «хорош обманчиво». Порушена цельность мира. «Не благостная тишина эта: это мертвая тишина погоста».
Все, что вчера радовало человека, нынче умирает. Две первые главы «Утро», «Птицы» переходят в трагическую третью «Пустыня». Все чаще в заголовки глав выносится слово «конец»: «Конец павлина», «Конец Бубика», «Конец доктора», «Конец Тамарки», «Три конца», «Конец концов». Гибнут сады, рубят и вырывают с корнем плодовые деревья, разрушаются розарии, засыхают олеандры. Вместе с животными и растениями гибнет и человек.
Писатель создает десятки образов людей из самых разных социальных слоев общества. Одни появляются всего на мгновение, другие переходят из главы в главу. Наиболее подробно выписан бывший вологодский мужик Иван Михайлович, ставший знаменитым профессором. Обладатель медали Академии наук за филологические труды, он просит милостыню, чтобы не умереть с голоду, сжигает мебель, чтобы не замерзнуть, но бережет четыре ящичка «из-под Ломоносова… с карточками-выписками… хороших четыре ящика! Нельзя, материалы истории языка…» Книгу дописывает. Он умрет, избитый кухарками в советской кухне: «надоел им старик своей миской, нытьем, дрожаньем: смертью от него пахло». Закончит свою жизнь самосожжением доктор Михаил Васильевич Игнатьев, чьи миндальные сады пришли в упадок. Он стал похож на чучело, «пахнет тленом», но почти до последнего философствует, пишет книгу «Апофеоз русской интеллигенции». Будет расстрелян трижды спасавшийся от смерти тихий юродивый поэт Борис Шишкин, мечтавший написать книгу «о детском, о таком чистом, ясном». Все эти люди для Шмелева, несмотря на их человеческие слабости, — святые, страдальцы. К этой же категории относятся и простые люди, населяющие книгу. Умирает от голода замечательный кровельщик со «съедобным» прозвищем Кулеш. Наелся жмыху и помер, чтобы не видеть смерти своих семерых детей, старый рыбак Николай, тщетно просивший у комиссаров помощи.
Погибают от «своей» советской власти столяр Гриша Одарюк, поверивший во вседозволенность и ставший мародером. Забили его вместе с Андреем Кривым и дядей Андреем на «революционном» допросе. История дяди Андрея — одна из самых сложных в книге. Циник и вор, он нс постеснялся украсть козла у учительницы Прибытко, обрекая тем самым ее детей на голодную смерть. И все же есть в его предсмертных оправданиях слова истины. На упрек, что он добил сироток, дядя Андрей отвечает: «Не я добил… нас всех добили».
Причину упадка Шмелев видит в отступлении от Бога. «Сорвали завесу с „тайны“, — говорит доктор Игнатьев, — хулиган пришел и сорвал… до сроку сорвал, пока превращение из скотов еще не закончилось». Продолжая традиции Достоевского, писатель утверждает, что, заменив Бога человеком, недолго прийти к отрицанию вечных истин и вседозволенности; что, проповедуя происхождение человека от обезьяны, можно дойти до отрицания духовного в пользу животного естества. «Всякая вошь (явная перекличка со словами Раскольникова „Вошь я или человек?“ — В. А.) дерзает смело и безоглядно. Вот оно, Великое Воскресение… для вши», — восклицает все тот же доктор. Но если у Достоевского переустроители мира еще мечтали через кровь «сделать человечество счастливым», то у Шмелева пришедшие к власти революционеры-практики превратили жизнь в «человеческую бойню», чтобы получить личное благополучие. Это уже даже не народный гнев на эксплуататоров за долгую беспросветную жизнь, не блоковское возмездие, а бесовщина. Интересно в этом плане сопоставление первых революционных матросов, чуть не расстрелявших профессора Ивана Михайловича и тихого почтальона Дрозда, с новыми властителями. Услышав родное вологодское слово, разглядев в «буржуе» земляка, у мирили матросы свое сердце и, как ни приказывал им мальчишка-фанатик, не стали палачами, отпустили арестованных. «Были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, — размышляет рассказчик, — но они не способны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы „нервной силы“ и „классовой морали“. Для этого нужны были нервы и принципы „мастеров крови“, для которых убийство — удовольствие, доказательство своего могущества, способ унизить человека».
Так входит в книгу тема дьявола, появляются емкие образы людей- «обезьян» и людей-«микробов». «Ужас в том, — рассуждает доктор, — что они-то никакого ужаса не ощущают! Ну, какой ужас у бациллы, когда она в человеческой крови плавает? Одно блаженство!.. И двоится, и четверится, ядом отравляет и в яде своем плодится! А прекрасное тело юного существа бьется в последних муках от какого-то подлого менингита! Оно — „папа, мама… умираю… темно., где же вы?!“ — а она, бацилла-то, уж в сердце, в последнем очажке мозга-сознания канкан разделывает под „барыню“! На автомобилях в мозгу-то вывертывает! У бациллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются, с поправочками, понятно…». К «человекам-бациллам» относится «конопатый Гришка Рагулин, вихлястый и завидущий, конокрад недавний и словоблуд», заколовший штыком недававшуюся ему женщину и защищенный от гнева народного пулеметом.
Еще страшнее и саркастичнее рисует Шмелев ставшего палачом вчерашнего пианиста Шуру-Сокола: «Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобнее и принимает женщин. Расплачивается мукой… солью. Что значит-то быть хорошим музыкантом!» Деэстетизирован и «товарищ Дерябин», бывший мясник или борец, «широкорылый, скуластый», «в бобровой шапке, в хорьковой шубе», жрущий баранину и сало, лакающий вино, орущий на голодного рыбака и цинично каламбурящий перед собранной им на «беседу» интеллигенцией: «Такие-сякие… за народную пот-кровь набили себе головы всяческими науками! Требую! Раскройте свои мозги и покажите пролетариату! А не рас-кро-ете… тогда мы их рас-кро-им. И наганом!».
Пустыми посулами обернулись для Кулеша, старой няньки, рыбака Прошки и многих других простых людей обещанья «завалить трудящихся хлебом», дать каждому по автомобилю, построить хрустальные дворцы, снившиеся героям Н. Г. Чернышевского. Вместо культурного подъема революция обернулась хаосом и разорением, уничтожением тех, кто создавал прекрасный гармоничный мир.
Так реализовался в книге один из смыслов ее заголовка. Источник жизни и радости — солнце — превратилось в «солнце смерти». «Солнце все выжгло». Оно, а с ним и жизнь, совершает «круг адский», «круг смерти», «последний круг». Уже упомянутая метафора «пустыни», образы дачикалеки, лачуг-сирот, «пшеницы с кровью», руки, пишущей на стене КушКаи (библейская реминисценция на тему Валтасарова пира, во время которого руки начертали на стене пророчество о скорой гибели царства — Дан. 5:25), в сочетании с многочисленными рассказами о смерти персонажей подготавливают апокалиптический образ крушения мира: «Никто не придет из далей. И далей нет… Смотрю на море. Свинцовое… И вот выглянет на миг солнце и выплеснет бледной жидкостью. Бежит полоса, бежит… и гаснет. Воистину — солнце мертвых!».
Мысль о бессмысленном круговороте жизни, казалось бы, подкрепляется вставной новеллой, рассказом доктора о покупке часов. Часы (традиционный символ истории, времени), купленные доктором у рыжего ирландца с гарантией, что они послужат до российской революции, отобраны у доктора этой самой революцией и, возможно, через красного Кребса или Крабса (знаменательно почти ирландское звучание фамилии русского «революционера-обезьяны») вернутся в Англию и прозвенят и там разгул бесовщины.
Однако это лишь версия доктора. Возможный, но не единственный вариант развития истории для рассказчика.
Позиция повествователя шире взглядов его собеседников. «Каторжникбессрочник», как он себя называет, рассказчик воспринимает свою жизнь и происходящее как наказание за грехи интеллигенции, не уважавшей сотворенной Богом жизни и самонадеянно взявшейся за ее изменение. Вся книга, подобно грабам, похожим то на знак вопроса, то на крест, — размышление о причинах случившегося, рассказ о крестном ходе на Голгофу (образ этот тоже введен в эпопею) и о воскресении.
При этом выявляется второе значение заголовка: солнце — надежда для мертвых, надежда на воскресение. «„Солнце мертвых“ , — писал И. Ильин, — с виду бытовое, крымское, историческое, таит в себе религиозную глубину: ибо указует на Господа, живого в небесах, посылающего людям и жизнь, и смерть».
В первой главе герой-повествователь сдал властям вместе с другими книгами и «маленькое Евангелие» и потому чувствует себя так, «словно и Его я предал». Бог на какое-то время ушел из сознания рассказчика, с детства привыкшего «отыскивать Солнце Правды». «Где Ты, Неведомое?! — взыскует повествователь. — Хочу Безмерного — дыхание Его чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски… ужасом постигаю Зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный звериный рык». Люди «в Проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты». Но к концу книги сознание героя меняется: «Коснулся души Господь — и убогие стены тесны. Я хочу быть под небом — пусть не видно его за тучами. Ближе к Нему хочу… чуять в ветре Его дыхание, во тьме — Его свет увидеть».
Писатель нашел способ художественно убедительно показать, как произошла эта метаморфоза. В главе с характерным названием «Жива душа!» татарин приносит рассказчику подарок. «Не долг это, — подчеркивает автор, — а подарок Не табак, не мука, не грушки, — восклицает автор. — Небо! Небо пришло из тьмы! Не-бо, о Господи! Старый татарин послал… татарин…».
Знаменательно, что христианин Шмелев сделал проводником Нагорной Проповеди любви к людям мусульманина. Как перед этим, в главе «В глубокой балке», в унылом крике муэдзина услышал «измученный привет утру», а в шпиле мечети увидел христианскую свечу, утверждающую, что над всем «пребывает Великий Бог, и будет пребывать вечно, и все сущее — Его Воля. Вознесите Великому молитву за день грядущий!».
И теперь, в бытовой сцене, автор вновь утверждает, что над людьми разных вер — одно Солнце.
«Аллах… — говорит в огонь сумрачное коричневое лицо. — У тебя Аллах свой… у нас Аллах мой… Все — Аллах!
…Смотрит в огонь старый Абайдулин. И я смотрю. Смотрим, двое — одно, на солнце. И с нами Бог". К Нему со страстной молитвой обращается рассказчик; обращаются люди. И Он делает чудо. Тем, кто верует в «тайную связь событий», в Провиденье Божье.
«Ничего мне не страшно, — говорит отец-дьякон, — земля родная, народ русский. Есть и разбойники, а народ ничего, хороший. Ежели ему понравишься — с нашим народом не пропадешь! Что ж, — скажу, — братцы… все мы жители на земле, от хлебушка да от Господа Бога… Так подбадривал себя отец-дьякон, веселый духом: не боялся ни огня, ни меча, ни смерти. Дерево в поле: Бог вырастил — Бог и вырвет. И вот за веру, за кротость, и за веселость духа — получил он свою корову: нашли привязанную в лесу. „Господь привел!“ — кротко сказал дьякон».
«Праведники… В этой умирающей щели, у засыпающего моря, еще остались праведники, — убеждает себя рассказчик. — Я знаю их. Их немного. Их совсем мало. Они не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки — и быотся в петле. Животворящий дух в них, и не поддаются они всесокрушающему камню. Гибнет дух? Нет — жив».
Шмелев создает целый ряд портретов таких праведников. Это уже упоминавшийся юродивый поэт Борис Шишкин. На Сергия Радонежского и Серафима Саровского (двух самых чтимых на Руси святых) похож доктор Игнатьев. Праведником на кладбище нашем называет повествователь почтальона Дрозда. Целая глава «Праведница-подвижница» посвящена многодетной вдове сапожника большеглазой Тане (читатель не может не увидеть в этом эпитете напоминание о глазах святых на русских иконах). При этом писатель употребляет слово «подвижница» и в религиозном, и в прямом смысле: с риском для жизни женщина ходит через горы за едой для детей.
К концу эпопеи рассказчик, пережив ряд сомнений и искушений, говорит словами христианского Символа Веры: «Чаю воскресения мертвых!». И уже от себя добавляет: «Я верю в чудо. Великое Воскресение да будет».
Но будет не скоро. Конец света и пришествие Нового Вечного Царства еще далеко. «Когда размотает клубок?.. Скажут горам: падите на нас! Не падают… Не пришли сроки? Прошли все сроки, а чаша еще не выпита!..». Образ чаши страданий в это время характерен не только для Шмелева, он присутствует в книгах А. Ремизова, М. Пришвина, близких по духу автору «Солнца мертвых».
Неопределенный финал (вновь кричит муэдзин «о Боге, все зовет к молитве… благодарит за новый день», а рассказчик грустит и подозревает, что наступающая заря будет для него последней) как нельзя лучше передает душевное состояние писателя в начале 1920;х гг., столь точно выразившееся в многозначности названия эпопеи — «Солнце мертвых».
Жанр эпопеи обусловил многообразие стилистики книги. В ней говорят, жалуются, стонут, философствуют самые различные люди, вместе составляющие Русь, Россию. Речи доктора — монологи грозного судии, нервные до истерики, построенные по законам не логики, а ассоциативно-художественного мышления. В них символы, метафоры, прыжки мысли. Все это порой напоминает бред сумасшедшего, адекватный происходящему. Профессор Иван Михайлович не забыл народного языка. «Говору своего не чуешь? — обращается он к земляку-матросу. — Смеются-то как про нас!.. „Ковшик менный упал на нно… оно хоть и досанно, ну да ланно — все онно!“». Самая высокая лексика в его устах приобретает мягкий человеческий оттенок: «Вот, голубушка… Христосовым именем побираюсь! Не стыдно мне это, старику, а хорошо… Господь сподобил принять подвиг: в людях Христа бужу!..» Тяжело ворочает слова непривыкший к большим речам рыбак Николай. С гневом и обидой жалуется Пашка: «Под зябры взяли, на кукане водят!.. Придешь с моря — все забирают, на всю артель десять процентов оставляют! Ловко придумали — коммуна называется. Они правют, своим места пораздовали, пайки гонят, а ты на их работай! Чуть что — подвалом грозят… А мы… — нас шестьдесят человек дураков-рыбаков — молчим». Красочно крестится и лжет вор дядя Андрей: «Шоб менэ… ну, шоб здохнуть, як собака… без попа покаяния… шоб и на сем и на тиим свите… шоб мои очи повылазили… шоб менэ черви зъилы!». И строго спокойно отвечает на эту божбу обворованная им Марина Семеновна: «Здохните, дядю Андрей… попомните мое слово! Я на вас слово знаю! Будут вас черви есть! Как вы моего козлика съели, так и…».
Трагизм эпохи особенно отчетливо выступает из детских речей, мастерски воспроизведенных художником. «Хле-а-ба-ааааа… са-мый-са-ааа в пуговичку-ууу. са-а-мый-са-аааа», — тянет маленький Вова. «А Рыбачиха-то нс сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство большое, ребят, что опят», — по-взрослому умудренно рассуждает его сестренка Ляля. Ожесточился маленький сынишка Вербы и готов за гуся застрелить человека: «Убью! Вот подстерегу к ночи да из двустволки в зад, утятником! Меня не засудят, я мальчишка… Скажу, с курка сорвалось!». Одно только слово вкладывает писатель в уста «мальчику лет десяти-восьми, с большой головой на палочке-шейке, с ввалившимися щеками, с глазами страха»: «Д… вай…». Это уже не ребенок, а «смертеныш», как метко определяет его автор.
Образ рассказчика связывает повествование воедино. Писатель дает ему свое острое зрение. Книга полна яркими описаниями, красочными деталями-подробностями. Почти каждая имеет и второй, обобщающий, смысл (минарет-свеча; миндальный сад как обозначение горечи жизни; уже упоминавшиеся грабы в виде вопроса, креста). Широко пользуется Шмелев и публицистическими обращениями к Европе, спокойно взирающей на крестный путь ее российских братьев. Сарказмом наполнены раздумья о советской «благодарности» Ивану Михайловичу за его труды. Разговорные интонации приобретает мысленная беседа рассказчика с обманутым рыбаком. Ласково-нежно, родственно говорит повествователь с коровой, павлином, курами.
Диапазон языка Шмелева, таким образом, колеблется от просторечия до высокого стиля Библии, от бытовой лексики до политических инвектив.
Символика, перевод бытового текста в бытийный (философски-обобщенный) характерны и для рассказа «Про одну старуху». В центре повествования праведница, вечная труженица, кормилица семьи.
Совесть и вера не позволяют ей взять корову расстрелянных хозяев, и старуха отправляется в крестный путь, добыть детям муки. Сюжет дороги позволяет писателю вновь дать эпическую картину. Одной-двумя фразами («и везде упокойники на линии», «мужчина на елке удавился — деньги у него вырезали», «народ как в облаве мечется») показывает Шмелев, как разрушилась привычная жизнь, как страдает Россия. Испоганились души людские. И все же где-то даже у самых отпетых есть сердце: то матрос вступится за старуху; то жадноватый попутчик, поначалу обобравший бабку, устыдится и даст ей «некоторый капитал». Кульминационной сценой рассказа является встреча старухи с пропавшим без вести сыном Никитой, ставшим красноармейцем беспощадного отряда «особого назначения». Узнав мать и выслушав страшные слова ее проклятья, застрелился Никита. Подействовала эта смерть и материнская анафема и на «отпетых» его товарищей: «Сразу как обмякли». Да и народ осмелел: «нашвырял им всяких слов». Отказалась праведница и от сыновнего кровавого наследства: награбленных денег, золота, часов, портсигаров. Плюнула на руку командиру, протягивавшему ей вещи сына: «Про… клятые!..».
«А она была божественная, хорошей жизни», — говорится о старухе в начале рассказа. «Сколько мытарств приняла, — сказано перед самым концом. — Через ее спаслись маленько» (выделено нами. — В. А.). Фраза эта несет бытовой характер (растерянность красноармейцев после самоубийства Никиты позволила спутникам старухи избежать реквизиции добытой муки) и, как предетавляется, одновременно символический. Старуха подтверждает слова рассказчика, что «не в законе правда, а в человеке». Характерно, что рассказчик теперь не интеллигент, а человек из народа, голос России. Тем значимее, что и он, подобно повествователю из «Солнца мертвых», и, может быть, даже отчетливее, формулирует важную для Шмелева мысль о том, что происходящее — наказание Господне за разрушение «надежного спокон веку», за «крутило, смуту». Форма рассказа в рассказе позволила писателю художественно убедительно, простыми словами сформулировать важнейший для него историософский вывод. «Я так соображаю, — рассуждает рассказчик, — что-либо народу гибель, либо, если выбьется из этой заразы, должен обязательно просветлеть».
Начиная рассказ о пути старухи за мукой, И. Шмелев сравнил ее сборы с «богомольем» — обрядом очищения от грехов, приобщения к Богу. Именно этот образ писатель вынес в заголовок своей новой книги.
От мрачных картин предреволюционной России художник возвращается к Руси христианской, к Москве своего детства, чтобы там найти опору для дальнейшей жизни.
Философско-эстетическая позиция Шмелева выражена в проходящей лейтмотивом фразе праведника Михаила Панкратьевича Горкина: «Делов-го пуды, а она — гуды». Она — эго и смерть, и душа, и жизнь.
По мысли художника, обыденная жизнь должна соединиться с идеальной, одухотвориться. Вот почему погруженный в коммерческие заботы Сергей Иванович, якобы «плохой молельщик», как он сам себя называет, в разгар ведущихся под его началом строительных работ не только отпускает правую свою руку — Горкина на богомолье, но и сам, бросив все, на денек приезжает в Троице-Сергиеву лавру. Однако знаток всех преданий и обрядов Горкин, принимаемый богомольцами за святого, почитает Бога не абстрактно-умозрительно, а в людях, их творениях, видит его в природе, в любом проявлении — как церковном, так и мирском. Богу равно угодно, чтобы заикающийся тихий Саня Юрцов стал монахом, а могучий красавец Федор пек хлеб, кормил людей, завел семью, воспитал детей. «В миру хорошие-то нужней!» — обосновывает свой отказ благословить Федю на монашество святой старец Варнава.
Рождение гармонии этих двух начал в душе главного героя повести маленького мальчика и составляет внутренний сюжет «Богомолья». «Родится дите чистое, хорошее, ангельская душка», одинаково открытая Земле и Небу.
В процессе путешествия мальчик встречается со множеством хороших людей, среди которых и праведники, и труженики, и страдальцы, и юродивые. Шмелев не утаивает и мрачных картин жизни (на пути богомольцев встречаются и «охальники», и корыстолюбивые нищие, и несчастные инвалиды), но все темное теперь находится на периферии повествования.
Вот почему изменились краски. В «Богомолье», как и в древнерусских житиях и повестях, преобладают золотые, розовые, ярко-синие цвета; обильно употребляются эпитеты. Авторский стиль носит подчеркнуто лирический характер, передающий настроение благодарения, умиления.
Успех «Богомолья» вдохновил писателя на создание новой книги с теми же героями, но более широким размахом повествования. По сути это была новая эпопея: о русской христианской душе.
Так родилось «Лето Господне». Название книги взято из Библии, где оно встречается в двух близких, но далеко не одинаковых контекстах. В Евангелии от Луки (4:18−19) рассказывается, что Христос вслед за ветхозаветным пророком Исайей видит свою цель в том, чтобы «проповедовать лето Господне благоприятное». При этом под «летом» имеется в виду время спасения человечества. Однако Христос оборвал своего предшественника на половине фразы. У Исайи она заканчивается словами: «и день мщения Бога нашего» (Ис. 61:2). Шмелеву тоже чужда непримиримость Ветхого Завета. Не о зле и наказании, а о добре его книга.
Две первые части построены по принципу замыкающегося календарного круга. Первая открывается описанием начала Великого поста, Чистым понедельником и завершается Прощеным воскресеньем. Между этими событиями ровно год. От весны до весны развиваются действия второй части. И лишь в третьей круг не завершен: начавшись с мая, время повествования обрывается зимой, что соответствует атмосфере скорби, пронизывающей заключительные главы книги.
Такая композиция, с одной стороны, позволила И. Шмелеву передать важнейшую христианскую идею кругового развития жизни: люди ежегодно вновь и вновь переживают евангельские события. Божий мир стабилен и един, хотя в жизни отдельного человека этот круг разрывается скорбью, смертью.
С другой стороны, избранное писателем композиционное построение создавало угрозу повторов и разрушения сюжета. Шмелеву удалось счастливо избежать этой угрозы благодаря тому, что его герой-рассказчик, взрослея на глазах у читателя, открывает в повторяющихся событиях все новый смысл.
В первой части с характерным названием «Радости» малыш воспринимает сотворенный Создателем мир, или, как он сам говорит, «Господню благодать».
Как на полотнах И. Машкова (1881 — 1944) и Ф. Малявина (1869—1940), встают перед читателем картины торговых лавок, товаров. «Стоят короба снетка, свесила хвост отмягшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчужкой. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С сапных полков спускаются пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхаются жестянки-маслососы — пошла работа! Стелется вязкий дух — теплым печеным хлебом. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, — сахарные, розовые, горчичные, с анисом — с тмином, с сольцой и маком… иереславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный Вот белый налив, — „если глядеть на солнышко, как фонарик!“ — вот ананасное царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжанель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горькая».
Не менее живописны описания еды: «За ухою и растегаями — опять и опять блины. Блины с припеком. За ними заливное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с грибками, с кашей… наважка семивершковая, с белозерским снетком в сухариках, политая грибной сметанкой… блины молочные, легкие, блинцы с яичками… еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой… желе апельсиновое, пломбир миндальный — ванилевый…».
Шмелевский герой, открывая мир предметов, в обычной свекле увидит «кроваво красный арбуз», в соленых огурцах — золото. Даже битые скорлупки от яиц необычны: «розовые, красные, синие, желтые, зеленые… в луже светятся». Да и сама лужа — чудо «в полдвора. …Вся голубая лужа, и солнце в ней, и мы с Горкиным, маленькие, как куколки, и белые штабеля досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка». Столь же наглядно, осязаемо реально воспринимается капель («за окном, как плачет»), снег («как толченые орехи или халва»), лед («сахар», «золотое и голубое утро»). Чудо, что «запел-зажурчал» чижик зимой. Чудо, что старая кобыла Кривая сама останавливается там, где много лет назад останавливалась умершая бабушка. Чудо — воробьи («хочется покачаться с ними»). Даже тараканы-прусаки вызывают интерес ребенка: «С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском.
На кончиках у них что-то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут, как будто ваксой или сухим горошком".
Юный герой Шмелева ощущает свое родство с миром, всеединство людей, зверей, природы — важнейшая особенность русского национального характера. Церковные праздники воспринимаются им, как и самим писателем, не как исторические воспоминания об ушедшем прошлом, а как сегодняшняя жизнь. «Пойдет завтра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И к нам зайдет», — внушает мальчику старик Горкин. «Кажется мне, — подхватывает рассказчик, — что и на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все для Него, что делаем. …Мне теперь ничего не страшно, потому что везде Христос». Бог — живой. Не суровый Бог Ветхого Завета, а добрый и ласковый русский Бог. Да и сама Троица — «веселый образ. Сидят три Святые с посошком под деревцем, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины». В праздник Троицы «вся земля именинница».
Вера в то, что Бог всегда рядом, что все от Него, спасает юного героя от страха перед Т-е-м-и («синими», слугами сатаны, чертями-соблазнителями), от еще детской боязни смерти.
Своего рода итогом первой части являются авторские слова, в которых Шмелев дистанцируется от своего героя и уже с высоты своих прожитых лет говорит: «Тогда всё и все были со мной связаны, и я был со всеми связан от нищего старичка на кухне, зашедшего на „убогий блин“, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном».
Тема всеединства продолжается во второй части книги «ПраздникиРадости». Автор по-прежнему не противопоставляет христианское и материальное начала (душу и мамону), но настойчиво говорит об одухотворении материи. Даже в таком сугубо мирском деле, как соление капусты, писатель видит смысл сокровенный, сакральный. Горкин произносит молитву «„над солию“: „сам благослови и соль сию и приложи ю в жертву радования…“», молитву над огурцами. Теперь, — вновь дистанциируется Шмелев от описываемого времени, — я знаю душу молитвы этой: это же — «хлеб насущный»: «Благослови их, Господи, лютую зиму перебыть… Покров Мой над ними будет». Благословение и Покров над всем". В то же время и простая верба, «наша верба, из стариковских санок, с нашего двора, от лужи», попав в Церковь, «как просветилась-то в огоньках… и вот — свяченая, со всеми поет „Осанну“. Конечно, поет она: ведь теперь все живое…».
Слово «живое» — своего рода лейтмотив второй части книги.
«Дышит» полынья; о пролетке говорится, что «конечно, она живая, дышит»; огонь в выдолбленной свекле «малиново-лиловый, живой» (причем автор, дистапциируясь от своего детства, добавляет: «Вижу живым доселе»). Крендель, подаренный отцу героя, «живой!» — «так все и говорили, что крендель в живом румянце, будто он радуется и дышит и в особенно ласковом обхождении отца с гостями».
В последних словах этой фразы — ключ к шмелевскому пониманию живой жизни. Живыми вещи и явления природы делаются только в том случае, когда с ними соприкасаются хорошие люди.
Беглые портреты окружающих мальчика людей давались автором уже в первой трети книги. Во второй и частично в последней характеры взрослых раскрылись во всей полноте, обусловливая формирование внутреннего мира ребенка.
Важнейшая роль в книге принадлежит отцу рассказчика, Сергею Ивановичу. Подрядчик, нанимающий сотни рабочих, он их «без путя не балует, под горячую руку и крепким словом ожгет, да тут же и отойдет, никогда не забудет, если кого сгоряча обидел». Он заботится о еде работников, не стыдится сам вместе с ними до пота работать (глава «Ледоколье»). Именно такое уважительное отношение к людям делает его всеобщим любимцем, истинным христианином. Не случайно мастеровые на именины дарят ему огромный калач с надписью «Хозяину благому» — выражение, употребляемое в церковном лексиконе применительно к Богу. Чтобы усилить именно этот символический смысл подарка, Шмелев рассказывает, что в Казанской церкви в нарушение всех правил ударили в честь калача и именинника в колокола).
В характере Сергея Ивановича сочетается деловитость с бескорыстием, удаль с христианским смирением. Вынужденный во имя семьи вечно думать о подрядах, заработках, не раз показанный со счетами, в деловых разговорах, Сергей Иванович тайком (не для славы) платит пенсии работавшим у него долго старикам, угощает нищих и неимущих, жертвует еду в богадельню. Не ради заработка, а из уважения к национальной святыне берет он подряд на строительство трибун к открытию памятника Пушкину. Себе в убыток строит в Москве ледяной дом по образцу описанного в романе И. Лажечникова: не из тщеславия, а из детского интереса и желания выказать русскую смекалку и сноровку, доставить радость себе и людям. О нем «все говорят, красивей-ловчее всех: „Огонь, прямо, на сто делов один, а поспевает“». А сам он всему этому предпочел бы возиться в саду, зажигать в доме лампадки, напевая свое любимое «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко… и Святое Воскресе-ние Твое… сла-а-вим».
Автор не ограничивается описанием внутренней красоты этого человека, но постоянно подчеркивает и его внешнюю красоту, в том числе и русскую щеголеватость в одежде; идущий от него запах флердоранжа, смешивающийся с запахом лошади, стружек, свежести; походку; умение держаться в седле.
Еще более многогранно выписан Шмелевым образ старшего приказчика Василия Васильевича Косого.
Рыжий, часто всклокоченный, он питает слабость к горячительным напиткам, «ублаготворяется» до потери сознания, и потому частенько попадает в сложные положения. Но все его поступки от широты души. И тогда, когда катался с горки, перевернул сани, забыл про мешок с выручкой. И тогда, когда от любви к хозяину обманул звонаря у Казанской, и тот колокольным звоном почтил калач. И тогда, когда «пересидел» немца в ледяной проруби. И тогда, когда подхватил тяжеленную хоругвь у занемогшего человека. Шмелев не раз показывает, что Василий Васильевич, пользующийся безграничным доверием хозяина, не присвоил ни копейки. Он — мастер милостью Божьей, и потому уважает таких же, как он сам, работяг, «с народом по правде поступает», но не жалует неумех-смутьянов. Характер Косого предельно полно выражен в сцене покаяния за обман звонаря. Огромный Василий Васильевич «будто дите заплакал… А преосвященный и говорит, будто про себя: „И в этом — все“». Эпизод этот настолько значим для понимания русского национального характера, что Шмелев счел нужным прокомментировать слова архиерея с высоты своих прожитых после этого события лет: «Теперь я знаю: в этом детском плаче Василь-Василича, медведя видом, было и сознание слабости греховной, и сокрушение, и радостное умиление, и детскость души его, таившейся за рыжими вихрами, за вспухшими глазами». Именно такому размашисто бескорыстному человеку поручил свою семью умирающий Сергей Иванович. «Вот перед Истинным говорю, — поклялся тогда Косой, — буду служить, как Сергей Иванычу покойному, поколь делов не устроим. А там хошь и прогоните». «И слово свое сдержал», — лаконично прокомментировал автор эту речь.
Сергей Иванович, Василий Васильевич при всей разнице их социальных положений, индивидуальностей являют единый национальный тип русского человека-христианина.
Их типичность подчеркнута введением в книгу десятков персонажей из народа, как и главные герои, наделенных широкой душой и щедрым сердцем.
При этом писатель не скрывает, что многие из них подвержены национальному недугу: отравляют себе жизнь пьянством. Но главное для Шмелева не это, а то лучшее, что несет в себе человек. Талантлив и совестлив рыбак Денис, признанный знаток реки, с риском для жизни поймавший сорванные половодьем барки. Виртуозно укрепляет на луковке церкви щит подвыпивший Ганька-маляр. Удивляет своим искусством повар Гаранька. Не хуже Шаляпина поет протодьякон Примагентов, от звука голоса которого сотрясаются и лопаются стекла в окнах. На мгновение входят в повествование солдат-инвалид Махоров, Петька-гармонист, банные мойщики и прачки или молодой пастух Ваня, от игры которого на рожке сердце заходится. Не раз покажет писатель, как участие в церковных праздниках преображает этих людей, дает им подлинное счастье. «Грязные у них руки, а лица добрые, радостно смотрят на хоругви, будто даже с мольбой взирают», — осмысляет свои впечатления ребенок-рассказчик.
Даже ссорящиеся «разные», даже обнищавший Подбитый Барин Энтальцев с его хвастовством вызывают у автора и его героя сочувствие и любовь, смягченные легким юмором. Все они «птицы небесные, создание Творца».
Тем более дороги писателю народные праведники, галерею которых в системе образов книги открывает уже знакомый читателю по «Богомолью» Михаил Горкин. Он — «сама правда», «человек старинный, заповедный», «сиянье от него идет», как от святого. Сохраняя в своем описании главное, что уже было сказано об этом старике в «Богомолье», Шмелев конкретизирует характер Горкина, делает его объемнее. Преданность вере, церкви, подчеркивает писатель, не превратила Горкина в сурового аскета, нетерпимого фанатика. Напротив, Горкин мягок, у его глаз «светятся лучики-морщинки». Он склонен к шутке, но шутке незлобивой. Полна мягкого юмора глава «Круг царя Соломона», где старик читает вовсе не то, что выпало на листе гадающему, а то, что поддержит этого человека или поможет исправиться. Сам трезвенник, Горкин заступается за пьяницу Дениса, что не мешает ему и поучать того же Дениса. Сорок седьмой год он живет при доме, помог оставшемуся рано без отца Сергею Ивановичу справиться с делом, поможет и осиротевшей со смертью Сергея Ивановича семье хозяина. Посылаемый с самыми ответственными поручениями, чудо-мастер Горкин по-детски увлеченно гоняет голубей, готов сооружать снежную бабу. Его журчащая окающая речь, полная пословиц, прибауток, поговорок, то вразумляет героя, то утешает, то придает сил. Горкин бескорыстен: не продал за большие деньги баночку зеленого стекла, свою ценную икону собирается «отказать» (завещать) мальчику. Человек небогатый, он, как и Сергей Иванович, тратит немалые деньги, чтобы в свои именины выставить угощение нищим и убогим.
Типичность такого характера для России подчеркнута введением в книгу эпизодических персонажей других праведников, таких как лесник Михаил Иванович с женой, продавец птиц «без барышей», а лишь от большой любви к птичьему пению Солодовкин, садовод Андрей Максимович, безымянный старик-цветовод, полублаженный странник во имя Божье Клавдий Квасников. Порой одноабзацный рассказ о каком-нибудь человеке вырастает в микроновеллу. Банщик Акимыч, пишет, например, Шмелев, «получает за баню выручку, а одним глазом читает толстую книгу — „Добро-то-любие“… Про Акимыча говорят, будто он по ночам сапоги тачает и продает в лавку, а выручку за них — раздает. Был он раньше богач, держал в деревне трактир, да беда случилась: сгорел трактир, и сын-помощник заживо сгорел. Он пошел в люди, и так смирился, что не узнать Акимыча».
«Живая вода» — назвал писатель главу, рассказывающую о посещении Сергеем Ивановичем с сыном бани. Но заголовок этот имеет и иной смысл. Не столько от воды, сколько от доброты человеческой, от душевности и любви окружающих его людей из народа почувствовал себя здоровым отец героя.
И напротив, глава «Ледяной дом» несет в себе не только прямой смысл рассказа о строительстве чудесного сооружения, а передает противоположную Господней атмосферу быта «живоглота» купца Кашина. Крестный мальчика и кредитор его отца, Кашин, как и дядя Егор, и мать Егора Надежда Тимофеевна, утратили русскую духовность, стали дельцами. Им не понять радость освобождения героями из клеток птиц, не понять бескорыстия Сергея Ивановича. Они лишь формально ходят в церковь, но не испытывают потребности приобщения к Богу, к вечному, иронизируют над верой. Символично, что именно после богохульств Кашин и Егор проиграли в карты крупную сумму денег — единственное, что могло их взволновать и стать своего рода наказанием. Правда, и в повествовании о чуждых ему людях Шмелев остается предан христианской вере в раскаяние и воскресение грешника, рассказывая, как праведная смерть Сергея Ивановича заставила и «живоглотов» признать, что есть высшая правда на земле.
На протяжении всей второй части книги писатель показывает, как общение с отцом, Горкиным, Косым, народом и даже с крестным, его сыном и дядей Егором формирует в герое христианское отношение к людям. Мальчик понимает, что, плюнув в охальника Гришу, он не восстановил справедливость, а согрешил. Ведь за каждым ангелы стоят, каждый человек «образ-подобие» Бога. И герой в одном случае извиняется перед Гришей, в другом — говорит ему в ответ на циничную фразу мягкие слова, чем, к своему удивлению, хоть и на минуту вызывает смятение грешника. В другом эпизоде ребенок-повествователь глубоко проникается драмой Дениса и, когда тот от отчаяния отдает ему свой талисман успеха — огромного рака, возвращает подарок и тем вселяет в душу обезверившегося человека надежду на счастливый исход его судьбы.
Именно во второй части показано начало формирования у героя понятия жизни — крестного хода, или, другими словами, радость жизни осложняется раздумьями о смерти.
Третья часть — «Скорби» — довершает эти раздумья.
Вновь, как и в «Богомолье», появляется мотив «Трудов пуды, а она туды». Загадочные слова вскоре умершей Пелагеи Ивановны о себе («Пора и на паре, с песнями!») и племяннике («Горячая голова… остынет»), вещие сны Горкина и Сергея Ивановича, пропажа самовара, незаселенные скворечники (птицы почуяли грядущую «пустоту»), вой собаки, невероятное цветение сада и ядовитого «змеиного цвета», гибель голубей — все служит провидческим предзнаменованием смерти, еще одним подтверждением единства человека и природы и, может быть, дополнительным доказательством святости любимых героев автора: Бог дает только праведникам возможность почувствовать приближение смертного часа.
Писателю христианской культуры Шмелеву важно художественно передать мысль Символа Веры о неизбежности воскресения и вечной жизни.
Еще во второй части (глава «Крестопоклонная») Горкин внушает ребенку мысль, что «нету упокойников никаких, а все живые у Господа», приводит начальные слова тропаря Вербного Воскресенья («Обчее Воскресение прежде Твоея страсти уверяя…»), имеющее следующее, хорошо известное христианским читателям Шмелева, продолжение: «…из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Божий». Тема воскрешения Лазаря — не только важнейшая в православных преданиях, но и весьма распространенная в русской литературе. Достаточно вспомнить произведения Ф. Достоевского.
Но одно дело для ребенка понять христианскую истину умом, другое — столкнуться со смертью на практике.
Сложность решения темы заставила И. Шмелева чаще, чем в двух первых частях, прибегать в третьей к принципу дистанциирования: то, что ребенок воспринимает эмоционально и потому однозначно, старый писатель видит по-мудрому многосторонне.
Для мальчика смерть отца — трагедия. Радостное веселое восприятие жизни померкло. Шмелев подчеркивает это, вводя в главы третьей части те же самые церковные праздники и сопровождающие их мирские события, что были в первых двух частях. Главам «Горькие дни» и «Соборование» соответствуют в первых частях «Яблочный Спас» и «Покров». Но теперь ни яблоки, ни засолка капусты при почти полном совпадении деталей не вызывают радости. Ожидание смерти подавило все. Не может ребенокрассказчик смириться с потерей отца. И потому психологически вполне оправданны и его ожидание чуда, и протест, когда чуда не случилось. Иное дело воспоминания прожившего долгую жизнь автора об этом же событии: «Все мы расстроены, места не находим, кричим и злимся, не можем удержаться, — „горячи очень“, все говорят. (Это непосредственное восприятие мальчика. — В. А.) Я тоже много грешил (выделено нами. — В. А.) тогда, даже крикнул (Шмелев меняет формы глаголов: с настоящего времени на прошедшее, тем самым дистанциируясь от детства и вынося более скорректированную оценку описываемого. — В. А.) Горкину, топая: „Все сирот жалеют!.. О. Виктор сказал… нет, благочинный!., „на сирот каждое сердце умягчается“. ГТапашенька помирает… почему Бог нас не пожалеет, чуда не сотворит…“».
Писатель не ограничивается тем, что суть этого греха ребенку объяснил Горкин, но выстраивает чрезвычайно сложную композицию заключительных глав и событий, приводящую к желаемому христианскому итогу.
Три первых главы третьей части «Святая радость», «Живая вода» и «Москва» подводят итог двум предшествующим частям: прекрасна земная жизнь, в которой высшую ценность составляет взаимная любовь людей и чувство родины. Пожалуй, нет в литературе XX века столь проникновенного описания русской столицы, Первопрестольной, как в главе «Москва». Не случайно автор вводит в нее стихи Ф. Глинки и А. Пушкина. События трех названных глав, повествующих о временном выздоровлении Сергея Ивановича, служат живым подтверждением слов Горкина о том, что «бывает [Божье] милосердие от смерти к жизни». Но тут же мудрый старик говорит, что «еще бывает милосердие к праведной кончине». И слова эти, как и вся глава «Серебряный сундучок», где они произнесены, подготавливает переход к драматической части повествования.
Характерно, что в авторской речи ни разу не употребляется слово «умирать». Сергей Иванович «готовится уходить», «отходит», «благословляет остающихся» (глава «Благословение детей»). Он просит прощения у Бога (глава «Соборование»), что, как и само святое действо, предполагает или возвращение к жизни, или уход Туда. Над постелью умирающего читают отходную. Да и сама его смерть — лишь кончина земного бытия. «Господи, неужели умирает?., вот сейчас, там?.. И скорбный, будто умоляющий голос батюшки… говорит мне — отходит». В той детской жизни победила естественная привязанность к отцу: герой впал в горячку, хотя разумом и понял слова Горкина, что Там все встретятся. В отдаленном времени писатель Шмелев утешается словами Анны Ивановны о том, что и можжевельник, устлавший последний путь отца, и душа человеческая бессмертны.
Настойчиво подчеркивается писателем и мысль о единстве отошедших и живых. Сергей Иванович «ушел» к не раз упоминаемой и сохраненной в памяти многих бабушке Устинье, к своему отцу. Сыну Ивану он передал фамильную икону Пресвятой Троицы. «Радостный образ-те, — говорит о ней Горкин, — три лика под древом, и веселые перед ними яблочки. А в какой день-то твое благословение выдалось… на самый на День Ангела, касатик! Так папашенька подгадал, а ты вникай». Передача образа сыну подразумевает и заповедь той праведной по-христиански веселой жизни, которую вел сам отец. И действительно, в главе «Кончина» мальчик проявляет отцовское благорасположение к людям, когда стыдится злых слов сестры о «правильном, совестливом человеке» Пал Ермолаиче, когда он извиняется перед стариком, что того не напоили чаем, а в ответ слышит от растроганного старика: «А ты, заботливый какой, ласковый, сударик… в папашепъку». Земная жизнь, по Шмелеву, продолжается в детях.
«Всегда он во мне живой?! И будет всегда со мной, только я захочу увидеть». Эти размышления ребенка подхватывает и сам автор, варьируя их во всех частях книги. «Вот и вспомнил. И все-то они ушли» (глава «Пасха»). «Думал ли я, что все они ко мне вернутся, через много лет из далей… совсем живые, до голосов, до вздохов, до слезинок, — и я приникну к ним и погрущу!..» (подглавка «Обед „для разных“»). «Слышу и вижу быль, такую покойную, родную, омоленную душою русской, хранимую святым Покровом» (глава «Покров»). По сути дела вся книга Шмелева — доказательство единства прошлого, настоящего и будущего. Будущего — потому, что нет уже давно Шмелева и описываемой им Руси, но живет она в сердцах читателей, хранимая Богом и Ангелами.
Мотив ангелов-заступников столь важен писателю, что он настойчиво подчеркивает, что благословение детей совершено в именины наследника Сергея Ивановича. Отец как бы поручил мальчика его Ангелу. Сам он отошел на другой день своего Ангела, который и позаботится о его душе. А день похорон совпал с именинами его жены — и Ангелу предстоит утешить вдову, помочь ей жить дальше. Именно этот христианский мотив надежды на Бога и святых, мотив, удачно соединяющийся с русским оптимизмом, и завершает книгу. Закончилось детство героя. «Это последнее прощание, прощание с родным домом, со всем, что было». Ничего не видно из-за дождя, но слышно, как ноют «Вечную память, вечную», да слова молитвы:
…Свя-гы-ый… Бес-сме-э-эртный…
По-ми… и… луй…
на… а… ас…".
В «Богомолье» и особенно «Лете Господнем» в полную меру проявился талант Шмелева — художника слова. Выше уже приводились замечательные шмелевские описания-перечни лавок, еды, явлений природы, людей. В них — неповторимый колорит начала XX века.
Не менее красочен писатель при передаче языка своих персонажей. Люди из народа много и охотно употребляют пословицы, поговорки, прибаутки, часто связанные с религиозными понятиями, обрядами и приметами: «У Бога всего много»; «Пришел пост — отгрыз у волка хвост»; «Перелом поста — щука ходит без хвоста»; «Подошли Спасы — готовь запасы»; «Варвара-Савва — мостит, Никола — гвоздит». И персонажи, и рассказчик умеют найти яркие, порой грубоватые определения тех или иных действий, предметов: яблоко маслится; женщина толстая и сырая; лошадей тпрукают; на санках рухают с гор; открываемые пробки попукивают; едоки чавкают, хрупают; место на реке для стирки белья — портомойня (от слова «портки»).
Шмелев донес до современного читателя подробности калядования, катаний с гор, «в блина игры», состязаний купающихся в проруби. В «Лете Господнем» множество песен: от озорных дразнилок до старинных похоронных, от пастушьих до городских мещанских романсов.
Особый пласт составляет церковная лексика. В обоих книгах приводятся цитаты из Евангелий, тропарей, псалмов, молитв. С одной стороны, это придает повествованию возвышенно духовное содержание. Но с другой стороны, Шмелев настолько тесно соединяет старославянизмы с бытовой лексикой, что избегает какой бы то ни было велеречивости. Можно сказать, что сакральное у него обытовлено, а быт одухотворен.
«Лето Господне» завершено писателем в 1944 г.
В 1948 г. вышел большой роман «Пути небесшие» (не закончен), в котором герои, пройдя через многие испытания, искушения и нападения злых сил в упорной борьбе с грехом в себе и внешними соблазнами приходят к «благодатному озарению» и к Богу. Автор пытается соединить традиции русского классического романа и жанры жития и поучения. Книга вызвала неоднозначную оценку критики. Одни критики увидели в нем смелую религиозную проповедь, своевременно прозвучавшую в материалистическую эпоху (А. Амфитеатров), другие — сентиментальность и антиевропеизм (Г. Адамович).
Литература
(аннотированный список)
- 1. Шмелев, И. Собрание сочинений: в 6 т. / И. Шмелев. — М.: Известия,
- 2011.
В первый том Собрания сочинений И. С. Шмелева вошли: автобиография, повести и рассказы, написанные в дореволюционный период (1911 —1916), в том числе «Человек из ресторана», а также созданная писателем в первые годы эмиграции эпопея «Солнце мертвых» (1923). Во второй том — рассказы и очерки, написанные в 1925—1930 гг. в эмиграции, в том числе «Про одну старуху», «Куликово Поле», разделы «Родное. Про нашу Россию. Воспоминания» («Душа Родины», «Старый Валаам», «Душа Москвы»), «Рассказы о России зарубежной». Третий том включает в себя рассказы и очерки 1930—1950;х гг. и роман «Няня из Москвы» (1932—1933). Четвертый том представляет читателю произведения, которые он сам считал в своем творчестве главными («лучшего не напишу»): «Лето Господне» (1933—1948) и «Богомолье» (1935—1948). В книгу входят также рассказы 1932—1950;х гг., продолжающие тему «утраченной России». Роман «Пути небесные» — в пятом томе. Он является, по выражению самого автора, «опытом духовного романа», над которым писатель работал более 15 лет: т. I — 1937 г.; т. II — 1948 г. Следуя традициям великой русской литературы XIX века, Шмелев воссоздает реальную историю взаимоотношений двух людей, их жизненного и духовного пути. Шестой том — роман «История любовная», неоконченные романы 1930 г. «Солдаты» (об офицерах русской армии) и «Иностранец» (о судьбе русской эмиграции в Европе).
Все тома снабжены подробными комментариями.[7]
3. Ильин, И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин. Ремизов. Шмелев / И. Ильин // Ильин, И. Собрание сочинений: в 10 т. — Т. 6. — Кн. 1. — М.: Русская книга, 1996.
Книга выдающегося русского православного философа — лучшее исследование творчества И. С. Шмелева как с идейных, так и с эстетических позиций. В отличие от Г. Адамовича критик считает, что писатель не идеализирует старую Россию, а постигает ее нравственное величие.
4. Китырина. 10. А. Иван Сергеевич Шмелев / Ю. А. Кутырина. — Париж, 1960.
Воспоминания родственницы и душеприказчицы И. С. Шмелева. Содержится много фактов биографии писателя, его высказываний.
Отрывок из книги о крымской жизни писателя «Трагедия Шмелева» // Слово. — 1991. -№ 2. -С. 63−66.
5. Михайлову О. Н. Иван Шмелев / О. Н. Михайлов // Михайлову О. Н. Литература русского зарубежья. — М.: Просвещение, 1995.
Глава в обширной монографии одного из ведущих исследователей творчества И. Шмелева, много сделавшего для возвращения книг писателя к отечественному читателю. Подробно рассмотрены биография Шмелева и все его основные произведения.
6. Сорокина, О. Московиана: жизнь и творчество Ивана Шмелева /.
О. Сорокина. — М.: Моек, рабочий; Скифы, 1994.
Перевод защищенной в 1965 г. в США и изданной в 1987 г. диссертации заслуженного профессора Калифорнийского университета (Беркли) в отставке Ольги Николаевны Сорокиной.
Она использовала материалы архива Шмелева, находившиеся в свое время у его родственницы Ю. А. Кутыриной, а также собрания документов Колумбийского и Мичиганского университетов США и личных архивов близких к писателю людей. Именно это делает книгу бесценной для изучения биографии писателя. Особенно подробно описан эмигрантский период жизни художника.
Значительно слабее аналитическая часть исследования.
7. Есаулову И. Праздники. Радости. Скорби: Литература русского зарубежья как завершение традиции / И. Есаулов // Новый мир. — 1992. — № 10.
Статья построена на сопоставлении художественного мира И. С. Шмелева, рассматриваемого автором как продолжателя русской духовной традиции в литературе, и В. Набокова, но мнению И. Есаулова, разрушающего эту традицию.
8. Черникову А. П. Проза И. С. Шмелева: концепция мира и человека /.
А. П. Черников. — Калуга, 1995.
В своей документальной части книга уступает книге О. Сорокиной, но содержит более глубокий анализ творчества писателя. Особенно удались автору главы, посвященные анализу «Человека из ресторана» и «Богомолья». Подробно пересказан роман «Пути небесные».
Особую ценность представляет список литературы о жизни и творчестве И. С. Шмелева, включающий в себя как отечественные, так и зарубежные источники, а также названия сборников тезисов и диссертаций.
9. Солженицыну А. Иван Шмелев и его «Солнце мертвых». Из «Литературной коллекции» / А. Солженицын // Новый мир. — 1998. — № 7.
Солженицын утверждает, что «Солнце мертвых» «в русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о большевизме… широкое осмысление всего содеянного». Вместе с тем автор «Одного дня Ивана Денисовича» считает, что «начатая тоном отрсченности от жизни и всего дорогого, повесть и вся прокатывается в пронзительной безысходности», что «„Чаю Воскресения Мертвых! Великое Воскресенье да будет!“ — увы, звучит слишком неуверенным заклинанием».
Значительным достижением автора книги критик называет показанных Шмелевым типов из простонародья.
Отмечены некоторые стилистические находки писателя.

- [1] Бальмонт К. И. С. Шмелев // Последние новости. 1933. 5 окт. С. 3.
- [2] Кутырина Ю. Л. Иван Сергеевич Шмелев (краткий очерк жизни и творческий путь) //Шмелев И. Солдаты. Париж, 1962; [Электронный ресурс]. URL: http://shmelev.lit-info.ru/shmelev/proza/soldaty/kutyrina-shmelev.htm (дата обращения: 30.01.2017).
- [3] Цит. по: Переписка И. С. Шмелева и Томаса Манна / публ. Ю. А. Кутыриной // Мосты.1962. № 9.
- [4] Ильин И. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. Кн. I. С. 399.
- [5] Там же. С. 365.
- [6] Новости детской литературы. 1916. № 5. С. 25.
- [7] Адамович, Г. Шмелев / Г. Адамович // Адамович, Г. Одиночествои свобода: литературно-критические статьи. — СПб.: Logos, 1993. Автор статьи, известный критик Русского Зарубежья, отдавая дань уважения таланту писателя, полемически рассматривает творчество И. Шмелева как идеализациюпрошлого. Критически оценен роман «Пути небесные» (1937—1948, не закончен).