Споры об авторской воле
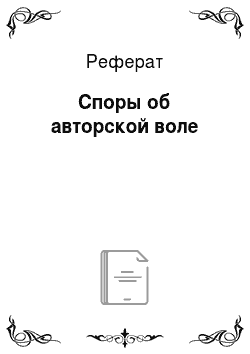
В знаменитом письме к П. А. Вяземскому (1825) А. С. Пушкин писал Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали… Читать ещё >
Споры об авторской воле (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Введение
все новых документов, в том числе писем и дневников, в читательский оборот неизбежно порождало споры и упреки современников. Эта традиция, начатая, пожалуй, «Исповедью» Руссо и «Дневником…» Лафатера (якобы опубликованными без ведома авторов), нашла яркое отражение и на национальной почве. Для историка литературы знаменательным является тот факт, что большинство данных споров затрагивало этическую сторону вопроса. Это предполагало осмысление писателя не как «небожителя», а, наоборот, современника, чья репутация и честь требуют защиты.
В знаменитом письме к П. А. Вяземскому (1825) А. С. Пушкин писал Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Поступок Мура лучше его «Лалла-Рук» (в его поэтическом отношенье). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе. — Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать — braver — суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно[1].
В упоминании Байрона И. Немировский усматривает элемент скрытой полемики: «Пушкин смог сделать то, чего не смог сделать Байрон, а именно „произнести строгий суд над самим собой“. Проявилось это не в том, что именно поэт написал о себе, поскольку все равно „быть искренним — невозможность физическая“, а в том, что у поэта хватило критического отношения к себе, чтобы уничтожить их самому, не перекладывая это нужное дело на плечи друзей»[2]. С точки зрения авторефлексии особенно примечательны выделенные курсивом слова: представляя ответ на моделируемое поэтом мнение толпы, они свидетельствуют о поиске новой нормы, отличающейся от существующей. Не меньше вопросов оставляет и коммуникативная природа этого письма и подобных писем писателя — оставаясь глубоко личным текстом, ориентированным на личного адресата, высказывания поэта в данном случае предполагают обобщение. К концу письма эта интенция становится доминирующей, заменяя метаописанием обстоятельства личной коммуникации.
Сегодня, располагая множеством подобных свидетельств, современные читатели могут найти развернутые (часто негативные) высказывания критиков и писателей о биографах, как будто бы нарушающих писательскую волю. Этот этический вопрос неоднократно затрагивался в публицистике второй половины XIX века.
В частности, в 1889-м году, за два года до смерти, И. А. Гончаров опубликовал в журнале «Вестник Европы» свою статью «Нарушение воли». Предметом статьи стало печатно выраженное несогласие со сложившейся к тому времени практикой печатать письма и личные документы ушедших из жизни писателей. Гончаров, основываясь на этической стороне вопроса, полагал нарушением воли «…переводить на бумагу интимный разговор между собою двух близких лиц, который при свидании вели бы в кабинете, на прогулке, с глазу на глаз, не подозревая, конечно, никакой измены доверия с обеих сторон»[3].
Общество не терпит сплетников: их остерегаются, запирают от них двери. Тем более осмотрительно, казалось бы, следовало поступать в печати, не упрочивая сплетни на весь мир. Между тем это творится сплошь и рядом. Разных известных, — не говоря уже о знаменитых, — деятелей, писателей, ученых, художников, заставляют самих, в их письмах, не назначавшихся ими для печати, рассказывать о себе и о других то, чего они, очевидно, вслух вовсе не желали рассказывать[4].
Поводом для печатного обращения стало появление писем А. С. Пушкина (под редакцией И. С. Тургенева), К. Д. Кавелина, И. Н. Крамского и самого Тургенева. Если письма Кавелина, с точки зрения Гончарова, позволяли составить представление об устройстве гражданских дел, а письма Крамского в его интерпретации становились своеобразным учебником по русской живописи («практическое руководство для художника, целый курс живописи — с умозрительной, эстетической и критической сторон, который благотворно действовал бы на развитие всякого интеллигентного, сознательного художника»)[5], то многие письма из личного архива Пушкина или Тургенева, скорее наоборот, вредили репутации их создателей.
Писатель крайне негативно отозвался о перспективах печатания личных писем, в которых содержится частная информация, не предназначавшаяся для обнародования:
— Пропадать ли?
Конечно, пропадать, если автор сам обрек письма на забвение, ибо поступить вопреки, — значит, совершить грубое насилие его воли.
Против гласности мудрено восставать, как против Архимедова рычага, по-своему двигающего миром, но есть такие уголки в частной жизни, которых не должен касаться этот рычаг. Если в самой природе есть тайны, то в людской жизни есть свои наготы, где необходимо покрывало; этого требует простая пристойность. Я разумею индивидуальную, частную жизнь, которая должна быть защищена, ограждена, respectee (говоря непереводимым в этом смысле французским словом); это основной закон общежития. Типично общественная жизнь доступна всякому наблюдателю, мыслителю, ученому, писателю, художнику, которые изучают, разрабатывают и изображают со всех сторон и во всех деталях, никого лично и индивидуально не оскорбляя, не задевая и не насилуя чужой воли и прав[6].
Обращаясь к письмам своего ближайшего современника и оппонента — Тургенева — Гончаров замечал:
Набросанные, таким образом, в кучу, эти письма, так же как и письма Пушкина, при чтении a la longue, целиком, производят крайнее утомление, несмотря на мастерской язык, на искры остроумия, свойственные таким талантам. Письма эти читаются вовсе не так, как художественные произведения тех же авторов, не потому только, что они небрежны, что автор является во многих нараспашку. Читая их, как будто едешь по нескончаемому парку, с длинными однообразными аллеями, где нет остановки, центра, не на чем успокоиться глазу. Можно возвратиться назад и начать с первых страниц или броситься в конец и читать обратно — все одно и одно. Точно льется непрерывный, однообразно журчащий каскад. Читатель пробегает письма, как равнодушный прохожий зевает на улице мимоходом в нижние этажи домов; там сидят за обедом, там играют в карты, тут занимаются музыкой и т. д. Кажется, разнообразно. Он мельком взглядывает в одно окно, другое, третье и идет дальше, и, выбравшись на простор, он забывает все это разнообразие, всю пестроту, не знает, на чем остановиться, все смешивается в бесцветное пятно, и он чувствует себя только крайне утомленным, не вынося никакого цельного впечатления.
Кажется особенно показательным, что, подводя итог своим рассуждениям, Гончаров практически повторяет мысль Пушкина, высказанную им по поводу записок Байрона (а в конце статьи прямо ссылается на приведенное выше письмо):
И говоря правду, в обширном смысле, я не понимаю, а если и понимаю, то не сочувствую стремлению рыться глубоко в частной, интимной жизни писателя, художника, ученого: еще пусть допытывались бы, и это нетрудно, где он учился, что читал, как работал и т. п.; а то хотят знать все мелочи: что он ел, пил, какие имел привычки и прочее, вовсе к делу не идущее. К чему тут частная жизнь? Зачем, например, знать, что Байрон был не строгой нравственности, что Жорж Занд носила в молодости мужской костюм и отличалась разными капризами… а Руссо был просто — что называется — рукой махнуть! Поэт, ученый, живописец, ваятель выражают то или другое, что они хотели выразить так или иначе в своих творениях, и надо бы, по здравому смыслу и чувству справедливости, довольствоваться тем, что выражено в книгах, поэзии, картинах и изваяния этих деятелей, и подвергать последние суду критики за выраженное ими. Нет, начнут добираться, каков сам был деятель, разбирают связь писателя или художника с его произведениями, согласен ли его характер, нравственные свойства с тем, что им выражено, и почему, и как? И пойдут и пойдут — судить, трепать его, казнить или миловать. А потребно едино: как и чем он служил науке, искусству, какими произведениями или подвигами, — а все другое, закулисное в частной жизни, нужно, кажется, больше всего самим изыскателям, — чтобы себя показать, свой ум, стойкость и верность суда и т. п.[7]
Разумеется, рассуждая о судьбе частных документов своих современников, Гончаров, осознавая себя современником и «наследником» Достоевского, Тургенева, Крамского, думал в то же время и о себе. В этом отношении статья становилась своеобразным завещанием Гончарова, прямо указывающего «не печатать ничего», что он не напечатал при жизни. Тем не менее, эта человеческая, писательская воля, не была соблюдена после смерти писателя: изданы его произведения, не предназначавшиеся для печати (например, «Необыкновенная история»), письма, рецензии и деловые документы. Сегодня, как и у многих других писателей, продолжается издание полного собрания сочинений писателя.
Как разрешается этот этический парадокс? Личная воля писателя определяется юридически, она зависит от правового статуса закрепляющего ее документа (и от распоряжения тех, в чье ведомство попадают эти документы post factum). В то же время литературное наследие во всем своем объеме перестает быть принадлежностью умершего писателя и практически всегда становится достоянием читателей и исследователей.
Однако при печати этих документов учитывается авторская воля, а именно: на основания анализа рукописей писателя, учитываются все ее варианты, отступления от авторского слова признаются недопустимыми. Авторская воля, являясь термином текстологии, не имеет отношения к биографии и практически никогда не предполагает учета экстралитературных факторов.
Так, человеческая воля писателя была нарушена, однако авторская воля, принадлежащая уже не автору, а его читателям охраняется на уровне его текстов и ответственности текстолога за некогда сказанное слово писателя.
Итак, мемуарная и автобиографическая литература содержит в себе «фермент недостоверности», связанный как с повествовательной природой подобных текстов, так и «аберрациями памяти» авторов мемуаров. Большинство мемуарных текстов ориентировано на протожанры притчи, предания и анекдота.
«Литературные воспоминания» второй половины XIX века — важная часть русской словесности, позволяющая увидеть развитие литературы через быт. Кроме того, «воспоминания» традиционно рассказывают о своем авторе, что позволяет рассматривать их не только как источник для биографических реконструкций, но и материал для изучения идентичности писателя.
История биографических разысканий неотделима от рефлексии писателей, чьи документы и письма становились достоянием общественности. Эта рефлексия, выраженная в частных и общественных жестах, в ряде случаев определяет энергию сюжетов художественной литературы.
- [1] Пушкин А. С. Письмо Вяземскому П. А., вторая половина ноября 1825 г. Михайловское // Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 16 т. Том 13. Переписка, 1815—1827. — 1937. — С. 243—244. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959.С. 243—244.
- [2] Немировский И. Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкциипубличной биографии. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 249.
- [3] Гончаров И. А. Нарушение воли // Гончаров И. А. Собр. соч. В 10 т. Том 8. М" 1952. С. 178
- [4] Там же. С. 179.
- [5] Там же. С. 183.
- [6] Там же. С. 184.
- [7] Там же. С. 186.