Третий АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗНАНИЯ (АВТОРСКИЙ ВАРИАНТ)
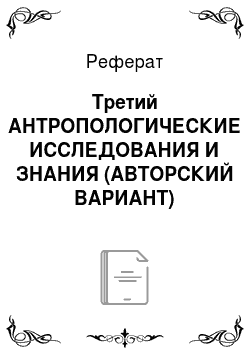
В перечисленных работах я старался показать, что психика является культурно-историческим образованием. В разных культурах (на разных этапах онтогенеза) у человека разная психика, а следовательно, необходима историческая психология, в которой анализировалась бы психика людей разных культур. На первых этапах развития (архаическая культура и культура древних царств, соответствующие периоду… Читать ещё >
Третий АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗНАНИЯ (АВТОРСКИЙ ВАРИАНТ) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
В основе культурно-исторической теории лежат две основные идеи: идея исторического подхода («…предполагались закономерности чисто природного, натурального или чисто духовного, метафизического характера, но не исторические закономерности») и идея ведущей роли в развитии психики знаков и социальных факторов. («Новому типу поведения с необходимостью должен соответствовать новый регулятивный принцип поведения. Мы находим его в социальной детерминации поведения, осуществляющейся с помощью знаков[1]».).
Никто в психологии вроде бы не отрицает идеи культурно-исторической теории, но практически почти никто их и не развивает (об исключении скажу ниже). Признавая важное значение знаков в становлении психики, вспомним принципиальные утверждения Выготского: «Человек вводит искусственные стимулы, сигнифицирует поведение и при помощи знаков создает, воздействуя извне, новые связи в мозгу»; «в высшей структуре функциональным определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления»[2]. Современные психологи что-то не спешат обращаться к семиотике, чтобы на ее основе уточнить или перестроить свои понятия. Более того, идеи историзма и культуры, на которых так настаивал Выготский, тоже только проговариваются. Реальный же анализ психики по-прежнему ведется в молчаливом предположении, что существуют вечные законы психики, которые везде одинаковы, берем ли мы современного образованного человека, или аборигена, или средневекового монаха. Критикуя этот подход, Выготский еще в конце 20-х годов писал: «В основе психологии, взятой в аспекте культуры, предполагались закономерности чисто природного, натурального или чисто духовного, метафизического характера, но не исторические закономерности. Повторим снова: вечные законы природы или вечные законы духа, но не исторические законы»[3].
Правда, мне могут возразить, указав на работы А. Н. Леонтьева, который, развивая идеи культурно-исторической теории, писал о развитии деятельности и «личностных смыслах». Но не пошел ли он, напротив, в другом направлении, повернув прямо назад от теории Выготского. Ведь идея деятельности, понимаемая как предметная реальность, которую, непонятно почему, приписывают Выготскому, как раз закрывает дорогу культурно-исторической теории, точно так же как идеи сознания и смысла совершенно не эквивалентны идее знака (сигнификации), зато вполне оправдывают трактовку психики в плане вечных законов духа. Характерно замечание последователей А. Н. Леонтьева в словаре «Психология» (под общей редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского). «Культурно-историческая теория подвергалась критике, в т. ч. со стороны учеников Л. С. Выготского, за неоправданное противопоставление „натуральных“ и „культурных“ психических функций; за понимание механизма социализации как связанного преимущественно с усвоением знаково-символических (языковых) форм; за недооценку роли предметно-практической деятельности человека. Последний аргумент стал одним из исходных при разработке учениками Л. С. Выготского концепции структуры деятельности в психологии»[4]. Однако каким образом возможна культурно-историческая трактовка психики, если не разводить «натуральные» и «культурные» функции, сводить значение знаков к их смыслам, а сложную реальность, включающую социокультурные, институциональные (в частности, образовательные) и личностные процессы, — к предметно-практической деятельности?
Безусловно, Лев Семенович Выготский не всегда был последователен в своих построениях и методологических установках, давая своим последователям поводы для творчества в духе, противоположном основным идеям культурно-исторической теории. Но и здесь, нужно сказать, проблемы и противоречия лежат в другой плоскости. Как, спрашивается, Выготский понимает развитие психики? Как овладение собственными психическими процессами с помощью знаков под влиянием социальной детерминации со стороны общества. «Новому типу поведения, — пишет Выготский, — с необходимостью должен соответствовать новый регулятивный принцип поведения. Мы находим его в социальной детерминации поведения, осуществляющейся с помощью знаков… Если вслед за Павловым сравнить кору больших полушарий с грандиозной сигнализационной доской, то можно сказать, что человек создал ключ для этой доски — грандиозную сигналистику речи. С помощью этого ключа он овладевает деятельностью коры и господствует над поведением… Но вся сложность вопроса становится очевидной, как только мы соединяем аппарат и ключ в одних руках, как только мы переходим к понятию автостимуляции и овладения собой. Здесь и возникают психологические связи нового типа внутри одной и той же системы поведения»[5].
То есть, хотя ведущим является социальная детерминация («Не природа, но общество должно в первую очередь рассматриваться как детерминирующий фактор поведения человека. В этом заключена вся идея культурного развития ребенка»[6]), человек овладевает своим поведением сам, отсюда фразы «аппарат и ключ в одних руках» и «автостимуляция». Точно, как у И. Канта, хотя человек сам порождает реальность, но на основе априорных начал, и ведет его разум, который, в конце концов, оказывается Творцом. У Выготского человек тоже сам овладевает поведением, но ведет его не Творец, а общество или, если речь идет о ребенке, педагог как его представитель. Естественно возникают два принципиальных вопроса: что же это за человек, который с самого раннего детства может овладевать своим поведением (мы знаем, что даже не каждый взрослый на это способен) и каким образом происходит социальная детерминация? На первый вопрос Выготский отвечает так: овладевать своим поведением может только личность, т. е. для Выготского каждый человек является личностью. «Детская психология не знала, как мы видели, проблемы высших психических функций, или, что-то же, проблемы культурного развития ребенка. Поэтому для нее до сих пор остается закрытой центральная и высшая проблема всей психологии — проблема личности и ее развития»[7].
На второй вопрос ответ Выготского неоднозначен. С одной стороны, он характеризует овладение по аналогии с познанием и управлением природными процессами. «Остается допустить, что наше господство над собственными процессами поведения строится, по существу, так же, как и господство над процессами природы»[8]. Но тогда получается парадокс: психические процессы уже есть, а человек ими только овладевает; однако, спрашивается, откуда они взялись, разве именно не происхождение этих процессов нуждается в объяснении? К тому же зачем тогда социальная детерминация?
Спасая свою теоретическую конструкцию, Выготский использует введенную еще в начале XIX века Фридрихом Фребелем оппозицию «внешнее — внутреннее» и понятие «усвоение», причем внешнее определяется как социальное, а внутреннее как подобие («слепок») внешнего (сравни[9]). «Многие авторы, — пишет Выготский, — давно уже указывали на проблему интериоризации, перенесения поведения внутрь. Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая. Сам механизм, лежащий в основе высших психических функций, есть слепок с социального. Все высшие психические функции суть интериоризированные отношения социального порядка. Вся их природа социальна; даже превращаясь в психические процессы, она остается квазисоциальной»[10]. Но тогда получается другой парадокс: внутреннее — это не природный процесс, а скорее результат психотехнических (социально-педагогических) воздействий.
Очевидно, чувствуя эти затруднения, Выготский характеризует овладение и по-другому, совершенно иначе, а именно как конституирование психической реальности на основе знаков; кроме того, развитие характеризуется Выготским как переплетение внешних и внутренних (включая биологические) факторов. Применение знаков, пишет Выготский, «в корне перестраивает всю психическую операцию, наподобие того, как применение орудия видоизменяет естественную деятельность органов и безмерно расширяет систему активности психических функций. То и другое вместе мы и обозначаем термином „высшая психическая функция“, или „высшее поведение“. Равным образом, когда ребенок усваивает, казалось бы, внешним путем в школе различные операции, усвоение всякой новой операции является результатом процесса развития… каждое внешнее действие есть результат внутренней генетической закономерности»[11]. Дело в том, что развитие, по Выготскому, происходит в результате не только интериоризации, но и органического роста. «Поскольку, — отмечает Выготский, — органическое развитие совершается в культурной среде, постольку оно превращается в исторически обусловленный биологический процесс. В то же время культурное развитие приобретает совершенно своеобразный и ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно совершается одновременно и слитно с органическим созреванием, поскольку носителем его является растущий, изменяющийся, созревающий организм человека»[12].
Что же у Выготского получается в итоге? С одной стороны, личность овладевает тем, что уже есть, с другой — овладение представляет собой, по сути, творение психической реальности с помощью знаков в процессе усвоения внешнего, обусловленного внутренним развитием. Спрашивается, как это можно понять и согласовать? Однако есть противоречия и противоречия. Противоречия Выготского, на мой взгляд, являются источником дальнейшего развития психологической мысли, и не всегда их нужно спешить разрешать в духе монистического подхода.
Чтобы реализовать в психологии культурно-историческую точку зрения (подход), необходимо сделать, по меньшей мере, три вещи: указать, что можно понимать под культурой, каким образом при этом характеризуется человек, наконец, как при всем том сохранить и провести психологическое понимание человека. Дело в том, что в некотором отношении культурно-исторический подход противоречит психологическому. Не случайно поэтому ни сам Выготский, ни А. Н. Леонтьев, ни другие психологи так и не смогли реализовать заявленную концепцию. Чтобы понять наше утверждение, взглянем на историю психологии.
Известно, что в период своего формирования во второй половине XIX века научная психология противопоставляла себя философии и ориентировалась на идеалы естественной науки. С точки же зрения этих идеалов психика рассматривалась, во-первых, как природное, а не историческое явление, во-вторых, предполагалось, что можно выявить законы, определяющие строение и функционирование психики. Не исключая, кстати, психологических школ, например гештальтпсихологии, пытавшихся рассматривать психическую жизнь «в ее целостности и внутренней связи». Гештальтисты, замечает М. Г. Ярошевский, утверждали не только несводимость гештальтов к их частям, но и «существование особых законов гештальта. Им представлялось, что, опираясь на эти законы, психология превратится в точную науку типа физики»[13].
На первый взгляд, этому подходу противостоит другой, инициированный в конце XIX века В. Дильтеем и развитый затем в рамках гуманитарной психологии. Но и здесь психологи не смогли преодолеть понимание психики как явления, напоминающего природные феномены. Они считали, что все же можно выявить собственно психологические процессы и факторы, определяющие психическую жизнь. Даже когда вводились «факторы со стороны», например семиотические и социальные, или биологические, или особые состояния сознания, предполагалось, что эти факторы со стороны — всего лишь внешняя детерминация, а не имманентная составляющая психики.
Учтем и такое обстоятельство: психология складывается как научная и практическая дисциплина, призванная объяснять и обслуживать новоевропейскую личность. Вспомним заявление Выготского: «Детская психология не знала, как мы видели, проблемы высших психических функций, или, что-то же, проблемы культурного развития ребенка. Поэтому для нее до сих пор остается закрытой центральная и высшая проблема всей психологии — проблема личности и ее развития». Если мы теперь учтем, что новоевропейская личность понимает себя как «универсум» (все, что претерпевает личность, все ее решения и выборы рассматриваются как принадлежащие данной личности, входят в ее круг) и одновременно как «регулятивный принцип» (личность сама решает и сама исполняет собственные решения), то ясно, что для функционирования личности необходимы средства, с одной стороны, ей органичные и созвучные, с другой — помогающие осуществлять соответствующие выборы и решения. Именно психологическая наука и практика наряду с другими сферами деятельности (философией, наукой, искусством, религией) предоставляют личности такие средства[14]. По сути, психологические знания и закономерности — это схемы, на основе которых новоевропейская личность (разные типы таких личностей) себя осознает и конституирует, понимает и направляет.
Но ведь новоевропейская личность — это всего лишь один исторический тип человека. В предшествующих культурах мы находим другие исторические типы личности. Кроме того, как следует из современных антропологических исследований, кроме «актуальной личности» в культуре имеют место и другие типы, например «латентная личность» и «социальный индивид»[15].
Итак, вроде бы мы приходим к выводу, по которому культурно-исторический и психологический подходы противоположны. Первый предполагает историческую трактовку человека и признание разных типов психики. Второй подход ориентирован только на обслуживание новоевропейской личности. Подвесим пока этот тезис.
Посмотрим, в каком направлении Выготский направил мысль психолога. Чтобы реализовать программу культурно-исторической теории, необходимо было, во-первых, проанализировать внешние социальные содержания, которые усваивает или должен усвоить развивающийся человек, и задать их последовательность, во-вторых, понять действие самого механизма интериоризации, в-третьих, охарактеризовать особенности внутренних содержаний (психических процессов и структур) и логику их «как бы имманетного» развития, которая на самом деле, по Выготскому, есть сплав культурного и биологического.
Наиболее последовательно все три задачи, на мой взгляд, пыталась решить школа В. В. Давыдова. С одной стороны, в ней с опорой на исследования в истории науки и логики задавались содержания, подлежащие усвоению, с другой — изучался сам механизм усвоения, с третьей — на основе психологических экспериментов и экспериментального обучения нащупывались особенности психических структур и предпосылок[16]. Тем не менее решались все эти задачи в рамках указанных противоречий. В концепции В. Давыдова, например, трудно понять, какую все-таки роль играют психические структуры, а также как объяснить феномен возрастных или возможно культурных сдвигов (трансформаций) самого развития. Кстати, Выготский, помимо привычных представлений о развитии, предлагал ввести понятие «революционный тип развития» («резкие и принципиальные изменения самого типа развития, самих движущих сил процесса»[17]).
Кроме того, известно, что деятельностная концепция, в рамках которой работал В. Давыдов и многие другие российские психологи, сегодня подвергается критике. В 2001 году журнал «Вопросы философии» опубликовал подборку статей известных отечественных философов, методологов и психологов, посвященных проблеме деятельности и деятельностного подхода. Основные позиции участников разделились «за» и «против». С одной стороны, признается кризис деятельностного подхода. Например, В. А. Лекторский в статье «Деятельностный подход: смерть или возрождение» констатирует, что «деятельностная тематика как в философии, так и в психологии утратила былую популярность»[18].
В. С. Лазарев в статье «Кризис „деятельностного подхода“ в психологии и возможные пути его преодоления» пишет, что «деятельностный подход, создававшийся несколько десятилетий назад для преодоления психологического кризиса, сегодня сам находится в кризисном состоянии»[19].
С другой стороны, ведущие идеологи деятельностного подхода (В. А. Лекторский, В. С. Швырев, Ю. В. Громыко, В. И. Слободчиков) утверждают, что деятельностный подход не только не изжил себя, но при определенной модификации и расширении является весьма перспективным. Правда, некоторые участники дискуссии, например В. Лекторский, Ю. Громыко, В. Швырев, предлагают такое расширение (например, учет представлений, полученных в недеятельностных и антидеятельностностных концепциях и дискурсах), которое ставит под вопрос сам деятельностный подход.
Об эволюции взглядов в отношении деятельностной концепции можно судить, например, по позиции В. П. Зинченко, являющегося, как известно, одним из создателей теории деятельности. «Психологическая теория деятельности, — пишет он, — игнорирует или упрощает духовный мир человека, редуцируя его к предметной деятельности, она бездуховна, механистична. Нужно преодолеть „детскую болезнь“ и понять, что ни деятельность, ни культура не могут претендовать на формулирование исчерпывающего объяснительного принципа»[20].
Мотивы критики теории деятельности можно пояснить следующим образом: во-первых, не удался эксперимент социалистического строительства нового человека. Некогда единая социалистическая школа, где ребенок формировался под сильным идеологическим давлением и контролем (т. е. когда, действительно, социальное социалистическое определяло индивидуальное и личность), уходит в прошлое.
Вместо этого складываются разные педагогические практики: светская школа, религиозная, эзотерическая (Вальфлорская педагогика), инновационное педагогическое творчество, школа, ориентированная на гуманитарные ценности, на ценности современного экономического общества, и др.
Во-вторых, идеи социалистического программирования, проектирования и управления, теоретическим обоснованием которых, к сожалению, выступали идеологически истолкованная культурно-историческая теория и теория деятельности, все больше подвергаются критике. Вместо них предлагаются такие варианты социального действия, которые основываются на участии всех заинтересованных субъектов (идеи педагогики сотрудничества, участия в образовательном процессе учеников и родителей и пр.).
В-третьих, меняются представления о психическом развитии. Оно объясняется теперь не только в рамках психологии, ориентированной на идеалы естественной науки. Все больший интерес привлекают к себе психологические теории гуманитарной ориентации, а также и непсихологические концепции (понимающая социология, антропология и др.). В рамках этих подходов развитие ребенка описывается иначе, чем в теории деятельности.
В-четвертых, современная жизнь становится все более разнообразной и культуросообразной. Для нее характерны разные формы и стили жизни, многообразие форм культурного существования. Социальная жизнь все больше определяется культурными факторами. Л. Г. Ионин отмечает, что «изменяется роль культуры в обществе, при этом меняется само понимание культуры. Это уже не столько пассивное отражение, пассивный слепок с реальных процессов поведения, сколько их активная «форма». «Кодируя», «драматизируя» свое поведение, соотнося его с мифом и архетипом, индивиды сознательно используют культуру для организации и нормализации собственной деятельности. Поэтому было бы глупо сейчас ссылаться на популярные несколько десятилетий назад представления о культурном лаге, об отставании культурного осмысления от реальных социальных процессов; наоборот, теперь культура оказывается логически и фактически впереди того, что происходит в реальности. Как заостренно сформулировал западный ученый: «Там, где раньше было «общество»… стала «культура»»[21].
Как же сегодня можно помыслить идеи культурно-исторической теории? На мой взгляд, оба тезиса — исторического подхода и принципиальной роли знака в становлении и развитии психики — полностью сохраняют свое значение. Однако во времена Выготского семиотика только складывалась. Вероятно, поэтому программа Выготского, ориентированная на создание культурно-исторической теории, практически не была реализована. От программы до ее реализации, как известно, большой путь. Нужно иметь специальное, психологически ориентированное учение о знаках (т. е. особый вариант семиотики), психологически ориентированную социологию, понять, как происходит, по выражению В. Н. Волошинова, проникновение социального в «организм особи», как затем психика функционирует как бы «сама по себе», т. е. в естественном режиме, проанализировать, какие ограничения на психические процессы накладывает своеобразие личности человека, и др. Не менее важно переосмыслить, переинтерпретировать психические процессы и структуры (сохраняя онтологию психического) в семиотическом, социологическом, культурологическом ключах. Кроме того, в начале XX столетия еще не были четко разведены понятия «исторические описания» и «генезис». Сегодня мы понимаем, что генезис — это рациональная реконструкция истории под углом тех задач, которые мы решаем, и тех подходов, которые проводим. Выготский имел в виду именно генезис психики. И по поводу семиотической природы человека мы знаем значительно больше.
С семиотической точки зрения человек является существом социальным и культурным. Прямое истолкование его как знака, на мой взгляд, непродуктивно. Поэтому нельзя согласиться с В. Канке, который пишет: «Выражение „человек-знак“ вряд ли ласкает слух читателя, но, по сути, оно верно выражает философско-семиотическое понимание человека, которое, как выяснилось к концу XX в., составляет сердцевину философии человека»[22]. Семиотические образования, главными из которых являются знаки и схемы, если иметь в виду феномен человека, выполняют три основные функции: позволяют строить человеческую деятельность и поведение, задают события его сознания, определяют структуру его способностей.
Говоря о знаках, мы употребляем два ключевых слова: «обозначение» и «замещение», например, некоторое число как знак обозначает то-то (скажем, совокупность предметов), замещает такой-то предмет (эту совокупность) в плане количества. У схемы другие ключевые слова: «описание» и «средство» (средство организации деятельности и понимания). Например, мы говорим, что схема метро описывает пересадки и маршруты движения, помогает понять, как человеку эффективно действовать в метрополитене.
Знаки вводятся в ситуации, когда уже сформировалась некоторая объектная область, но по какой-либо причине человек не может действовать с объектами этой области (например, они разрушились, громоздки и пр.). Замещая эти объекты знаками, действуя с ними, вместо того, чтобы действовать с соответствующими объектами, человек получает возможность достигнуть нужного ему результата; при этом частично перестраивается и сама деятельность и по-новому (сквозь призму означения) понимаются исходные объекты.
Схемы тоже означают некоторую предметную область (например, схема метрополитена — структуру метро), но эта их функция — не главная, а подчиненная; можно сказать, что она вообще находится на другом иерархическом уровне. В первом приближении схему можно определить как любой предмет, выражающий, представляющий другой предмет, например рисунок, слово, нарратив. В становящейся культуре схемы как семиотические образования выполняют две важные функции: обеспечивают новую организацию деятельности и задают новую реальность[23]. Говоря о реальности, я имею в виду то, что в реальность, заданную в схеме, нужно войти, прожить события, которые она задает, знать особенность («логику») этих событий, по окончании работы со схемой освободиться от событий этой реальности. Например, схема метро задает такие события: входы в метро и выходы из него, движение по определенному маршруту, пересадки, пребывание на станциях и т. д. Пользователь этой схемы знает, какой логике удовлетворяют эти события (например, нельзя сделать пересадку, не прибыв на определенную станцию), он приготовляется к очередным событиям, переживает их актуальное осуществление, по окончании своей поездки выходит из соответствующей реальности метро. Как реальность схема осваивается и часто понимается индивидуально.
Схему в силу ее означающих возможностей можно использовать не только в собственной функции, но и как знак. Например, схему метро можно использовать не для организации нашего поведения в метрополитене, а как знак-модель, чтобы определить, по какому маршруту можно быстрее добраться от одной станции до другой. И то в данном случае эта задача может быть рассмотрена как аспект нашего поведения в метро.
Теперь поговорим о проблеме способностей человека. Действительно, с точки зрения сторонников эволюционной теории, и чувства и способности человека обусловлены его биологией и поэтому в своем ядре неизменны, развитие же их связано с эволюцией этого ядра под влиянием изменяющихся культурных условий. С точки зрения другого подхода — культурологического, чувства и способности человека кардинально перестраиваются при смене культур и представляют собой специализированные на биологическом материале семиотические, деятельностные и психические феномены. Здесь, конечно, требуется определиться и по поводу того, как Выготский задавал отношения между разными планами — социальным, психологическим и биологическим.
Прежде всего, нельзя редуцировать одни планы к другим. Например, когда Выготский утверждает, что психическое — это слепок с социального, то это не что иное, как редукция. Когда же он пишет о том, что психическое развитие в силу сплава культурного и биологического обладает органикой, в этом случае редукции нет. Не менее важное положение: каждый план должен характеризоваться не сам по себе, а в связи с другими планами, так чтобы отдельный план выступал аспектом или стороной более сложного целого. Наконец, обращение к тем или иным планам (одному, двум или трем) диктуется не изучаемым объектом, а задачей, которую мы решаем. Для одних задач достаточно только анализа психологического плана, для других необходим анализ психического и биологического, для третьих задач приходится обращаться ко всем трем планам одновременно. Например, чтобы объяснить метод Ю. Яценко снятия алкогольной зависимости с использованием акупунктуры, я вынужден был вести анализ сразу в двух планах: психологическом, вводя понятие «алкогольная реальность», и соматическом, объясняя, что собой представляет акупунктурное воздействие[24].
Реализуя эту методологию, я, вслед за Выготским, задаю психический план (психическую реальность), опираясь на семиотические и культурологические представления. Особенность и специфика психического для меня определяется не абсолютными характеристиками, а такими, которые позволяют в филои отногенезе объяснить поведение и внутренний мир человека. Чтобы лучше понять данное положение, приведу две иллюстрации: во-первых, филогенетический анализ формирования представлений архаического человека, во-вторых, онтогенетический анализ представлений К. Юнга; при этом будет продемонстрирована и роль семиотических схем.
Первая иллюстрация (реконструкция). Исследователи отмечают, что сознание человека архаической культуры структурируется следующим представлением: он верит, что каждое живое существо имеет неумирающую душу и жилище (дом), в котором она живет, причем это жилище по обстоятельствам можно менять (например, при жизни — это тело, после смерти — захоронение, или страна предков, или древо жизни). В соответствии с этим представлением архаический человек понимает смерть как бесповоротный уход души из тела, болезнь — как временное отсутствие души, сновидение — как приход в тело во время сна чужой души (или путешествие души в этот период), создание «произведений искусства» (т. е. изображений людей или животных, изготовление масок, игру на музыкальных инструментах и т. д.) — как вызывание душ, чтобы воздействовать на них. На этой же смысловой основе объясняются и более сложные реалии, например действие природных сил (как действие душ, духов ветра, воды, огня, земли и пр.), связь людей в семье и племени (они имеют общие души, которые переходят от умерших к живущим) или причины рождения детей в семье (отец-жених перегоняет души умерших в тело матери-невесты)[25]. Но как возникло центральное для архаической культуры представление о душе человека?
Где-то на рубеже 100—50 тыс. лет до н.э. человек столкнулся с тем, что не знает, как действовать в случаях заболевания своих соплеменников, их смерти, когда он видел сны, изображения животных или людей, которые он сам же и создавал, а также в ряде других ситуациях, от которых зависело благополучие племени. Этимология слова «душа» показывает его связь со словами «птичка», «бабочка», «дыхание».
Можно предположить, что представление о душе возникает примерно так. Не зная, как действовать в случаях смерти, заболевания, обморока, сновидений, встречи с изображениями животных или людей, вождь племени случайно отождествляет состояния птички (она может вылететь из гнезда, вернуться в него, навсегда его покинуть и т. д.) с интересующими его состояниями человека (смертью, болезнью, выздоровлением и пр.) и дальше использует возникшую связь состояний как руководство в своих действиях. Например, если человек долго не просыпается и перестал дышать, это значит, что его «птичка-дыхание» улетела из тела навсегда. Чтобы улетевшая «птичкадыхание» не осталась без дома, ей надо сделать новый, куда можно отнести и бездыханное тело. Именно это вождь и приказывает делать остальным членам племени, т. е., с нашей точки зрения, хоронить умершего.
Объясняя другим членам племени свои действия, вождь говорит, что у человека есть «птичка-дыхание», которая живет в его теле или улетает навсегда, но иногда может вернуться. Пытаясь понять сказанное и тем самым оправдать приказы вождя и собственные действия, члены племени вынуждены представить состояния человека как состояния птички, в результате они обнаруживают новую реальность — душу человека. Если у вождя склейка состояний птички и человека возникла случайно (например, ему приснился такой сон или, рассказывая о птичке, покинувшей гнездо, он случайно назвал ее именем умершего), то у членов племени, старающихся понять действия и слова вождя, эта склейка (означение) возникает в результате усилий понять сказанное вождем и осмыслить реальный результат новых действий. Необычные слова вождя, утверждающего, что у человека есть «птичка-дыхание», помогают осуществить этот процесс пониманияосмысления[26].
Подобные языковые конструкции и являются первыми схемами, они выполняют несколько функций: помогают понять происходящее, организуют деятельность человека, собирают смыслы, до этого никак не связанные между собой, способствуют выявлению новой реальности[27]. Необходимым условием формирования схем является означение, т. е. замещение в языке одних представлений другими (в данном случае необходимо было определенные состояния человека представить в качестве состояний птички-дыхания).
Изобретя представление о душе, человек смог действовать во всех указанных выше случаях; более того, можно предположить, что выжили только те племена, которые пришли к представлению о душе. На основе анимистических представлений формируются и первые социальные практики (захоронения умерших, лечения, толкования сновидений, вызывания душ и общения с ними), а также соответствующее понимание и видение мира (он был населен душами, которые помогали или вредили человеку).
И опять именно схемы помогали человеку распространить анимистические представления на новые случаи и ситуации. Например, как можно было понять, почему в семье и племени все люди похожи и связаны между собой? Двигаясь в схеме души: птичка могла переселиться из одного гнезда в другое, аналогично душа умершего могла вернуться в тело ребенка, родившегося в данной семье (племени). Получая новое знание, древний человек не рассуждал подобно современному: «Так как все люди имеют души, то и этот конкретный имярек имеет душу». Он просто опирался на «коллективную схему» души. Знание — «у этого человека душа» — представляет собой описание данного человека с помощью указанной схемы, эквивалентное утверждению, что «душа еще не покинула этого человека».
Соответственно источником общих мифологических или религиозных представлений считался не человек, а духи. Они и сообщали эти представления избранным людям (шаманам). Абсолютно все знания должны были пройти испытание практикой социальной жизни, в противном случае они просто не закреплялись в культуре. Решая одни проблемы, архаический человек порождал другие, эти — третьи и так до тех пор, пока не удавалось выйти на понимание реальности (мира), обеспечивающей при сложившихся условиях устойчивую социальную жизнь.
Представления о душе и архе («архе» — начало, это вторая фундаментальная схема архаической культуры) не просто коррелируют со структурой социальной организации в архаической культуре, но поддерживают и обеспечивают ее в семиотическом и смысловом отношении. Основные характеристики социальной организации архаической культуры следующие: деление на семью, рода, племена и тотемы, экзогамные и эндогамные отношения между полами, обменные отношения (женщинами, опытом, продуктами), организация хозяйства главным образом на основе охоты, скотоводства и собирательства. Из всех упорядочивающих факторов в архаической культуре, считает Е. Мелетинский, «на первом плане оказывается социальный, т. е.
введение
дуальной экзогамии и вытекающий отсюда запрет браков между членами одной «половины» (фратрии). Оборотной стороной введения экзогамии является запрещение кровосмешения (инцеста)… биологизаторская концепция происхождения социума в книге «Тотем и табу» Фрейда не может считаться удовлетворительной. Не чувство вины «сыновей» перед убитым «отцом» (тотемом), а открывшаяся с установлением экзогамии возможность обмена женщинами и материальными благами между двумя человеческими группами является предпосылкой возникновения общества"[28].
Все указанные здесь аспекты социальной организации архаический человек осмыслял с помощью представлений о душе и архе. Например, деление на семью, род и племя связано с родством и неродством соответствующих душ, а деление на тотемы — с их различным происхождением в первоначальном мифическом времени (архе); нарушение социальных отношений, например запрета инцеста, понималось как влияние души человека, нарушившего табу, на другие души, что влекло за собой конфликты в обществе и космические трансформации. «В силу стихийного метафорического параллелизма различных мифологических кодов, — пишет Мелетинский, — нарушение экзогамии (или, наоборот, эндогамии, т. е. запрета слишком отдаленных браков) часто коррелирует в мифах с нарушениями ритуальной тишины, солнечными или лунными затмениями, ведет ко всяким нарушениям меры и катастрофам… Очень яркий пример в мифе муринбата — сын радужного змея, своеобразный „австралийский Эдип“, насилующий сестер и смертельно ранящий отца»[29]. Даже развитие охоты и скотоводства или создание и распространение новых орудий в качестве одного из важнейших условий предполагали анимизм: действительно, научившись вызывать души и общаться с ними, человек начал активно этим пользоваться с целью привлечь нужных животных, заставить их подчиняться (процесс приручения и одомашнения животных) или склонить души, живущие в орудиях и оружии, действовать так, как это нужно было человеку.
Два механизма, как можно понять из нашего анализа, обеспечивают становление психических феноменов в архаической культуре: изобретение соответствующих схем и самоорганизация на их основе психики. Вернемся еще раз к примеру реконструкции становления архаической души. Изобретение представления о птичке, в которой сосредоточена жизнь человека, которая живет в теле и может из него выйти (вылететь), но и вернуться назад, т. е. представления о душе, с семиотической точки зрения, представляют собой создание схемы, с психологической — конституирование новой реальности. Схема души обеспечивает склейку двух предметных реальностей (поведения птички и человека), так что одна представляет другую; эта схема дает возможность различить разные состояния человека (которые и получают названия смерти, болезни, сновидения и пр.) и организовать на их основе соответствующие коллективные действия (в результате начинают складываться архаические практики). Необходимое психологическое условие становления такой схемы — связывание в одно целое через механизм означения и синтеза представлений о птичке и человеке. Реальность души и формируется в рамках этого целого.
Поскольку все архаические практики в той или иной степени строятся на основе представления о душе, конституирование представлений архаического человека о самом себе полностью определяется анимистическим мироощущением. Вслед за реальностью души архаический человек открывает (начинает различать и переживать) у себя соответствующие душевные состояния: выход души из тела или проникновение в тело чужой души (то, что для нас выглядит как болезнь, слабость, головная боль, головокружение, обморок, смерть); возвращение души в тело (соответственно выздоровление или состояния, которые мы называем «проснулся», «очнулся», «обрел сознание», «пришел в себя», «стало лучше», «ушла боль» и т. д.), встреча с душой (духом) (пример — рассматривание и переживание архаическим человеком наскального или скульптурного изображения томемного духа).
Конечно, в каждом культурном регионе указанные состояния архаического человека понимались и переживались несколько по-разному в соответствии с конкретной историей и условиями социальной жизни данного региона. Например, в Тибете умирание и сейчас понимается так же, как и много тысяч лет тому назад. Но есть одна особенность: оказывается, душа сама не может покинуть тело. Чтобы душа вышла в правильном месте, через макушку, лама, глубоко сосредоточившись, должен отождествить себя с покойником и за него сделать усилие (одновременно произнося магические слова «хик» и «пхет»), которое бы заставило душу пробить для себя в темени выход. Исключение составляют посвященные. Они «могут самостоятельно осуществить восхождение своего духа к макушке головы и, чувствуя приближение конца, самим для себя произнести освободительные „хик“ и „пхет“. Таким способом они могут даже совершить самоубийство, и, если верить молве, такие случаи действительно бывают»[30].
Так как в архаической культуре вся жизнь понимается (истолковывается) анимистически, то и все другие состояния человека, например ощущения во время еды, полового общения, усталость или, наоборот, легкость после сна или отдыха, страх, радость и т. д., тоже получают анимистическую окраску. Например, страх понимается и ощущается как приближение опасной чужой души или стремление собственной души покинуть тело (известное выражение «душа ушла в пятки» относится как раз к последнему случаю).
Вторая иллюстрация. Рассмотрим по книге Юнга «Воспоминания, сновидения, размышления» толкование им сновидений и других проявлений бессознательной деятельности человека. На первый взгляд кажется, что само сновидение как объективный психический опыт подсказывает Юнгу способ истолкования и объяснения. Недаром Юнг резко возражал против подхода 3. Фрейда, считавшего, что сюжет и события сновидений, как правило, скрывают прямо противоположные сюжету содержания. Полемизируя с 3. Фрейдом, Юнг, в частности, говорит, что «никогда не мог согласиться с Фрейдом в том, что сон — это некий „фасад“, прикрывающий смысл, — смысл известен, но как будто нарочно скрыт от сознания»[31]. Юнг считал, что «природа сна не таит в себе намеренного обмана». По Юнгу, сновидение — это естественный процесс, т. е. объект, напоминающий объекты первой природы, да к тому же процесс, правдиво предъявляющий (манифестирующий) себя исследователю. Напротив, для Фрейда сновидение — это прежде всего тексты сознания, символы, за которыми скрыты бессознательные влечения и которые поэтому нуждаются в расшифровке.
Но ведь и Юнг истолковывает и расшифровывает сновидения, причем совершенно не так, как это делали другие психологи. К тому же известно, что любое сновидение может быть описано по-разному и само по себе (здесь нельзя согласиться с Юнгом) не содержит указаний на то, как его необходимо объяснять. Отчасти, и Юнг это понимал, например, когда писал, что «человеческая психика начинает существовать в тот момент, когда мы осознаем ее»[32]. Понимал-то иногда, понимал, но в общем случае был убежден в другом — в том, что сновидение — естественный процесс, который может быть описан объективно и однозначно.
И все же временами в душу Юнга закрадывалось сомнение. Однажды он получил письмо от одной своей пациентки, которая уверяла Юнга, что его бессознательные фантазии имеют не научную, а художественную ценность и что их должно понимать как искусство. Юнг начал нервничать, поскольку, как он отмечает, письмо было далеко не глупым и поэтому достаточно провокационным. Тем не менее Юнг не согласился с утверждениями этой корреспондентки, что его фантазии не были спонтанными и естественными, но в них был допущен некий произвол, какая-то специальная работа[33].
Но, по-моему, несомненно, был и произвол, и специальная работа, а именно построение интерпретаций. Так как Юнг не контролировал эту работу, не обосновывал ее, то вполне можно согласиться с его пациенткой в том, что метод Юнга не научный, а художественный, т. е. относится больше к искусству, чем к научному познанию. Однако как всетаки Юнг истолковывает сновидения и фантазии?
Для ответа на этот вопрос обратимся к одному подростковому воспоминанию и переживанию Юнга. Содержание этого переживания таково. Однажды в прекрасный летний день 1887 года восхищенный мирозданием Юнг, подумал: «Мир прекрасен, и церковь прекрасна, и Бог, который создал все это, сидит далеко-далеко в голубом небе на золотом троне и… Здесь мысли мои оборвались, и я почувствовал удушье. Я оцепенел и помнил только одно: сейчас не думать! Наступает что-то ужасное»[34].
После трех тяжелых от внутренней борьбы и переживаний дней и бессонных ночей Юнг все же позволил себе додумать начатую и такую, казалось бы, безобидную мысль.
«Я собрал, — пишет он, — всю свою храбрость, как если бы вдруг решился немедленно прыгнуть в адское пламя, и дал мысли возможность появиться. Я увидел перед собой кафедральный собор, голубое небо. Бог сидит на своем золотом троне, высоко над миром — и из-под трона кусок кала падает на сверкающую новую крышу собора, пробивает ее, все рушится, стены собора разламываются на куски.
Вот оно что! Я почувствовал несказанное облегчение. Вместо ожидаемого проклятия благодать снизошла на меня, а с нею невыразимое блаженство, которого я никогда не знал… Я понял многое, чего не понимал раньше, я понял то, чего так и не понял мой отец, — волю Бога… Отец принял библейские заповеди как путеводитель, он верил в Бога, как предписывала Библия и как его учил его отец. Но он не знал живого Бога, который стоит, свободный и всемогущий, стоит над Библией и над Церквью, который призывает людей стать столь же свободными. Бог, ради исполнения Своей Воли, может заставить отца оставить все его взгляды и убеждения. Испытывая человеческую храбрость, Бог заставляет отказываться от традиций, сколь бы священными они ни были"[35].
Не правда ли, удивительный текст? Первый вопрос, который здесь возникает: почему подобное толкование мыслей является следованием воле Бога, а не, наоборот, ересью и отрицанием Бога? Ведь Юнг договорился до того, что Бог заставил его отрицать и церковь, и сами священные религиозные традиции. Второй вопрос, может быть даже еще более важный: а почему, собственно, Юнг дает подобную интерпретацию своим мыслям? Материал воспоминаний вполне позволяет ответить на оба вопроса.
В тот период юного Юнга занимали две проблемы. Первая — взаимоотношения с отцом, потомственным священнослужителем. По мнению Юнга, отец догматически выполнял свой долг: имея религиозные сомнения, он не пытался их разрешить и вообще был несвободен в отношении христианской веры и Бога. Вторая проблема — выстраивание собственных отношений с Богом, уяснение отношения к церкви. Чуть позднее рассматриваемого эпизода эти проблемы были разрешены Юнгом кардинально: он разрывает в духовном отношении и с отцом, и с церковью. После первого причастия Юнг приходит к решению, которое он осознает так.
«В этой религии я больше не находил Бога. Я знал, что больше никогда не смогу принимать участие в этой церемонии. Церковь — это такое место, куда я больше не пойду. Там все мертво, там нет жизни. Меня охватила жалость к отцу. Я осознал весь трагизм его профессии и жизни. Он боролся со смертью, существование которой не мог признать. Между ним и мной открылась пропасть, она была безгранична, и я не видел возможность когда-либо преодолеть ее»[36].
Вот в каком направлении эволюционировал Юнг. На этом пути ему нужна была поддержка, и смысловая, и персональная. Но кто мог поддержать Юнга, когда он разрывает и с отцом, и с церковью? Единственная опора для Юнга — он сам, или, как он позднее говорил, «его демон». Однако понимает этот процесс Юнг иначе — как уяснение истинного желания и наставления Бога. Именно подобное неадекватное осознание происходящего и обусловливают особенности понимания и интерпретации Юнгом своих мыслей. Юнг, самостоятельно делая очередной шаг в своем духовном развитии, осмысляет его как указание извне, от Бога (в дальнейшем — от бессознательного, от архетипов), хотя фактически он всего лишь оправдывает и обосновывает этот свой шаг. На правильность подобного понимания указывает и юнгианская трактовка Бога. Бог для Юнга — это его собственная свобода, а позднее — его любимая онтология (теория) — бессознательное. Поэтому Юнг с удовольствием подчиняется требованиям Бога, повелевающего стать свободным, следовать своему демону, отдаться бессознательному.
Итак, приходится признать, что Юнг приписал Богу то, что ему самому было нужно. Интерпретация мыслей Юнга, так же как затем и других проявлений бессознательного — сновидений, фантазий, мистических видений, представляет собой своеобразную превращенную форму самосознания личности Юнга. Превращенную потому, что понимается она неадекватно: не как самообоснование очередных шагов духовной эволюции Юнга, а как воздействие на Юнга сторонних сил — Бога, бессознательного, архетипов. Приведем еще один пример, подтверждающий эту мысль.
В книге Юнг приводит сон, какой пишет, предсказавший ему разрыв с Фрейдом. События сновидения, пишет Юнг, «происходили в горной местности на границе Австрии и Швейцарии. Были сумерки, и я увидел какого-то пожилого человека в форме австрийских императорских таможенников… В нем было что-то меланхолическое, он казался расстроенным и раздраженным… кто-то сказал мне, что этот старик — лишь призрак таможенного чиновника, что на самом деле он умер много лет назад»[37].
Вот как Юнг истолковал этот сон.
«Я стал анализировать, и слово „таможня“ подсказало мне ассоциацию со словом „цензура“. „Граница“ могла означать, с одной стороны, границу между сознательным и бессознательным, с другой же — наши с Фрейдом расхождения… Что же до старого таможенника, то, очевидно, его работа приносила ему больше горечи, нежели удовлетворения — отсюда раздражение на его лице. Я не могу удержаться от аналогии с Фрейдом»[38].
Интересно, что сам Юнг фактически понимает, что это не предсказание, а скорее способ, помогающий ему оправдать очередной шаг своей эволюции, — разрыв с Фрейдом.
«В то время (в 1911 году. — В. Р.), — пишет Юнг, — авторитет Фрейда в моих глазах уже сильно пошатнулся… Когда мне приснился этот сон, я все еще глубоко чтил Фрейда, но в то же время уже стал относиться к нему критически. Судя по всему, я еще не осознавал ситуации и пытался каким-то образом найти решение. Это характерно для ситуации проецирования. Сон поставил меня перед необходимостью определиться»[39].
Но, пожалуй, приведенный пример — это единственный случай, когда Юнг, сам того не осознавая, по сути фальсифицирует собственную квалификацию сна как сна-предсказания. Во всех остальных случаях Юнг трактует сновидения как объективный опыт, как материал бессознательного, который приходит к нему независимо от его желаний или «давления» шагов юнгианской эволюции.
Для нас рассмотренный материал интересен не только сам по себе, но и тем, что проливает свет на развитие личности. Что собой представляют шаги развития Юнга? Подготовлены они экзистенциальными проблемами, которые требуют разрешения, но еще плохо осознаются. Вектор разрешения их уже намечается, так сказать, интенционально задан (разрыв с отцом, церковью или Фрейдом). Само разрешение представляет собой изобретение схемы (нарратива), открывающей новую реальность — новое видение и понимание Творца, отношений с отцом или Фрейдом. В рамках этой схемы разворачивается (конституируется) новое поведение, которое как бы подтверждается дальнейшей эволюцией, т. е. задним числом Юнг осознает, что сделанные им шаги соответствуют его назначению и личности.
Сравнивая приведенные реконструкции, не должны ли мы утверждать, что развитие человека в филои онтогенезе происходит совершенно одинаковым путем? То есть на основе разрешения проблем и разрывов, изобретения семиотических схем, становления социальных практик, включения в них человека, конституирования новой телесности и психики как необходимого условия всего предыдущего. Различие лишь в одном: в случае онтогенеза важным фактором становления психики выступает образование и воспитание. Стремление школы сформировать полноценного члена общества, включить подрастающего человека в существующее производство и сложившуюся жизнь, в том случае, если это получается (а получается это не всегда и, как правило, не так, как планировалось), и создает иллюзию, что психическое — это слепок социального. На самом деле психическое и социальное складываются одновременно, выступая условием друг друга. В этом плане нет никакой интериоризации, эта схема порождена неадекватным теоретическим объяснением.
Я прекрасно понимаю, что две иллюстрации не могут служить доказательством. Но я ими и не ограничиваюсь. В течение тридцати лет я вел исследования, которые сегодня могу предъявить как вариант культурно-исторической теории. Эти исследования включают в себя: генезис культуры (от архаической до нашего времени; см. книги: «Культурология», 1998—2004; «Теория культуры», 2004; «Право, власть, гражданское общество», 2004), вариант семиотики (книга «Семиотические исследования», 2001), генезис способностей (восприятия, мышления, памяти, воображения, рефлексии, любви; см. книги: «Визуальная культура и восприятие», 1996; 2004; «Человек культурный.
Введение
в антропологию", 2003; «Любовь и сексуальность в культуре, семье и во взглядах на половое воспитание», 1999, а также ряд статей в журнале «Мир психологии»), генезис личности (книга «Личность и ее изучение», 2004), наконец, культурно-историческую версию психологии (см. книги: «Психология: теория и практика», 1997,1998; «Психическая реальность, способности и здоровье человека», 2001).
В перечисленных работах я старался показать, что психика является культурно-историческим образованием. В разных культурах (на разных этапах онтогенеза) у человека разная психика, а следовательно, необходима историческая психология, в которой анализировалась бы психика людей разных культур. На первых этапах развития (архаическая культура и культура древних царств, соответствующие периоду доподросткового возраста) мы не можем еще говорить о личности и даже о мышлении. Они формируются только в античной культуре (в подростковом возрасте). Предпосылки становления личности — это, с одной стороны, человек как семиотическое и социальное существо, с другой — условия, заставляющие переходить к самостоятельному поведению. В свою очередь, это предполагает создание приватных схем и сценариев, новых социальных практик (античные суд и театр, мышление, платоническая любовь) и самоорганизацию психики (центрирование на «Я», приписывание «Я» способности к управлению, выстраивание оппозиций «Я и мир», «Я и другие» и пр.). В каждой культуре становление новой личности предполагает разрешение специфических социокультурных проблем, а также частично ассимиляцию предыдущих структур личности. В европейской линии эволюции культуры можно говорить о следующем ряде личностей: античной, средневековой, ренессансной, личности Нового времени (массовой, уникальной, эзотерической). В настоящее время культура и личность в ней переживают глубокий кризис. На становление нового типа личности существенное влияние оказывают, во-первых, складывающиеся способы решения таких проблем личности, как «свобода и социальная необходимость», «обусловленность личности», «соотношение естественного и искусственного планов», во-вторых, исследования личности в философии и науке, в-третьих, требования нового социального проекта, направленного на разрешение глобальных проблем современности, сохранение жизни на земле, создание условий для безопасного развития, поддержание культурного разнообразия и взаимодействия.
Вернемся теперь к проблеме отношения двух подходов: психологического и культурно-исторического. Думаю, что их все-таки можно связать. Но для этого в истории культуры нужно выделить такие планы, в которых условия существования человека сохраняются неизменными. Можно считать неизменными условия существования человека в отдельной культуре, если эту культуру сравнивать с другими. Неизменны условия и для отдельного поколения, если эти условия сравнивать с теми, которые складываются у следующих или предшествующих поколений. Неизменны условия существования для отдельной личности, если ее сравнивать с другими типами личности. В определенном смысле необходимо считать неизменными и условия модернити, иначе у нас не будет фиксированной точки отсчета. При этом важно различать два разных случая. В одном при неизменных условиях речь идет о функционировании и развитии человека. В другом — о становлении нового антропологического типа. Например, внутри отдельной культуры происходит развитие человека. При смене культур имеет место становление нового типа. Внутри определенного «скрипта» (сценария и принципов жизни) идет развитие личности, при смене скриптов (но не всегда) — становление новой личности.
Что означает неизменность условий жизни человека? Мы можем считать, что в этот период психика человека имеет стабильную структуру (включая ее развитие). Поэтому ее можно описать и считать, что выделенная в знании структура и есть структура психики. При смене рамок анализа и задач, например при переходе от сравнения культур к сравнению поколений (от задачи объяснения цикла жизни культуры к задаче объяснения представлений, характерных для отдельных поколений), меняются и структуры психики, и модели, их описывающие. Таким образом, за каждым типом психики стоят исторические ситуации и разные типы психологических задач.
С точки зрения этого подхода наиболее интересны следующие исторические типы и трансформации: «прачеловек» докультурного периода, «человек культурный», или социальный индивид (здесь столько типов, сколько мы можем различить отдельных культур: «архаический человек», «человек древних царств», «античный человек», «средневековый», «ренессансный», «человек Нового времени», «человек Востока» и т. д.), «человек определенного поколения», «латентная личность», «актуальная личность» (античная, средневековая, ренессансная, нововременная), «личность уникальная» (например, Сократ или Альберт Швейцер), «личность массовая», «эзотерическая личность», «возможный человек».
Если иметь в виду «возможного человека», то Выготский был совершенно прав, ставя в центр культурно-исторической теории личность. Вопрос лишь в том, как ее нужно представлять, а также в какой мере надо учитывать, что помимо разных типов личности в современной культуре живут и действуют и другие психологические типы, например социальные индивиды.
- [1] Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч.:В 6 т. — М., 1983. — Т. 3. — С. 16, 82—83.
- [2] Выготский Л. С. История развития… — С. 80, 116—117.
- [3] Там же. — С. 16.
- [4] Культурно-историческая теория // Психология: Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М., 1990. — С. 183.
- [5] Выготский Л. С. История развития… — С. 82—83.
- [6] Выготский Л. С. История развития… — С. 85.
- [7] Там же. — С. 41.
- [8] Там же. — С. 279.
- [9] Розин В. М. Курс начальной геометрии Ф. Фребеля //Дошкольное воспитание. —1971. — № 10; № 11 (окончание).
- [10] Выготский Л. С. История развития… — С. 144—146.
- [11] Там же. — С. 90, 150—151.
- [12] Там же. — С. 31.
- [13] Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. — М., 1974. — С. 16.
- [14] Розин В. М. Личность и ее изучение. — М., 2004.
- [15] Там же.
- [16] См.: Давыдов В. В. Теория развивающего обучения, — М., 1996. — С. 31.
- [17] Выготский Л. С. История развития… — С. 151.
- [18] Лекторский В. А. Деятельностный подход: смерть или возрождение // Вопр. философии. — 2001. — № 2. — С. 56.
- [19] Лазарев В. С. Кризис «деятельностного подхода» в психологии и возможные путиего преодоления // Вопр. философии. — 2001. — № 3. — С. 33.
- [20] Зинченко В. П. Культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности: живые противоречия и точки роста // Вестник Моек, ун-та. Сер. 14, Психология. — 1987. — № 1. — С. 44, 50.
- [21] Ионин Л. Г. Социология культуры. — М., 1996. — С. 5, 6.
- [22] Канке В. А. Семиотическая философия. — Обнинск, 1997. — С. 8.
- [23] Розин В. М. Семиотические исследования. — М., 2001; Он же. Психическая реальность, способности и здоровье человека. — М., 2001; Он же. Знание или схемы: познание мира или его конституирование? // КЕНТАВР. — М., 2001. — Вып. 27.
- [24] Розин В. М. Анализ метода Яценко, позволяющего оперативно снимать алкогольную зависимость // Мир психологии. — 1997. — № 1.
- [25] Розин В. М. Культурология. — 2-е изд. — М., 2003.
- [26] Розин В. М. Семиотические исследования. — М., 2001.; Он же. Культурология. —2-е изд. — М., 2003.
- [27] Розин В. М. Семиотические исследования. — М., 2001; Он же. Знание или схемы: познание мира или его конструирование // КЕНТАВР. — М., 2001. — Вып. 27.
- [28] Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М., 1976. — С. 199—200.
- [29] Там же. — С. 201.
- [30] Дэвид-Нилъ А. Мистики и маги Тибета. — М., 1992. — С. 23—24.
- [31] Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. — Киев, 1994. — С. 166.
- [32] Там же. — С. 138.
- [33] Там же. — С. 197.
- [34] Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. — Киев, 1994. — С. 46.
- [35] Там же. — С. 50.
- [36] Юнг К. Цит. соч. — С. 64.
- [37] Там же. — С. 167.
- [38] Юнг К. Цит. соч. — С. 167.
- [39] Там же. — С. 167—168.