Об объективности и субъективности художественной критики
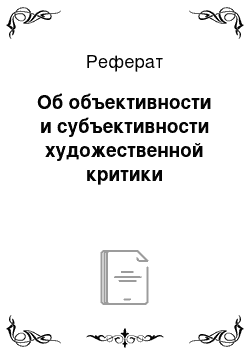
В нынешнем «Голландце» неожиданно прорвалось новое качество труппы, наработанное годами муштры вагнеровской «тетралогией»: медитативный тон, погружение в саму ткань вокального языка, что позволило многим избежать грубого форсирования звука, рваной фразировки, «плоской» акустики. Особенно интересной по объему получилась партия Голландца у Евгения Никитина, создавшего впечатляющий сценический образ… Читать ещё >
Об объективности и субъективности художественной критики (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Различия в критических оценках
Часто вызывает удивление тот факт, что в одном и том же издании публикуются различные, иногда противоположные точки зрения на одно и то же произведение — книгу, картину, постановку и пр. Однако в художественной критике правомерно существование различных прочтений, которые могут разниться по концепциям творчества, по оценкам того или иного произведения, по трактовке художественных образов, смыслов, конфликтов и эмоциональному восприятию художественных решений.
Газета «Мариинский театр» опубликовала цикл статей «„Летучий голландец“. Мнение о премьере». Приведем в пример три наиболее ярких фрагмента:
В нынешнем «Голландце» неожиданно прорвалось новое качество труппы, наработанное годами муштры вагнеровской «тетралогией»: медитативный тон, погружение в саму ткань вокального языка, что позволило многим избежать грубого форсирования звука, рваной фразировки, «плоской» акустики. Особенно интересной по объему получилась партия Голландца у Евгения Никитина, создавшего впечатляющий сценический образ потустороннего существа, спустившегося с помощью мертвецов с корабля-призрака на землю, демонически притягивающего, концентрирующего мужскую энергию и одновременно погруженного в свой собственный транс, в свое тяжелое бремя бессмертия, которому Сента может только досаждать. Голландец Никитина стремится поскорее вернуться на свой призрачный корабль, нетерпеливо выслушивая обещания Сенты в верности, но режиссером ему уготован «слишком человеческий» хеппи-энд — за руку с Сентой пойти под пологом тряпичной морской волны в закулисную даль, где нарисованным на заднике красным солнцем торжественно всходит счастье вечной любви. Гергиеву хватило интуиции прижать этот наивный апофеоз чуждым лирике жестковатым тутти оркестра.
Ирина Муравьева, Российская газета
Между тем в этой опере Вагнера, как, впрочем, и во всех остальных, есть где развернуться психологу, специализирующемуся на гендерных отношениях, фобиях, комплексах и пунктиках. Сента все ищет, кого бы пожалеть. Голландец судорожно ждет женской неверности. Каждый пребывает в собственном болезненном мире. Но ни эти миры, ни их контраст друг с другом и со здоровым миром окружающих, ни какие-либо другие объяснения этой странной истории не интересуют постановщика спектакля Иана Джаджа.
Это не первая работа английского режиссера в Мариинском театре — еще есть «Богема». Но даже в сравнении с ее немудреными мизансценами происходящее в «Летучем голландце» вызывает удивление. По большому счету, там почти ничего не происходит. Два с половиной часа без антракта тянутся невероятно скучно, и даже приученный к Вагнеру оркестр маэстро Гергиева заводится и спасает ситуацию разве что уже ближе к концу, изображая веселье заезжих полумертвых моряков-призраков. На сцене же в это время все дело ограничивается веревочкой, якобы свисающей с носа стоящего за кулисами корабля, за которую то и дело дергают местные жители.
Самым роскошным фрагментом спектакля следует считать посиделки девушек в чепцах и передничках с намеком на живопись Вермеера (сценограф Джон Гантер, художник по костюмам Тим Гудчайлд, художник по свету Найджел Левингс). Но ясности это истории не добавляет. Более того, те несколько мест, где режиссер все-таки решил как-то себя проявить, еще более усугубляют общую невнятность.
Апофеоз неряшливости и комизма — финал, в котором, назло всем вагнеровским заветам, можно разглядеть чуть ли не хеппи-энд. Когда неожиданно счастливые Голландец и Сента, обнявшись, уходят под тряпочку грязно-голубого цвета навстречу вентиляторам, с помощью которых изображаются морские волны.
Екатерина Бирюкова, Коммерсантъ
Валерий Гергиев сотворил чудо: главным персонажем этого спектакля стал оркестр. Два с половиной часа (три действия оперы исполняются без перерыва) проходят на одном дыхании — Вагнер, мало заботившийся о выдержке музыкантов и слушателя, был бы абсолютно доволен, поскольку его идея нетеатрального спектакля без выходов примадонн и реверансов, идея захватывающей и непрерывно развивающейся драмы в этом случае была воплощена на грани возможного. Безысходность Голландца, мятежность Сенты, трагедия Эрика, безудержное веселье пьянствующих матросов и холодный страх, веющий от призраков, потрясающе сильно и страстно проводит Гергиев. И пара-тройка киксов у духовых ни на секунду не мешают восхищаться профессионализмом оркестра Мариинского театра.
Валерий Гергиев и его оркестр остались, к сожалению, единственными героями этой постановки. Если слово «постановка» вообще уместна в данном случае.
Английский режиссер Иан Джадж, хоть и имеет в послужном списке большое количество оперных названий (в том числе и вагнеровских) и вполне приличных театров, продемонстрировал удивительную неподвижность своего режиссерского воображения и полное отсутствие идей, даже самых примитивных. Хотя нет, одна всетаки была — хеппи-энд в духе фильма «Унесенные ветром»: Сента и Голландец, взявшись за руки, погружаются на дно морское. Этим могли бы восхититься романтически настроенные ученицы средней школы, причем не сегодняшнего дня (молодежь нынче на жизнь смотрит куда более трезво, чем раньше). Или, наверное, за оригинальную идею стоит принять красный цвет корабля и паруса Голландца (художник Джон Гантер), а также кроваво-красную линию, время от времени разделявшую сцену и время от времени исчезавшую, например, когда Голландец обещает Даланду жениться на его дочери (только в этой сцене блеснула хоть какая-то логика). Еще пара деталей — красное кресло и красная шаль Сенты, наверное, должны были, по гениальному замыслу режиссера, символизировать трагическую развязку. Все происходящее выглядело как пение по ролям и больше подошло бы для Московской филармонии, практикующей жанр так называемых сценических версий. Если режиссер не озаботился ни созданием своей концепции, ни хотя бы глубоким проникновением в вагнеровский мир, то можно было бы напрячься и создать хотя бы элементарно внятные характеры главных героев.
Марина Гайкович, Независимая газета
Как мы можем видеть, не существует одного канонического прочтения произведения. В данном случае правомернее говорить о более или менее полном, более или менее аргументированном. В оценке пушкинского творчества гораздо более близок к верному прочтению был В. Г. Белинский (в отличие от Д. Писарева). Но стоит заметить, что и оценки Белинского в дальнейшем были уточнены.
Это не значит, что все критические оценки равноценны и правомерны. Критик должен стремиться максимально объективировать собственное мнение, что достигается, во-первых, широтой кругозора и постоянным обращением к разному искусству, во-вторых, — работой над собственными суждениями, их уточнением и прояснением.
Что же объясняет существование различий в критических оценках? В общей сложности можно указать две тенденции, с которыми связано данное явление.
- 1. Особая природа художественного преломления действительности, заключенной в произведении искусства.
- 2. Специфический характер критической деятельности как деятельности художественной.
Искусствознание и художественная критика занимаются объектами, созданными на основе субъективного восприятия действительности. По отношению к произведению искусства фактически неприменимы понятия объективности и субъективности, поэтому и объяснение его художественной сути разновариантно, вероятностно. Многозначность, многосмысловость произведений искусства зачастую имеет в основании постижение объективных закономерностей автором интуитивно, художественно. К слову, лермонтовское «спит земля в сияньи голубом…» опередило науку больше чем на сто лет. Вот почему правомерно говорить не о субъективистски-произвольном толковании или прибавлении содержания к уже вложенному художником, но об объективной нацеленности критика на выявление новых, созвучных современности смыслов.
Во многом именно это определяет дискуссии и споры вокруг театральных и киноэкранизаций классических художественных произведений. Желательно, чтобы в подобных случаях субъективное прочтение режиссера, направление его амбициозного взгляда совпадало хотя бы частично (полного слияния, как правило, не происходит) с субъективными позициями автора, изначальной смыслосодержательной основой классического произведения. Однако, подобное совпадение — музейная редкость в современной художественной культуре, тогда как поверхностность и «добавление» собственных смыслов при общей неудаче постановки встречается гораздо чаще. Вот, к примеру, несколько отзывов о прошедшей в 2008 г. в МХТ им. Чехова премьере спектакля «Мастер и Маргарита»:
Сам же спектакль Яноша Саса (он довольно известен как кинорежиссер, но на театральном поприще особых лавров до сих пор не стяжал) ничем изнутри не скреплен — ни мыслью, ни внутренним движением, ни стилем театрального повествования, ни даже атмосферой подземелья. Если венгерский режиссер был призван для того, чтобы лишний раз напомнить зрителям содержание булгаковского романа или в первый раз рассказать это содержание тем, кто еще не читал (судя по реакциям на знаменитые реплики — «осетрина второй свежести», «квартирный вопрос» и т. д., таковые в наше время находятся и среди премьерной публики), то со своей просветительской задачей гость справился. Вот только, может быть, стоит делать на афише соответствующие пометки.
Роман Должанский
Спектакль вышел внятный, динамичный и нескучный. На него можно вести подрастающих детей (тех, что наотрез отказываются читать), тоскующих по любви девиц, а также жен и мужей, предпочитающих качественные развлечения. И если принять как аксиому, что театр вторичен (по отношению к литературе) и примитивен (по своей природе), то мхатовскую премьеру можно назвать победой.
Алла Шендерова
Тем, кто еще ни разу не читал, и впрямь не возбраняется посетить новую премьеру МХТ Всем остальным можно уже не беспокоиться.
Марина Давыдова
Вообще — может быть, по причине иностранного происхождения режиссера? — из спектакля ушло наслаждение текстом, завороженность порядком слов этого писателя. К сожалению, неповторимость слога, за которым стоит неповторимость личности, не почувствовал и Анатолий Белый, искавший, судя по его интервью, прототип среди нынешних писателей и упустивший из виду реального автора.
Мария Седых[1]
В какой-то мере критик подобен режиссеру, прочитывающему произведение, или актеру, играющему роль. Для роли необходим текст, но актер играет не текст. В этом смысле критик дает толкование «роли», а не «текста», поскольку художественное произведение есть скорее игра смыслов, нежели набор слов, упорядоченных с помощью лексических, синтаксических и пунктуационных правил. Обратите внимание, насколько блестяще современный философ, писатель Умберто Эко пишет о роли «образцового читателя» (читай критика):
В конце концов, всякий текст (как я уже писал) — это ленивый механизм, требующий, чтобы читатель выполнял часть работы за него. Текст, в котором излагалось бы все, что воспринимающему его человеку надлежит понять, обладал бы серьезным недостатком — он был бы бесконечен. Образцовый читатель не равнозначен читателю эмпирическому. Эмпирический читатель — это вы, я, любой человек, читающий текст. Эмпирические читатели прочитывают текст по-разному, и не существует закона, диктующего им, как именно читать, поэтому они зачастую используют текст как вместилище своих собственных эмоций, зародившихся вне текста или случайно текстом навеянных[2].
Подобное понимание роли критика говорит о постоянном приращении знаний, многозначности прочтения, бесконечных возможностей в истолковании. Раскрытие новых граней произведения после работы с ним критика, появление новых знаний и новых смыслов — суть есть объективная сторона развития художественной критики. Так, например, анализ произведения А. Н. Островского «Гроза» уже фактически немыслим без прочтения статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Да и в целом, изучение Островского без опоры на критику Добролюбова сейчас не представляется возможным. Хотя в свое время сказанное критиком было новым, дискуссионным.
В художественной критике так же, как и в искусстве, многое зависит от свежести, оригинальности взгляда. По-другому увидеть привычное — путь обнаружения нового знания, и зависит это во многом от личности самого критика. При всей относительности критики, при всей бесконечности возможных трактовок, она тяготеет к объективированности собственных позиций — наиболее адекватное в данном историческом, художественном и пр. контекстах понимание смыслов художественного произведения, его соотнесение с современной действительностью .
Подобная «неокончательность» критических суждений позволяет поставить под сомнение ее объективность с научной точки зрения и вообще состоятельность художественной критики как научной дисциплины. Однако, как справедливо отмечает А. Бушмин[3], любые математически точные истины в области искусства несоизмеримо беднее художественности целого.
Критика не может и не ставит своей задачей объять равномерно все стороны, грани художественного произведения. Ее задача — выделить существенные аспекты, не искажая, не игнорируя остальных, но на переднем плане оставляя свои. При этом один и тот же критик может раскрывать разные грани художественного произведения в зависимости от аудитории и (условно) печатного органа, на который он ориентируется. Разные задачи и объемы публикаций предполагают различный уровень разговора. «Дом со многими окнами» — так остроумно охарактеризовал критику американский исследователь Малькольм Каули[4].
Влияют на множественность оценок и сами личности критиков. Подобные различия в оценках разных критиков порой играют существенную роль в объективном восприятии произведения. Один критик философичен, другой — эмоционально более восприимчив. Третий обладает большим запасом художественных ассоциаций… Неповторимость восприятия не искажает объективности существования произведения искусства, однако предоставляет широкий диапазон трактовок, где ограничениями служат с одной стороны — само произведение (текст) с другой — актуальная действительность.
Критика, таким образом, не сводится ни к пересказу содержания, ни к выставлению оценок. Она есть выражение взглядов человека, «воспламененного» созданной художником картиной мира и соотносящего эту картину со своими представлениями об искусстве и жизни. И чем больше в критике таких объективно состоятельных субъективных суждений, тем богаче сама критика.