Лекция 2. СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
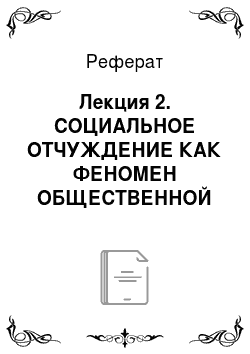
Зз Здесь напрашивается биологическая аналогия, согласно которой животные делятся на холоднокровных, которые меняют температуру тела соответственно среде обитания, не покидая ее (пока не замерзнут или не сварятся), и теплокровных, которые тратят массу калорий на поддержание постоянной температуры тела, зато могут жить, где хотят. Первые лишены витальных эмоций («убивают без радости и гибнут без… Читать ещё >
Лекция 2. СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Онтогенез особи повторяет филогенез вида.
Е. Гаккелъ
Все филогенетические изменения являются приспособительными к изменениям в окружающей среде. Организм ни целиком, ни отчасти не может вернуться к утраченному в эволюции предковому состоянию. Изменение одного органа непременно влечет за собой изменение всего организма.
Из основных законов филогенеза
Детские и юношеские группы последовательно проходят стадии интеграции, аналогичные тем, которые проходили древние общества в ходе исторической эволюции.
Д. Морено
Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.
П. Я. Чаадаев
Если отчуждение как факт онтогенеза личности присуще каждому и проявляется более или менее однотипно в антропологическом смысле, то как феномен общественной жизни оно сильно зависит от обстановки, в которой протекает воспитание. А последнее — от уклада жизни и национального характера, черты которого впитываются в детстве при любой форме воспитания. И если взять за основу два способа средовой адаптации: а) мобилизацию изменчивости, когда живое существо приноравливается к обстоятельствам, которые есть; б) мобилизацию устойчивости, когда постоянство внутренней среды (отчуждение от обстоятельств) удерживается при любых обстоятельствах, легко заметить, что у каждого народа в этом смысле есть определенные предпочтения.
зз Здесь напрашивается биологическая аналогия, согласно которой животные делятся на холоднокровных, которые меняют температуру тела соответственно среде обитания, не покидая ее (пока не замерзнут или не сварятся), и теплокровных, которые тратят массу калорий на поддержание постоянной температуры тела, зато могут жить, где хотят. Первые лишены витальных эмоций («убивают без радости и гибнут без печали»), вторые сильно переживают при угрозе утратить единство внутренней среды и способны на жалость и сострадание. Война мышей и лягушек издревле была сюжетом сказок как символ бессмысленного противостояния, впрочем как и их сожительство (кот Баюн нянчил в детстве Кикимору, но без толку), да и в наши дни тема сосуществования болотных троллей с людьми не сходит с экрана. А в переносе на видовые характеристики человеческого сообщества лягушками следует считать нас (предпочитающих социоцентрический уклад жизни), а европейцев — мышами (с их персоноцентрическим укладом).
Справедливости ради нужно заметить, что в этом отношении мы не одиноки. Американцы во второй мировой войне столкнулись с психологическим феноменом, который не могли объяснить в рамках своих представлений о мотивах поведения человека. Японские солдаты, фанатично стойкие в траншеях, были готовы заискивать перед администрацией лагерей для военнопленных чуть ли не сразу после интернирования. Объяснение, согласно которому человек смиряется под давлением, здесь не годилось. Условия жизни были вполне сносными, а обращение не угрожающим. Никто не занимался «промыванием их мозгов». Оставалось признать, что готовность идентифицировать себя с любым официальным окружением не основывалась на идеях, а проистекала из каких-то глубже лежащих слоев самосознания. Противопоставлять себя режиму им просто не приходило в голову (в чем-то по-детски).
Насколько глубоки эти отличия, легко понять, если взглянуть на историю XX века через призму филогенеза личности и вспомнить, что результатом мировых войн и революций, потрясавших человеческое сообщество, было, в частности, изменение социальных ориентаций народов, где социоцентрические тенденции либо главенствовали, либо были весьма устойчивыми. Достаточно вспомнить самоубийственный характер февральской революции 1917 г., когда буржуазия и интеллигенция пошли на слом государственной машины в момент величайшей угрозы стране и максимального напряжения сил всего народа. По странному стечению обстоятельств и другие страны социоцентрической ориентации вели себя на удивление неконструктивно. Так, Япония объявила войну США, которые в пять раз превосходили ее по промышленному потенциалу и вдвое по человеческим ресурсам. Германия развернула войну на два фронта, не имея реальных перспектив ее выиграть. Как объяснял своему сыну промышленник, герой пьесы Ж. П. Сартра «Затворники Альтоны»: «Германии нужно было поражение в войне, чтобы возродить промышленность. — А мы, солдаты? — Вы только оттягивали развязку». Даже Китай, правда по собственной воле (должно быть, уловив общие тенденции развития мира), прошел горнило культурной революции с ее лозунгом «огонь по штабам», и нынче дети хунвейбинов успешно интегрируются в мировое сообщество.
Образно говоря, если лягушки хотят стать мышами (тролли очеловечиться) или наоборот, нужно сменить эритроциты, кровь у них разная. И психология.
Стоит не то чтобы заняться, а просто задуматься над психологией народов, как сразу бросится в глаза, насколько «мы» отличаемся от «них». Противостояние между Востоком и Западом, граница между которыми проходит аккурат по нашей территории, особенно заметно, когда вопрос встает о личности. Даже в те годы, когда политические, экономические, культурные, социальные, религиозные разночтения (вернее — разнопредпочтения) более или менее сглаживались или хотя бы не драматизировались, психологи держали порох сухим. Особенно в советский период, когда все, что «лило воду на мельницу» пресловутой «глубинной психологии», не только безапелляционно отвергалось, но и решительно искоренялось. Однако и в дореволюционной России явно доминировал пресловутый «деятельностный подход», когда науку интересовали: а) свойства высшей нервной деятельности, обеспечивающие эффективность труда; б) свойства, побуждающие к нарушению «правил общежития» (с акцентом на экспертизу аномалий и дефектов). Переживания человека, страдающего от собственного несовершенства, никого не интересовали. П. Б. Ганнушкин призывал сосредоточить внимание на поиске «соматических корреляций отклоняющегося поведения в физиологических, химических, эндокринологических и иных направлениях», категорично заявляя, что «метод Фрейда кажется нам слишком загадочным, произвольным и неопределенным, чтобы его сколько-нибудь серьезно применять к такой ответственной и широкой проблеме»[1]. В постсоветской России, когда А. В. Петровский, признав ошибочными крайности, допущенные отечественной психологией в отношении личности, выступил перед профессиональной общественностью в качестве автора учебников, по которым училось не одно поколение психологов, казалось, что-то изменится по существу[2]. Сам термин стали употреблять чаще. Это факт. Но на деле категория «личность» превратилась в некую «большую корзину», где физиологические, психические, характерологические свойства и качества стали смешивать в самых невообразимых пропорциях, благо иррациональная природа самого предмета позволяла не особенно с ним церемониться. Что же касается прикладного значения, то здесь любые попытки внедрить личностно ориентированные подходы (в педагогике, юриспруденции, медицине, политике) вызывали неотвратимое отторжение как у начальства (что можно понять), так и у остальных работников (о чем следует задуматься). Естественно, что и концепция социального отчуждения интерпретируется, прежде всего, с позиций девиантного поведения, в то время как работы, посвященные отчуждению внутри «Я», смотрятся как «растения, высаженные не в ту почву».
Справедливости ради нужно отметить, что и Запад смотрит в нашу сторону с опаской. По словам К. Ясперса, «европейцев никогда не оставляет страх, что безмерно отважный порыв человечества к свободе вновь погрузится в глубины Азии таким образом, что исчезнет западная свобода, значимость личности, широта западных категорий, ясность сознания. Вместо этого утвердится вечное азиатское начало: деспотическая форма существования, отказ от истории, стабилизация духа в азиатском фатализме»[3].
По-видимому, нам следует иметь для дальнейшей работы не то чтобы теорию, но некий подход к проблеме, чтобы как-то увязать свойственное человеку вообще с нашим соотечественником и носителями иных нравственных и социальных ориентаций, психология которых служит эмпирической основой того потока знаний, который идет к нам из-за рубежа.