Лекция ОБ ЭМПИРИЗМЕ И РАЦИОНАЛИЗМЕ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КРИТИКА (ФЕВРАЛЬ 1869 г.)
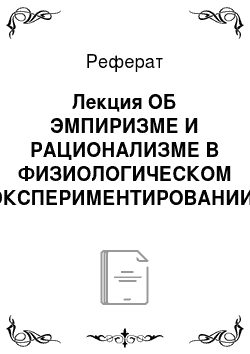
Итак, жаба могла быть отравлена своим собственным ядом так же, как и лягушка, нужна была только более сильная доза яда; в этом вся разница. Правда, это тоже различие, однако это различие совсем иного порядка и различие, не влекущее за собой тех следствий, которые вытекали из заключений г. Вюльпиана; вместо различия природы свойств имеется простое различие в степени. Анатомические элементы должны… Читать ещё >
Лекция ОБ ЭМПИРИЗМЕ И РАЦИОНАЛИЗМЕ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КРИТИКА (ФЕВРАЛЬ 1869 г.) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Господа, искусство экспериментирования на живых существах, являющееся предметом лекций нынешнего года, как общий метод исследования, само по себе не ново: экспериментальный метод применяется уже давно в химии, физике, в науках, изучающих неорганические тела. Но применение его к живым существам совсем недавнее; здесь им лишь начинают пользоваться, он еще в периоде детства; его поступь нерешительна, порой немного беспорядочна, так как приемы его еще не установлены и правила, которыми должно в нем руководствоваться, неопределенны. Но эти несовершенства, неизбежные в начале, исчезнут позднее, и физиологическое экспериментирование может стать и, наверное, станет столь же точным, как и экспериментирование физико-химическое.
Сейчас мы не можем дать здесь полный, во всех частях согласованный, метод физиологического экспериментирования, так как этот метод еще не сложился, но мы должны подготовлять его осуществление. Чтобы ускорить этот столь желаемый прогресс, а также, чтобы сейчас уже облегчить производство опытов и избавить молодых физиологов от неуверенности и легко устранимых ошибок, нужно немедленно же поставить некоторые вехи, которые помешают некоторым уклонениям, направят путь новичков в науке и позднее окончательно помогут начертать путь экспериментирования, определив его общее направление.
В предшествующей лекции я сказал, что мы можем познакомиться с функциями живых организмов, лишь дойдя до последних элементов организма, которые, соединяясь, образуют органы или аппараты тела. Обнаруживая свои специфические свойства, эти элементы, собранные вкупе, благодаря взаимной реакции своих различных свойств, произ;
«Revue des cours scientifiqu. es», 6 февраля 1869 г.
водят ряды сложных явлений, возникающих и развивающихся перед нами в живых существах.
Когда мы наблюдаем эти явления в целом животном, то сначала мы не знаем, чему их приписать; причина их совершенно ускользает от нашего взора. Таким образом, не будучи в состоянии объяснить их известными нам силами, мы принуждены предполагать особую и отличную силу, жизненную силу, которая должна нам объяснить их. Но жизненная сила, понимаемая в этом смысле, есть лишь гипотеза, недостаточность которой обнаруживается, когда мы доходим до выводов физиологического анализа. Действительно, анализ этот показывает нам, как мы только что сказали, что явления, происходящие в живом существе, в животном, суть следствия свойств органических элементов, его составляющих; что причины жизненных функций в действительности заключаются в этих органических элементах, а не в целом существе. Итак, вопрос перемещается: нам нужно обращаться не к сложному существу в целом, в котором пребывает воображаемая жизненная сила; причина явлений жизни должна заключаться в анатомических элементах.
Но анатомические элементы находятся внутри организма. При современном положении вещей наши средства исследования не могут их постигнуть, наш взор не может проникнуть в тело, чтобы увидеть, что там происходит; они, таким образом, ускользают от нашего исследования. Экспериментирование имеет целью устранить это препятствие. Оно внедряется в организм, оно проникает до самых последних его глубин, улавливая функционирование его различных элементарных частей и определяя их роль в явлениях целого. Оно, однако, не сразу доходит до элементов; сначала оно изучает то, что наиболее легкодоступно: механизм больших систем органов и самих органов, как функции органов пищеварения, сердца, артерий, лимфатических сосудов, вен, нервов и мышц и т. д. Потом оно рассматривает ткани и отыскивает анатомические элементы, совокупность которых в большем или меньшем количестве составляет эти ткани: нервные или мышечные волокна, эпителиальные или железистые клетки и т. д.
Итак, при физиологическом анализе, чтобы объяснить явление, нужно в конечном счете дойти до анатомических элементов. Так, при изучении мышечного сокращения нужно продолжать поиски до тех пор, пока мы не найдем причину действия сократительного волокна, вызывающую движение. Когда наблюдают нервное явление, например, ощущение, движение, то нужно дойти до нервного волокна или клетки, являющейся его очагом. Но если и нужно доходить до анатомического элемента, то, раз мы до него дошли, нужно остановиться: свойства этого элемента и суть причины явления. Мы ничего не можем искать вне этого, не преступая границы науки и не впадая в затруднения, для разрешения которых у нас нет никакого средства.
Итак, целью физиологического экспериментирования является отыскание свойств элементов в живых существах и связывание этих свойств со сложными феноменами, проявляющимися в существе как целом.
Изучение свойств элементов в неорганизованных телах, которое также является задачей науки, сравнительно просто: вот почему физико-химическое экспериментирование началось уже давно. Наоборот, в живых существах изучение элементов труднее вследствие тонкости их свойств; эта крайняя затруднительность и объясняет относительно малый прогресс физиологического экспериментирования. Но, хотя это экспериментирование и очень трудно, мы должны тем не менее им пользоваться, ибо у нас нет другого средства проникнуть в тайны явлений организма. Несмотря на значительные препятствия, представляющиеся на практике, мы должны решительно идти этим путем, который только и может вести нас к открытию законов жизни.
Эти затруднения тем более не должны нас останавливать или обескураживать в наших попытках, что цель экспериментирования вполне определенна и ясна; она совершенно та же при изучении живых существ, что и при изучении мертвых тел. Как в одном, так и в другом случае мы хотим определить условия, при которых совершаются явления материи.
Аналогия полная, так как живая материя, как и материя мертвая, сама по себе инертна; она обнаруживает свои свойства только тогда, когда бывает вызвана к тому влиянием определенных и внешних ей условий. Для того чтобы вызвать проявление свойств или возникновение явления, нужно среди окружающих условий, воздействующих на данную материю, организованную или неорганическую, определить. какое среди этих окружающих побочных обстоятельств составляет столь существенное и необходимое условие, что данное явление всегда возникает, когда это условие налицо, и никогда не происходит, если его нет.
Нахождение этого элементарного условия есть центральная задача науки, ибо только тогда, когда мы его знаем, мы получаем власть над явлением. Достаточно тогда для этого воспроизвести или устранить это определяющее условие явления.
Этот экспериментальный детерминизм не вызывает никакого сомнения в науке о мертвых телах. Если мы знаем, что данное минеральное соединение происходит при данных обстоятельствах, то никто не будет отрицать, что оно произойдет вновь, если мы воспроизведем те же условия. Если мы заставим реагировать кислород и водород в надлежащих пропорциях и при условиях, признанных необходимыми, то никто не усомнится, что получится вода, и что ее не получится, если не будут выполнены условия опыта.
Совершенно то же самое в физиологии. Если элементарные условия какого-нибудь явления хорошо определены, можно быть уверенным, что оно произойдет всякий раз, как соединятся, те же условия, и что оно не произойдет, если их не будет. Итак, соединяя или устраняя эти условия, можно в определенный момент, когда мы захотим, вызывать явление или помешать его возникновению. Это очень, важный момент не только для. физиологии, но также, и в особенности, для экспериментальной медицины, которая должна уметь воздействовать на. болезненные состояния. А достигнуть своей цели наука эта может, только научившись приводить в действие по своему желанию все пружины организма, задерживая ход болезненных процессов, которые она хочет прекратить, или, наоборот, вызвать явления, которые она хочет поддержать.
Воздействовать на природу — такова самая возвышенная цель науки; это же и цель человека перед лицом мира, который он хочет покорить и подчинить своей власти. Это завоевание материального мира поставили себе целью физико-химические науки и давно осуществили его в своей области. Каждый день они превосходно воздействуют на природу, применяя свои достижения в индустрии, получившей такое значительное развитие в нашем веке. Физиология должна делать то же самое; поле для ее завоеваний — это живая природа. Она должна, как я только что сказал, научиться по своему желанию приводить в движение все пружины, т. е. элементы организма, вызывать в живых существах проявления их различных свойств, подобно тому как физико-химические науки овладевают всеми силами мертвой материи, заставляя их действовать по нашему желанию. Она достигнет этой цели на живых существах, как она частично достигла этого на мертвых телах, познав существенные условия, всякого явления.
Точное определение условий, при которых происходит какое-нибудь явление, составляет то, что я назвал детерминизмом явления. Это определение условий должно быть само по себе абсолютным: ясно, что если бы какое-нибудь явление происходило одинаково при существенно различных условиях или оно изменялось бы, когда условия оставались неизменными, то наука не была бы возможна, ибо тогда нужно бы было допустить, что различные причины производят тождественные результаты и что одна и та же причина вызывает различные действия. Одним словом, это значило бы отрицать самый принцип науки и полагать, что живая природа не имеет законов, ибо первый признак закона — это то, что он неизменен. Нахождение условий, существенных для наличия явлений, или, иными словами, законов явлений, составляет цель экспериментирования, и искусство экспериментирования заключается в том, чтобы создавать такие условия, при которых возникновение или не возникновение явления было бы. постоянным следствием.
В физико-химических науках, как мы уже сказали, экспериментирование далеко ушло вперед и искусство экспериментатора очень усовершенствовано; но мы хорошо знаем, что в науках о жизни оно далеко не таково. Когда физик или химик делает опыт, то он точно знает, при каких условиях он его производит, и, следовательно, когда он хочет повторить его, он легко находит первоначальные условия и восстанавливает их. И всегда он получает тот же результат; у него и не возникает мысли, что могло бы быть иначе. Если химик тысячу раз соединяет кислород и водород, при определенных, всегда одних и тех же условиях, то его не заставишь думать, что в одних случаях он получит воду, в других ее не получит.
В физиологии, и в особенности в медицине, наоборот, нет ничего обычнее иного рассуждения. Мы постоянно слышим, как физиологи или медики говорят нам: я поставил опыт и получил такой-то результат; другое лицо производит тот же опыт, и получает иное; третий повторил его в свою очередь и не получил ничего подобного двум первым. Авторы регистрируют эти противоречивые результаты, и часто похоже на то, что все принимают это как нечто вполне естественное. Многие не удивляются и не затрудняются этими противоречиями. Говорят, что это связано с природой животного, с индивидуальным и временным предрасположением, с влиянием жизни и т. д.
Когда производят серии экспериментов над животными с какимнибудь ядом или каким-нибудь вирусом, то находят, например, что одно животное погибло, другое выжило и т. п. Потом заключают, что употребленное в опыте вещество было в известном количестве случаев токсическим и не было таковым в других случаях, и факт этот кажется вполне естественным. Составляют даже статистику, сопоставляют самые различные наблюдения, произведенные при различных условиях, и из совокупности результатов выводят пропорцию, говоря, что она представляет собою закон данного явления.
Однако подобные несоответствия абсолютно несовместимы с принципом всякой науки, и невозможно, чтобы так происходило в действительности: когда производят опыты при одинаковых условиях, то результаты всегда должны быть одни и те же.
Если, повторяя какой-нибудь опыт, получают то один, то другой результат, если одно животное, которому привита вирусная болезнь, заболело, тогда как другое животное с такой же прививкой ничего не испытало, то из этого не следует заключать, что нельзя избегнуть такого разногласия результатов одной и той же операции.
Нет, два эти опыта непременно различны, если они дают противоречивые результаты. Несомненно, что наблюдались различные явления, но не несомненно, что опыт производился при одинаковых условиях. Само различие результатов уже доказывает противоположное. Значит, надо искать причину этого расхождения.
Противоречие результатов доказывает только одно, что здесь имеются еще неизвестные условия, ускользающие от экспериментатора. Если все условия опыта будут хорошо определены и известны, тогда можно будет заранее с уверенностью указать постоянный результат опыта. Тот же самый результат обнаружится всегда и неизменно. Наука не допускает исключений; без этого не было бы никакого детерминизма в науке или, вернее, не было бы науки, природа не имела бы законов, и явления материи следовали бы одно за другим, не подчиняясь закону.
В настоящее время физиологическое экспериментирование находится еще в периоде детства. В самом деле, экспериментирование, как и само наблюдение, должно обязательно пройти два последовательных состояния — период эмпиризма и научный период.
В настоящий момент физиологическое экспериментирование еще не вышло из первого периода, оно все еще эмпирическое, и полезно сказать несколько слов по этому вопросу.
Эмпиризм противоположен рационализму; он исключает всякое умозрение и принимает только сырые изолированные факты, не пытаясь ни истолковывать одни другими, ни связывать их в теории. Но если эмпиризм превосходен для накопления фактов и также для того, чтобы удерживать от ошибок при рассуждении, то сам по себе он совершенно недостаточен; он никогда не создаст настоящей науки, так как наука требует всегда вмешательства рассудка и, в противоположность эмпиризму, она должна быть рациональна. Истина не может быть нелогична, все истинное необходимо рационально; все, в конце концов, восходит к разуму, великому критерию Канта.
Итак, мы энергично отклоняем эмпиризм как окончательную форму научного исследования; это период, который нужно пройти, а не оставаться в нем; нужно как можно скорее перейти к рационализму, который является научной формой. Одним словом, эмпиризм констатирует факты, а рациональная наука систематизирует их и возводит в форму теории.
Итак, второй период науки экспериментирования заключается в том, чтобы покинуть эмпиризм и облечь экспериментирование в научную форму. Экспериментальная медицина тогда только станет наукой, когда само экспериментирование достигнет достаточно научного развития. Это и есть цель, к которой мы непрестанно стремимся.
Я уже упоминал вам о французском враче и физиологе, работы которого ясно раскрывают нам все выгоды и недостатки экспериментального эмпиризма: это Мажанди.
Мы уже говорили, что он оставлял свои опыты в необработанном виде и отказывался рассуждать о них, даже группировать их с целью их пополнения, устранения противоречий и освещения одних другими. Поэтому Мажанди часто подвергался резкой критике, так как его не понимали; и я должен сказать, что его трудно было понять. Его эмпиризм был в некотором роде инстинктивным, бессознательным; он не возводил его в систему. Я сам, долго прожив с Мажанди, понял его очень поздно.
Мажанди никогда не говорил о физиологических законах и не хотел, чтобы о них говорили. Он не верил в них, потому что он считал, что эта наука не сложилась; он верил только в наличие сырого экспериментирования.
Во время приезда Тидемана в Париж Мажанди рассказывал ему о своих недавних опытах над спинномозговой жидкостью. Он сказал ему, что эта жидкость не находится в паутинной оболочке мозга и что он наблюдал ее движение вне этой полости. Тидеман тотчас же ответил ему: «Это невозможно, так как закон Биша о серозных оболочках говорит нам, что эта жидкость, секретируемая серозными оболочками, всегда содержится в полости, образуемой этими оболочками».
— «Я не говорю вам о законах серозных оболочек, — возразил Мажанди, — я говорю, что спинномозговая жидкость находится под паутинной оболочкой, а не в ее полости, и, если хотите, я покажу вам это на живом животном. Мне нет дела до закона, потому что это ничего не может изменить в факте».
Много раз, как я вам только что сказал, критиковали опыты Мажанди, указывая на их несогласованность и противоречия, из них вытекающие. Его упрекали в том, что он плохой экспериментатор, потому что он не заботился о согласовании своих опытов. Но люди, критиковавшие его, часто сами ошибались, желая согласовать его опыты; для этого им недоставало критерия. В самом деле, чтобы критиковать опыты, надо иметь критерий. Именно открытие этого критерия и допускает переход экспериментирования от эмпирического состояния к состоянию научному. Этот критерий, необходимый в физиологии, как и в науках о мертвых телах, я и нахожу в детерминизме условий всякого явления. Итак, прежде всего нужно искать этот детерминизм, и пока он не обретен, критика остается бесплодной, потому что у нее нет необходимой основы.
Я хочу привести по этому поводу один пример, ставший знаменитым и часто мною упоминаемый, так как он очень поучителен для экспериментаторов. Он хорошо показывает значение детерминизма оперативных условий там, где хотят провести хорошую экспериментальную критику. Дело идет о споре между Мажанди и г. Лонже о возвратной чувствительности и различных перипетиях его.
В 1822 г. Мажанди открыл различные функции передних и задних корешков спинномозговых нервов. Он, однако, не высказался вполне категорически по вопросу о чувствительности или нечувствительности этих корешков. Позднее он возобновил свои опыты и сделал новые наблюдения, которые он не пытался согласовать с первыми, а ограничивался все время эмпирическим изложением того, что он констатировал.
Мажанди никогда не интересовался физиологическими законами, он и здесь не позволил себе руководствоваться ими, и его мнения следовали за всеми колебаниями его опытов.
В 1839 г. он получил результаты, которые опять отличались от наблюдаемых им до того времени. При первых его опытах передние корешки определенно показывали иногда некоторые признаки чувствительности, но очень слабые и слишком непостоянные чтобы он мог взять на себя смелость определено утверждать ее существование. На этот раз, наоборот, он нашел, что эти передние корешки очень чувствительны, и в течение целого семестра он показывал на этой кафедре проявления этой чувствительности, которую он на основании ее проявления назвал возвратной чувствительностью. В самом деле, эта чувствительность передних корешков приходила к ним от задних корешков, так как она исчезала при перерезке этих последних; а если передний корешок перерезался между спинным мозгом и соединением обоих корешков, то продолжал проявлять чувствительность только периферический конец, отделенный от спинного мозга, но остававшийся в связи с задними корешками через периферию; наоборот, центральный конец становился совершенно нечувствительным.
Между Мажанди и Лонже возгорелся тогда спор о приоритете, которого нам нет нужды касаться, разве лишь для того, чтобы указать, что Лонже в эту эпоху видел возвратную чувствительность и вполне в нее верил. Но Лонже, желая сам изучить вопрос, возобновил опыты Мажанди и нашел, что передние корешки оставались вполне нечувствительными.
Тогда он раскритиковал работы Мажанди, пока зал, что его опыты 1839 г. находились в противоречии с опытами 1822 г., и требовал, чтобы Мажанди объявил, какие опыты были правильны, опыты 1822 г. или 1839 г. Где истина, на каких результатах останавливается Мажанди?
Что касается Мажанди, то его скептический и эмпирический ум мало беспокоился этими расхождениями. Все его опыты были для него фактами, которые он равно принимал, не собираясь согласовать их.
Но ум Лонже был настроен совершенно иначе, и такой результат не мог его удовлетворить. Он упорно и тщательно проделывал большое количество опытов. После долгих изысканий он, наконец, высказался в отрицательном смысле, решив, что Мажанди в 1839 г. полностью ошибался, когда думал, что видит в передних корешках чувствительность, которая в них не существовала.
В своих исследованиях Лонже стремился выйти из экспериментального эмпиризма и хотел придти к тождественным результатам. Однако, по какому праву осуждал он одни опыты, принимая другие? Несомненно, что все они были фактами. Нельзя сортировать опыты, одни принимать, другие исключать: нужно каждый поставить на свое место, определив их условия. Таким образом, проводить экспериментальную критику, плодотворную и решающую, можно только при условии обладания прочным критерием, почерпнутым в абсолютном детерминизме условий всякого опыта.
Как бы там ни было, но возвратная чувствительность была отвергнута, и Лонже представил свою работу на конкурс в Академию наук. Перед комиссией он повторил свои опыты, которые великолепно удались, и получил приз за то, что доказал, что возвратной чувствительности не существует. Это решение доказывало только, что отрицательные факты существовали, но оно не могло доказать, что отрицательные факты уничтожали факты положительные.
В конце концов, вопрос должен был пройти через новые стадии. Мажанди, показывавший в течение нескольких месяцев на своих лекциях явления возвратной чувствительности, не мог не быть изумлен этим опровержением. Он захотел возобновить опыты. Но получился тот странный факт, что он не мог обнаружить эту возвратную чувствительность, которую он так постоянно и легко получал раньше. Я вместе с Мажанди участвовал в этих попытках, не понимая причины странного исчезновения возвратной чувствительности, но не был в силах отказаться от воспоминаний об опытах Мажанди в 1839 г., при которых я присутствовал и которые явно показывали наличие возвратной чувствительности.
Я читал курсы по частным вопросам экспериментальной физиологии и мне часто случалось повторять эти опыты, которые долго давали мне все же отрицательные результаты. Подготовка опыта казалась очень простой, она была одинаковой во всех случаях: вскрывали спинномозговой канал, обнажали спинной мозг и рассматривали корешки нервов, выходящих из спинного мозга. Как могла проскользнуть ошибка в эту серию операций, которые казались столь совершенно идентичными по их оперативным условиям? В то время никто, но мог этого сказать. Вопрос в 1840 и 1841 гг. находился в таком положении, что передние спинномозговые корешки не были больше чувствительными, бывши таковыми в продолжение нескольких месяцев в 1839 г. Разве такое заключение приемлемо?. Со своей стороны я не мог его принять, потому что, как я сказал, я сам был свидетелем опытов, произведенных на лекциях Мажанди. Таким образом, у меня было убеждение, что оба ряда результатов равно существовали, но что должно было иметься какое-то условие, присущее каждому из них и укользнувшее при опытах.
Тогда я предпринял новые исследования над возвратной чувствительностью с намерением отыскать причину этих странных колебаний при экспериментировании.
Долго раздумывая об этом, я, наконец, вспомнил, что при первых опытах Мажанди всегда проходило некоторое время, один час или больше, между моментом вскрытия спинномозгового канала и тем, когда на передних корешках устанавливали наличие возвратной чувствительности. В самом деле, животное приготовлялось в лаборатории перед лекцией, а исследование свойств корешков производилось только на лекции. Я заметил, напротив, что в более поздних опытах, произведенных не для курса, Мажанди и Лонже исследовали передние корешки сейчас же после того, как они открывали спинномозговой канал. Итак, это был вопрос времени, который не был учтен.
Я предположил, что это обстоятельство могло оказать известное влияние на различие результатов. Чтобы убедиться в этом, я повторил опыты, производя их поочередно при двух различных условиях. И я увидел действительно, что если я ущемлял передние корешки тотчас же после того, как широко раскрывал позвоночный канал, то не получал никаких знаков чувствительности у животного, ослабленного и изнуренного болью во время операции; если же я возобновлял раздражение через час или два, то возвратная чувствительность проявлялась совершенно ясно, потому что отдохнувшее животное находилось в иных условиях.
Итак, было доказано, что старые и новые опыты производились не при одних и тех же условиях; этим, объясняется, что они давали различный результат.
Теперь нужно было обсудить каждый из результатов и решить, который из двух должен быть принят как нормальный или как соответствующий физиологическим условиям. Очевидно, что таковыми следовало признать результаты, полученные у отдохнувшего животного, хотя возвратная чувствительность развивается и усиливается при обнажении нервов.
К тому же, вскрывая позвоночный канал на очень ограниченном пространстве и хлороформируя животных, можно получить явление возвратной чувствительности тотчас после операции, не давая им продолжительного отдыха. Можно получить также явление возвратной чувствительности на лицевом нерве, который можно обнажить, не производя большого увечья, делая лишь простой разрез на коже. Итак, возвратная чувствительность проявляется при физиологических условиях и на нее нельзя смотреть как на результат патологический. Но здесь, как и повсюду, физиологический и патологический случай смешиваются, потому что они являются в некотором роде степенью феномена при данном условии. Важно определить это условие.
Таким образом, ясно, что если не хотят оставлять физиологические опыты в сыром состоянии эмпиризма, если хотят понять их, то нужно объяснить их расхождение, согласовать их, а не проявлять исключительность, отрицая один опыт в пользу другого.
Я сказал когда-то, что нет плохих опытов: все опыты хороши при соответствующих условиях. Если опыты не согласуются, значит, существует одно или несколько условий явления, ускользнувших от экспериментатора, значит, мы не дошли до экспериментального детерминизма, т. е. мы не знаем еще всей совокупности обстоятельств, при которых происходит явление. В этом состоит проблема, так как наука, по выражению Леонардо да Винчи, есть по существу лишь изучение обстоятельств вещей. Знание всех, этих обстоятельств я и называю детерминизмом. Следовательно, чтобы ориентироваться в экспериментальной критике, мы должны всегда иметь в виду этот принцип абсолютного и обязательного детерминизма явлений; ибо, повторяю, невозможно, чтобы в живых существах, так же как и в мертвых телах, при тождественных обстоятельствах не происходили тождественные явления.
Но детерминизм должен обладать одним существенным философским качеством: он должен быть рациональным. Чтобы вы хорошо поняли мою мысль, я приведу вам еще один пример экспериментальной критики.
Г. Вюльпиан предпринял ряд крайне интересных опытов над ядом жабы. Прививая этот яд различным животным, он констатировал, что они отравлялись, и он получил очень быстро наступающую смерть специально у лягушек. Г. Вюльпиан определил даже механизм действия этого животного яда, показав, что смерть происходила от остановки сердца; это было, таким образом, то, что называют сердечным ядом. Но, прививая этот яд жабы самой жабе, г. Вюльпиан заметил, что это животное не отравлялось и, по-видимому, не испытывало никакого действия своего собственного яда. Итак, заключение из опытов было таково, что яд жабы был токсичен для лягушки, но не для жабы.
В случае г. Вюльпиана, как и в случае г. Лонже, я, хорошо зная искусство экспериментаторов, и не думал оспаривать самих опытов. Но, принимая опыты г. Вюльпиана как сырой материал, я не мог принять выведенные им заключения, хотя они, по-видимому, вытекали из фактов. Я не мог принять этих выводов, потому что они были нерациональны. Они не могли, следовательно, быть выражением научного детерминизма, они могли быть только эмпирическими результатами.
Как, в самом деле, допустить, что яд, немедленно останавливающий сердце лягушки, не останавливает сердце жабы? Это значило придти к заключению, что эти два сердца были различны по своей природе, раз они обладали столь различными свойствами, что-то, что было ядом для одного, не было таковым для другого. Но подобное заключение для двух животных, столь близких по природе, было абсолютно нерационально и ненаучно. Если у столь близких во всех отношениях животных, как лягушка и жаба, существовали подобные различия, то какое значение имели в отношении физиологии человека опыты, производимые над животными, конечно, гораздо более от него отдаленными?
Вместо искомого нами детерминизма, который один только и может составить науку, мы приходим к полному индетерминизму. Наука перестала бы быть возможной, даже слова потеряли бы смысл. В самом деле, как можно бы было говорить о мышечных волокнах, если бы это выражение охватывало элементы, обладающие по своей физиологической природе абсолютно отличными свойствами? Если бы такой результат был принят, то профессорам физиологии оставалось бы подать в отставку, ибо их наука превратилась бы в химеру.
Итак, я повторил опыты г. Вюльпиана на жабах, я повторил их в точности в тех условиях, что и автор, и я действительно получил указанные им результаты. Так же, как он, я впрыснул жабе то же самое количество яда, каким, несомненно, убивают лягушку, и жаба не умерла, но, увеличивая дозу яда, я достиг того, что отравлял жабу так же, как и лягушку.
Итак, жаба могла быть отравлена своим собственным ядом так же, как и лягушка, нужна была только более сильная доза яда; в этом вся разница. Правда, это тоже различие, однако это различие совсем иного порядка и различие, не влекущее за собой тех следствий, которые вытекали из заключений г. Вюльпиана; вместо различия природы свойств имеется простое различие в степени. Анатомические элементы должны обязательно иметь у всех животных тождественные по своей природе свойства. Если бы оказалось, например, что какое-нибудь мышечное волокно не обладает всеми существенными свойствами других волокон или имеет еще специальные свойства, кроме свойств других волокон, то пришлось бы уже не считать его мышечным волокном, а особым органическим элементом. Но если свойства какого-нибудь анатомического элемента должны быть повсюду тождественны по своей природе, то из этого не следует, что они обязательно тождественны по их интенсивности. Это не одно и то же, и мы очень хороню знаем, что, наоборот, интенсивность их свойств меняется не только у разных животных, но даже у одного и того же животного под влиянием массы различных причин. Доза какого-нибудь активного вещества, способная вызвать известный эффект, может вариировать в очень больших пределах вследствие различной интенсивности свойств анатомического элемента при различных обстоятельствах, но характер эффекта остается тем же, и будет ли он сильным или слабым, он всегда должен быть налицо, потому что свойство, ему соответствующее, всегда присутствует.
После этих двух изложенных вам интересных примеров вы должны понять, что нужно разуметь под экспериментальной критикой. Истинная критика не есть критика исключения — это критика, ничего не уничтожающая и все согласующая рациональным детерминизмом явлений. Когда мы приходим к этому, то всякий спор неизбежно прекращается. Поэтому все спорные вопросы, о которых я вам говорил, теперь решены. Г. Лонже, г. Вюльпиан и я, мы все согласны теперь, и факты всем очевидны. Если есть другие вопросы физиологии, о которых спорят (они всегда будут), то нужно твердо знать, что можно придти к соглашению относительно них только тогда, когда будет установлен точный детерминизм каждого опыта, придающий последнему его значение и ценность. В этом истинный прогресс экспериментальной науки.
Часто для объяснения противоречивых опытов ссылаются на влияние жизни, не определяя точно ее механизма. Но это совершенно напрасно: это влияние никогда не должно быть принимаемо во внимание в спорах об экспериментах. Не то, чтобы я хотел отрицать влияние жизни, — конечно, это влияние существует, но только как первопричина, управляющая функциями элементов тканей и органов. Она, если угодно, сообщает им характерные свойства, проявление которых мы изучаем; от нее получают они особые силы, их оживляющие, которых мы не находим в мертвых телах. Но раз эти свойства создались под влиянием жизни, они функционируют так же, как и силы мертвых тел. Жизнь здесь больше не при чем, и ее нельзя вмешивать в детерминизм явлений. Свойства живых тел более тонки, чем силы мертвых тел: в этом все различие их проявления.
Конечно, эта тонкость явлений жизни создает наибольшие трудности при ее изучении, потому что мы обладаем относительно очень грубыми инструментами и очень несовершенными методами, но, чтобы ориентироваться среди этих затруднений всякого рода, мы должны твердо, вне всяких споров, придерживаться принципа нашего метода, детерминизма. При изучении какого бы то ни было явления нужно всегда ставить целью абсолютное и рациональное определение условий его существования и таким образом вполне овладевать явлением, быть в состоянии по желанию вызвать его или препятствовать его возникновению.
Когда мы достигнем знания этого совершенного детерминизма, мы всегда будем точно знать, что мы делаем не только в физиологии, но также и в медицине, т. е. в патологии и терапии.