Qui pro quo и «Подмен виновных»: металитературное и автобиографическое в рассказе Н.С. Лескова «Колыванский муж»
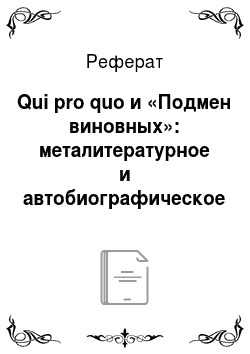
Вторая литературная мистификация, упоминаемая в рассказе, представляет собой удвоенное qui pro quo. Рассказчик упоминает некий «немецкий перевод из Гафиза» и вместо него цитирует стихи А. К. Толстого «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель». Стихи А. К. Толстого ошибочно связаны здесь с переводами Фета стихотворений немецкого поэта Г. Ф. Даумера, которые тот выдавал… Читать ещё >
Qui pro quo и «Подмен виновных»: металитературное и автобиографическое в рассказе Н.С. Лескова «Колыванский муж» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
QUI PRO QUO и «Подмен виновных»: металитературное и автобиографическое в рассказе Н. С. Лескова «Колыванский муж»
Н. Ю. Заварзина лесков литературный рассказ автобиографический Автобиографическое начало в произведениях Лескова обычно связывают с образом повествователя («Язвительный», «Владычный суд», «Железная воля», «Юдоль», «Колыванский муж»), который действительно имеет черты Лескова как автора биографического (служившего в рекрутском присутствии, состоявшего на службе у Шкотта, часто ездившего на отдых в Прибалтику). Однако автобиографическое содержание может быть обнаружено и в образе рассказчика, которого, согласно существующей в литературоведении теории сказа, рассматривают как изображение социально иного сознания, носителя «чужой речи» [4. Т. II: 88], интеллектуально отдаленного от автора [29: 191]. Очевидно, такое понимание образа рассказчика в творчестве Лескова требует уточнения.
Если автобиографический уровень произведений учитывается исследователями, то металитературный практически не изучен, несмотря на то, что эксплицитные металитературные фрагменты можно встретить в различных текстах Лескова. Одно из наиболее известных мест — рассуждение автора о жанре святочного рассказа во вступительной части к рассказу «Жемчужное ожерелье» [7: 181 182]. Вероятно, невнимание к металитературной функции художественных произведений Лескова вызвано несколькими причинами. Металитературный уровень произведения не всегда просто выявить (в особенности, если в тексте нет прямых рассуждений повествователя о литературе вообще или о каком-нибудь жанре, писателе или произведении). Кроме того, не исследована деятельность Лескова как литературного критика. Практически неизученным и даже неизвестным остается до сих пор довольно большой корпус произведений Лескова (по подсчетам С. А. Рейсера, не менее 25 печатных листов [23: 181]) — рецензий на книги, подготовленных им для Ученого комитета Министерства народного просвещения в 1874—1883 гг. [9], и не изучен вопрос о связи деятельности Лескова-рецензента с его литературным творчеством. Не изучены также критические замечания о произведениях современной литературы, о литературном быте, которые можно найти в газетных и журнальных статьях писателя, поскольку многие из этих статей впервые атрибутированы для Полного собрания сочинений Лескова.
Между тем игнорирование металитературного уровня приводит к обеднению содержания произведения или выпадению его из поля зрения исследователей. Анализ металитературного уровня текста позволяет, с одной стороны, показать многоплановость произведений Лескова и, с другой — иначе осмыслить функцию рассказчика в них.
Рассказ «Колыванский муж» обычно анализируют в аспекте актуальной общественной проблематики («Остзейского вопроса») или с точки зрения особенностей изображения немецкого и русского национального характера [11: 66−75], определяя при этом отношение автора к персонажам-немкам как негативное [13. I: 326] или, наоборот, положительное [6: 56]. Однако в этом многослойном произведении можно увидеть и иные планы содержания: в рассказе Лескова представлена модель взаимодействия культур и отражение этого взаимодействия в судьбе человека, оказавшегося в межкультурном пространстве, и в художественном творчестве.
В настоящей статье сделана попытка показать присутствие в произведении автобиографического и металитературного уровней, которые, с одной стороны, связаны неким общим мотивом, а с другой — разнородны и поэтому сообщают рассказываемой истории превращения Ивана Сипачева в немца двойственность, противоречивость, а произведению в целом — некоторую недосказанность.
Ключевой мотив рассказа «Колыванский муж» можно определить как перепутывание, замену одного другим. Основное направление таких замен — превращение русского в немецкое и наоборот.
Мотив перепутывания выражается по-разному в двух отмеченных планах рассказа: автобиографическом и металитературном.
Прежде всего, отметим замены некомического характера, связанные с таким перепутыванием, которое, используя слова самого Лескова, можно обозначить как «подмен виновных». В рассказе описан довольно запутанный с юридической точки зрения случай неисполнения остзейскими немцами российских законов. По общим законам Российской империи дети от смешанных браков должны были быть крещены в православие. В рассказанной же истории героининемки и лютеранский пастор нарушают закон, герой-рассказчик мог бы написать на них «донос» [17. Т. VIII: 430], но отказывается это делать. Однако именно он становится виновным в возникшем из-за этого нарушения скандале. Этот «подмен виновных», с точки зрения рассказчика, представлен как вопиющая несправедливость.
Мотив перепутывания как «подмен виновных» имеет автобиографическое происхождение. Характерный для остзейского судопроизводства «подмен виновных» был описан Лесковым незадолго до появления рассказа «Колыванский муж» в статье 1885 г. [15]. Лесков писал о так называемом вейсенштейнском деле, в ходе которого, по мнению Лескова, оскорбители-немцы были оправданы, а русского офицера, майора Вертинского, пытались представить виновником произошедших беспорядков — он якобы был нетрезв и оскорбил ни в чем не виновных вейсенштейнских лютеран. Реакция Лескова на события 15-летней давности была преувеличенно резкой: «Худо то, что в единственном документе, который из всего этого известен русским, не только сквозит, а, как солдаты говорят, свиньем прет самое бесцеремонное стремление местных властей „подменить подсудимых“ и на место несомненно в чем-то виновных немцев прихватить под следствие русского офицера» [15: 339]. Эпиграф к статье из апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» предрекает немецким судьям мучения в аду: «А тии, иже содеваша правых виноватыми и виноватых правыми, — тии стоят по уста в огне» [15: 324].
Такую резко негативную реакцию писателя на, казалось бы, незначительное происшествие (майор Вертинский не был обвинен судом) можно объяснить сходством вейсенштейнского дела с судебным преследованием самого Лескова со стороны Эстляндского оберландгерихта в начале 1870-х годов: в ходе разбирательства дела самого Лескова эстляндским судом произошел «подмен виновных». В 1872 г. Лесков опубликовал посвященную этому статью «Законные вреды» [14], однако суть обвинений, выдвинутых против Лескова эстляндским судом, из нее не ясна. Лесков сообщает лишь, что немцы своими оскорбительными отзывами о России и русских спровоцировали драку, в которой участвовал только спутник Лескова, Добров, а затем объявили квартальному, что Добров и Лесков были нетрезвы.
«Подмен виновных» в суде над Лесковым становится очевиден при знакомстве с материалами дела, хранящегося в РГИА [22]. В материалах дела хранится не только жалоба Лескова Правительствующему сенату на действия эстляндского суда, но и объяснения, представленные Сенату эстляндским оберландгерихтом. Из этих объяснений видно, что эстляндский суд считал виновным во всем случившемся самого Лескова: Лесков и Добров в ночь с 22 на 23 июля 1870 г. в ревельском курзале «напали на гг. Мейера, Геппенера и Винклера и оскорбили их словом и действием при отсутствии всякого данного с их стороны повода», кроме того, частный надзиратель Храдецкий подал рапорт в Эстляндское губернское правление о том, что в ту же ночь Лесков «оскорбил его самым грубым образом словами и действием при исполнении им обязанностей службы». Лескову также ставили в вину «мнимый донос» — жалобу в Эстляндское губернское правление о том, что три немца «с неуважением оскорбительными словами отзывались о государе императоре» [22: 25−30]. Очевидно, обвинения против Лескова не были совершенно беспочвенными. Сын писателя вспоминал о том, что наутро после происшествия в курзале к Лескову приходили «парламентеры» — секунданты трех оскорбленных немцев. «Вернувшийся домой Лесков расхохотался: „Дуэль? Подумаешь! Какой вздор! Хватит с них и нескольких добрых ударов стулом!“» [13. Т. I: 324−325]. Однако писатель считал настоящими виновниками произошедшего столкновения немцев, оскорбивших его национальные чувства.
Ситуация, описанная в рассказе «Колыванский муж», несколькими деталями напоминает судебное преследование Лескова со стороны эстляндского суда. Это позволяет отметить автобиографические детали в образе рассказчика Сипачева. Героя-рассказчика, русского офицера, трижды обманули, оскорбив его национальную гордость, за что он «прибил» [17. Т. VIII: 397] и выгнал немок из дома. Сипачев объясняет, что сделал это от возмущения, а не потому, что был нетрезв, и долго рассказывает, что никогда не пьет. Это напоминает объяснение Лескова в статье «Законные вреды»: история с немцами, пишет Лесков, «по отношению ко мне не может быть признана историею кутежного характера, ибо я был трезв, как всегда (что, впрочем, надеюсь, несомненно для всех, знающих мой неизменный образ жизни)» [14].
Вторая общая деталь — странный диалог двух сторон, из которых одна говорит только по-немецки (понимая при этом и порусски), а другая — только по-русски. Эстляндский оберландгерихт в течение нескольких лет присылал Лескову бумаги на немецком языке и не отвечал на его письма, написанные по-русски, объясняя это принятыми в крае законами. Однако вынесенное Сенатом постановление прислать Лескову текст обвинения на русском языке эстляндский суд выполнил, и все документы дела Лескова, написанные на немецком языке, переведены на русский язык (не без курьезных стилистических ошибок, одна из которых и была вынесена Лесковым в заглавие статьи — «законные вреды»). В рассказе «Колыванский муж» «твердые немецкие дамы» [17. Т. VIII: 398] сначала делали вид, что «не знают ни одного слова по-русски» [17. Т. VIII: 394], и не отвечали на поклоны, но после разразившегося скандала обнаружилось, что они прекрасно могут говорить по-русски не только с соседом-писателем, но и с его прислугой и даже понимают «разные русские слова, которых повторить невозможно» [17. Т. VIII: 397]. В 15 главе повести сходство «суда» немки Авроры над героем рассказа и суда над самим Лесковым наиболее очевидно. В разговоре с Авророй Сипачев пытается объяснить ей, что действия немок несправедливы и даже незаконны, на что Аврора отвечает только понемецки <^еіп" [17. Т. VIII: 443−446] и представляет единственным виновником случившегося скандала самого Сипачева, совершая по сути «подмен виновных».
Сходны и собственно юридические аспекты двух «нарушений» законов, указанных в жалобе Лескова на несправедливые действия остзейского «судилища» и в ненаписанном доносе Сипачева на действия немок. Требование Лескова присылать ему бумаги на русском языке и желание рассказчика крестить детей в православие не имеют однозначного законного основания. Действия немцев незаконны лишь наполовину: в обоих случаях наряду с общероссийским законом существовало некое особое постановление или действующий на территории Остзейских губерний закон, согласно которым в Прибалтике разрешалось в первом случае вести судопроизводство на немецком языке (ст. 121 Свода местных узаконений [25]), а во втором — крестить детей в лютеранской церкви [10: 155−157]. Таким образом, как и в происшествии в ревельском курзале, объективно определить, кто нарушил закон, невозможно. Однако и в статьях «Законные вреды» и «Подмен виновных», и в рассказе «Колыванский муж» «немецкий» закон представлен как несправедливость по отношению к русским, вызывающая возмущение.
Автобиографическая основа мотива «подмены виновных» в рассказе (и в отмеченной выше статье «Подмен виновных») придает тексту эмоциональную насыщенность и ощущение подлинности описываемых переживаний героя. Однако искренняя и «страстная» [17. Т. VIII: 405] исповедь Сипачева, имеющая автобиографическую основу, осложняется другим проявлением мотива перепутывания, связанным с металитературным уровнем повествования. Назовем такой тип замен (в противоположность «подмену виновных») «qui pro quo». Этот термин, называющий традиционный прием комедии положений, часто использовал Лесков для обозначения комических недоразумений, ошибок и перепутываний (например, в повести «Железная воля»).
Наиболее очевидно эта разновидность мотива перепутывания выступает в замене собственных имен. Так, Ревель в конце 7 главы превращается в Колывань [17. Т. VIII: 411], баронесса Генриетта становится Венигретой [17. Т. VIII: 406], предполагавшиеся имена детей (Никита и Марфа) видоизменяются дважды — при крещении (Готфрид и Освальд) и в речи рассказчика (Роберт и Бертрам) [17. Т. VIII: 439]. Перепутываются и имена авторов произведений, упоминаемых в рассказе. Так, стихотворение А. К. Толстого «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель.» названо рассказчиком «немецким переводом из Гафиза» [17. Т. VIII: 431]. Возможно, это не ошибка Лескова, как считает автор примечаний к рассказу [3: 618], и замена русского немецким (и арабским) сделана автором намеренно.
Второе направление замен qui pro quo — это превращение персонажей рассказа в героев других литературных произведений. Так, Иван Сипачев в письме баронессы превращается в «молодого Вертера» [17. Т. VIII: 407], а сама баронесса, ее дочь и Аврора во сне героя становятся «ткачихой с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой» [17. Т. VIII: 428]. Перепутывания или перестановки касаются также священных текстов: «хлеб насущный» превращается в «хлеб надсущный» благодаря изысканиям лютеранского пастора, который «одну ночь разговаривает по-гречески, а другую — по-еврейски» [17. Т. VIII: 433].
Комический характер большинства таких замен и перепутываний очевиден, комическое начало является даже предметом рефлексии рассказчика. Причиной превращения Генриетты в Винегрету Сипачев считает русское пустосмешеством [17. Т. VIII: 412], себя самого представляет героем комедии — чувствует, что с ним «играют какую-то комедию» [17. Т. VIII: 427]. Замена русских имен детей на немецкие представляется ему смешной, его с такими детьми «засмеют» [17. Т. VIII: 430], имена Готфрид и Освальд в его сознании ассоциируются с именами героев комического балета «Роберт и Бертрам». (Балет И. Ф. Шмидта и Ц. Пуни «Роберт и Бертрам, или Два вора» (1841) упоминается Лесковым также в романе «На ножах» в названии 8 главы 1 части.) Ироническое начало в таких перепутываниях, как и несоразмерно большое их количество, создает необходимое остранение для проявления металитературного плана рассказа.
Металитературный уровень содержания проявляется, прежде всего, в тех элементах текста, связь которых с рассказываемой историей о превращении русского человека в немца не очевидна. Это многочисленные цитаты и реминисценции из различных текстов, включенные в речь рассказчика: обрывки фраз и цитаты из Библии, русских былин, «Горя от ума», «Ревизора», стихотворений Некрасова, романса на стихи Кукольника, Стерна. Текст погружает читателя в поток реминисценций, отсылающих не только к литературным произведениям, но и к живописи, музыке, событиям истории. Некоторые из них образуют совершенно определенный смысловой пласт и выделены на фоне других в тексте — указан автор, цитата приведена в кавычках. Это цитаты из «Любушина суда», произведений И. С. Тургенева, «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина, а также цитата из стихотворения А. К. Толстого, которую Сипачев называет немецким переводом из Гафиза. Как было показано О. Майоровой, цитаты и реминисценции у Лескова часто придают описываемым событиям неочевидный, символический смысл [19]. И другие исследователи связывают с многочисленными цитатами в произведениях Лескова возникновение смыслового углубления образов [24]. Очевидно, это не единственная функция цитат в произведениях Лескова. В рассказе «Колыванский муж» цитаты не освещают символическим светом историю превращения Ивана Сипачева в немца, а направляют внимание читателя к цитируемому тексту, который, благодаря заданному сопоставлению, получает неожиданную интерпретацию.
Наиболее очевидные интертекстуальные связи с произведением Лескова имеет роман Тургенева «Дворянское гнездо». В рассказе есть не только часто повторявшееся Лесковым [13. Т. II: 255] «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» [17. Т. VIII: 421], но также целый комплекс сюжетных и фабульных перекличек с романом Тургенева.
На уровне фабулы можно отметить такие, например, соответствия. Герой вступает в неудачный брак, переживает смерть неверной жены (у Тургенева — мнимую, у Лескова — реальную) и встречу с другой героиней — воплощенным идеалом. И в том, и в другом произведении герой узнает о смерти неверной жены из почтовых сообщений (у Лескова — из письма, у Тургенева — из фельетона парижской газеты) и просит новую возлюбленную это сообщение прочесть, не зная, как ей об этом сказать: «Лаврецкий наклонился над столом.
— Я хотел передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите, вот что отмечено карандашом в этом фельетоне, — прибавил он, подавая ей нумер взятого с собою журнала" [27. Т. VI: 92]. Сюжетная цитата из романа Тургенева в рассказе Лескова выглядит так: «Стоя на одном колене и на другом обвязывая развязавшийся узел, я почти безотчетно достал из кармана полученное письмо и сказал: „Пожалуйста, прочтите“, а сам опять опустил глаза к узлу.» [17. Т. VIII: 419]. Сходны и характеристики героев. Лаврецкого называют «тюленем» [27. Т. VI: 56], Сипачева — возможно, в парономастическом соответствии с этим — «теленком» [17. Т. VIII: 401] или «молодым бычком» [17. Т. VIII: 400] и обоих — «мужиками» [27. Т. VI: 56; 17. Т. VIII: 403] по сравнению с окружающими их образованными женщинами. Возникает впечатление, что Лесков пересказывает роман Тургенева.
Самое начало произведений задает сходство. В начале текста в том и другом случае описание открытого окна в сад, но если в романе Тургенева в этом саду играют дочери русской дворянки Лиза и Леночка, то у Лескова сад захвачен двумя немецкими дамами, к которым затем присоединяется и третья (заместившая позже собой Лину) — Аврора.
Изображение Авроры в повести соотносится с изображением Лизы Калитиной. Как и Лиза, Аврора представлена искусной музыкантшей. В исполнительском мастерстве обеих подчеркнута старательность и упрямство. Аврора, как и Лиза, это и возлюбленная (у Лескова впоследствии — жена главного героя), и инстанция, которой принадлежит высший нравственный суд над героем и которой он подчиняется. Совпадают и нравственные требования, предъявляемые Лизой и Авророй к герою: примириться с семьей, признать свою вину, покориться судьбе и попытаться заслужить прощение. Однако если в романе Тургенева этот нравственный суд представлен в освещении русской религиозной традиции, то в устах немки Авроры те же требования изображены как несправедливые, поскольку в их основе находится «подмен виновных».
Переклички рассказа Лескова с романом Тургенева и замена Орла немецким Ревелем, а Лизы Калитиной немкой Авророй дают возможность интерпретировать рассказ Лескова как переосмысление писателем идейной основы «Дворянского гнезда». Согласно мнению критиков, в романе Тургенева показано глубокое «знание русской жизни» [21: Т. I: 305], а образ Лизы «представляется наиболее русским, наиболее соответствующим идеалу русской женщины» [5: 115]. В рассказе «Колыванский муж» исконность, принадлежность идейной основы романа русскому национальному сознанию подвергается сомнению. Такое направление мысли задается еще двумя цитатами в тексте. Первая — цитата в 7 главе из «Литературных и житейских воспоминаний» Тургенева: рассказчик «привел шутя слова Тургенева, что «нашей русской сути из нас ничем не выкуришь». А отец поморщился:
— Твой Тургенев-то, — говорит, — сам, братец, западник. Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в немецкое море, так своей сути и лишился" [17. VIII: 410]. Имеются в виду следующие высказывания Тургенева: «Я бросился вниз головою в „немецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и, когда я, наконец, вынырнул из его волн — я все-таки очутился „западником“ и остался им навсегда. нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести» [27. Т. XI: 8−9]. Очевидно, с этой цитатой из Тургенева соотносится и эпиграф к рассказу: «Пошел по канун и сам потонул».
Иван Тургенев и Иван Сипачев представлены в рассказе в двух качествах: как действующие лица описываемых событий (Тургенев — в «Литературных и житейских воспоминаниях» и в восприятии отца главного героя) и как авторы литературных произведений (Тургенев как автор «Дворянского гнезда», Сипачев как автор своей исповеди-«повести»).
«Литературность» рассказа Сипачева подчеркнута троекратным повтором слова «повесть» разными субъектами речи: «Вы должны выслушать мою повесть», — говорит рассказчик [17. Т. VIII: 402]. «Да, голубчики, это повесть», — говорит отец Федор [17. Т. VIII: 402]. «Рассказчик продолжал свою страстную и странную повесть», — повторяет в третий раз повествователь [17. Т. VIII: 405].
Таким образом, в тексте выстраивается целая система отсылок к творчеству и личности Ивана Тургенева и главным образом к роману «Дворянское гнездо».
Можно отметить, что критические и иронические отзывы об этом романе Тургенева встречаются в нескольких известных нам работах Лескова. Один из них — в рапсодии «Юдоль» (1892): «Тетушка овдовела очень молодою; она имела всего не более двадцати трех или четырех лет и уже была матерью трех дочерей.
Если бы не дети, то очень могло статься, что тетушка пошла бы в монастырь, так как у нас в Орле это тогда было в моде между дворянством (с чего и написана Лиза у Тургенева); но дети этому помешали" [17. Т. IX: 281]. Из высокой трагической героини, воплощения народного идеала, Лиза в интерпретации Лескова превращается в заурядную орловскую дворянку, поступок которой вызван не религиозными мотивами (необходимостью покаяния), а «модой».
В одном из очерков «Русских общественных заметок» 1869 г. Лесков писал о гражданской жене актера А. А. Аттиля, оказавшейся перед тем же выбором, что и героиня Тургенева. Актриса Немирова вышла замуж за Аттиля после того, как он объявил ей, что его первая жена умерла, и решилась следовать за ним в Сибирь, когда его обвинили в двоеженстве. Лесков именно такую женщину представляет истинно русской героиней, поступок которой — следование самому древнему завету Бога: «Эта женщина воспроизведена перед вами не фантазиею поэта — драматурга или романиста, а ее ставит перед вами сама русская жизнь. Женщина эта в кратком, даже в слишком кратком очерке адвоката да в десяти собственных словах встает перед вами во весь свой рост, с живою душою, черпающею свою силу не в заклеклых моралях „дворянского гнезда“, а в тех заповедях сердца, для которых, по словам „в бездне зол погрязшего“ восточного Гафиза, С предвечного начала На лилиях и розах Узор священный был Начертан уж в раю» [16. Т. VIII: 322].
Как видно, уже в 1869 г. Лесков противопоставлял идею романа «Дворянское гнездо» «самой русской жизни». В рассказе 1888 г. он раскрыл это литературное qui pro quo — то, что в «Дворянском гнезде» Тургенева выдавалось за «русскую суть», на самом деле оказывается сутью немецкой.
Можно предположить, что и другие включенные в текст рассказа цитаты указывают на подобную подмену в других произведениях, которые, в отличие от романа Тургенева, были известными литературными мистификациями. Первое из таких произведений — сборник подделок под старочешскую поэзию «Зеленогорская рукопись», в состав которой входил цитируемый в рассказе Лескова «Любушин суд»: «Вспомни „Любушин суд“. Нехорошо, коли искать правду в немцах. У нас правда по закону святу, которую принесли наши деды через три реки» [17. Т. VIII: 409−410]. Подложность этой подделки под древнюю самобытную поэзию была доказана именно в 1880-х гг., этому открытию были посвящены многочисленные публикации в русских журналах [12], с которыми, несомненно, был знаком как Лесков, так и его читатель.
Вторая литературная мистификация, упоминаемая в рассказе, представляет собой удвоенное qui pro quo. Рассказчик упоминает некий «немецкий перевод из Гафиза» и вместо него цитирует стихи А. К. Толстого «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель». Стихи А. К. Толстого ошибочно связаны здесь с переводами Фета стихотворений немецкого поэта Г. Ф. Даумера, которые тот выдавал за переведенные им на немецкий язык стихи персидского поэта XIV в. Хафиза. В действительности же это были оригинальные произведения немецкого поэта «в духе Гафиза». Обращение к «немецким переводам из Гафиза» нечасто встречается в произведениях Лескова. Отметим, что приведенная выше цитата из такого сочинения появилась также в связи с романом Тургенева. К моменту появления рассказа Лескова уже была опубликована переписка Тургенева (в различных журналах, а также в изданном Литературным фондом в 1884 г. «Первом собрании писем И.С. Тургенева»). Из этих писем Лескову могло быть известно, что именно Тургенев был инициатором переводов [28: 607] и давал высокую оценку переводам Фета, не подозревая о том, что в основе этих переводов была литературная мистификация (Тургенев узнал о мистификации лишь в 1868 г. [18: 373]). Ко времени появления рассказа Лескова неаутентичность «переводов» Даумера — Фета была известным фактом [1. Т. IV: 774].
Характерно, что в рассказе Лескова приписанные Хафизу строки обращены к Ивану Сипачеву. Их цитирует барон Андрей Васильевич, указывая рассказчику на его сына Готфрида, что в реалистическом плане рассказа выглядит неприличным намеком или глумлением над несчастьем отца, сына которого, вопреки его воле, «оборотили» [17. Т. VIII: 430] в немца. В металитературном плане это обращение к «художнику» — ироническое переосмысление романтической концепции искусства, выраженно в стихотворении Толстого. Поэт-романтик писал о чуткости души художника, способного услышать «неземные рыданья», «неслышимые звуки», увидеть «невидимые формы», «образ предвечный» и постичь «вселенскую правду». В рассказе Лескова «художник» испытывает влияние другой культуры, происходящее независимо от его воли и даже сознания.
Третье литературное произведение в этом ряду мистификаций — «Сказка о царе Салтане» Пушкина. Существование у сказок Пушкина западно-европейских фольклорных и литературных источников было доказано только в начале XX в. [8: 394−395], но уже Афанасьевым для сюжета русской фольклорной сказки о царе Салтане были указаны сходные немецкие сюжеты [2: 377−378]. (Именно это, второе издание сказок Афанасьева, хранилось в библиотеке Лескова, а сейчас хранится в Орле в собрании книг из библиотеки Лескова.) Таким образом, соединение в сказках Пушкина мотивов фольклора разных народов могло было очевидно уже исследователям второй половины XIX в. И в рассказе Лескова в ряду других литературных qui pro quo проясняется инокультурная основа сказки о царе Салтане, персонажи которой являются во сне герою как «ткачиха с поварихой с сватьей бабой Бабарихой», в действительности же оказываются тремя немками. Отметим, что Тургенев в своей речи, посвященной открытию памятника Пушкину в 1881 г., назвал сказки Пушкина «подделкой под народный тон» [27, XII, 343], имея в виду связь сказок с русским фольклором и не учитывая инокультурных влияний, заметных даже в этих текстах Пушкина.
Таким образом, на металитературном уровне рассказа мотив перепутывания объединяет такие литературные произведения, которые возникли в результате работы мистификаторов или были созданы под влиянием литературной традиции иной культуры (Краледворская рукопись, немецкие переводы из Гафиза, сказки Пушкина). При этом каждый текст создавался или воспринимался как связанный с древней культурной традицией того или иного народа, выражающий национальную ментальность. Характерно, что в сохранившихся отзывах Тургенева об этих текстах подчеркивается их «народность», писатель ошибочно видел в них выражение народного духа. Роман Тургенева в этом ряду также приобретает окраску подлога-мистификации, переделки «на русские нравы» инокультурной основы.
Характерно, что в творчестве Лескова открытая литературная полемика с Тургеневым возникает не только в связи с романом «Дворянское гнездо». Критические замечания Лескова связаны и с романом «Дым». Так, опровержение слов героя романа Потугина о том, что русские ничего не изобрели (слова Потугина в гл. XIV), встречается и в публицистических статьях [16. Т. VII: 359; VIII: 115 116], и в художественных произведениях Лескова [17. Т. IV: 192; 16. Т. VII: 592].
Очевидно, не все высказывания Лескова об этом романе известны. См., например, атрибутированную нами для Полного собрания сочинений Лескова статью «Наблюдения и заметки» [20].
Тот же роман послужил, по сути, и причиной скандала в ревельском курзале. В статье «Законные вреды» Лесков рассказал о словах немцев, спровоцировавших скандал, а затем и историю уголовного преследования Лескова: «Только что мы с Добровым вошли, говоря между собою по-русски, и сели, как студент заговорил со своими товарищами о романе „Дым“. Он хвалил этот роман; признавал его единственным произведением, которое дает правильное понятие о России, где все должно „рассеяться, как дым“ (wie Rauch!)» [14]. Таким образом, имя Ивана Тургенева, как и мотив перепутывания, связывает два анализируемых плана рассказа: биографический и металитературный.
Образ Тургенева стоит и за фигурой рассказчика, которая, как и рассказ в целом, оказывается двойственной. Автобиографические черты, наиболее очевидные в начале рассказа, сменяются пародийными, связывающими образ Ивана Сипачева с личностью Ивана Тургенева. В отличие от Лескова биографического, вступившего в спор с немецким судом, Иван Сипачев принимает «немецкую правду»: не только соглашается с крещением детей в лютеранство, но и сам трижды нарушает российские законы: женится на двоюродной сестре своей жены, женится в четвертый раз, заключает брак по лютеранскому обряду и, вероятно, сам переходит в лютеранство, на что в тексте есть лишь намек: по словам барона, до брака с Авророй Сипачев «еще не был христианином» [17. Т. VIII: 449]. Рассказ завершается указанием на последнее превращение русского в немецкое: «Иван Никитич как бычок, окончательно отмахнул головою и от Москвы, и от Калуги, и кончил свой курс немцем» [17. Т. VIII: 449]. Металитературный план рассказа позволяет увидеть в этом финале пародийный намек на судьбу Тургенева, жившего в последние годы жизни вместе с семьей Полины Виардо не в России — сначала в Германии, а затем во Франции — и умершего за границей. Этот намек поддерживается сходством голоса Авроры с голосом Виардо: повествователь отмечает, что у Авроры (не певицы) был «сильный женский голос, впадающий в контральто» [17. Т. VIII: 441]. Но главным на металитературном уровне текста остается вопрос о произведениях, написанных под влиянием традиции другой культуры.
Лесков-писатель не дает однозначных ответов, напротив, стремится показать сложность проблемы и в ряд текстов, возникших в результате межкультурного диалога, включает не только художественные, но и священные книги. Перепутывания, как показано в тексте, связаны не только с деятельностью сознательных или бессознательных мистификаторов, но и с деятельностью переводчиков. Автор, очевидно намеренно, выбрал два таких спорных фрагмента из Библии [17. Т. VIII: 429, 433], которые не поддаются однозначному толкованию и в течение многих лет служат предметом богословской полемики [26. Т. III: 124−123]. Поскольку утрачен первоисточник, различные толкования относятся лишь к переводам, которые могут быть ошибочными. Даже Библия (славянская и немецкая), наряду с отмеченными выше историческими и художественными сочинениями, представляет собой проблемный текст, возникший в результате переписывания и нескольких переводов с языка на язык и сохранивший следы влияния на первоисточник нескольких национально-языковых культур (греческой, славянской, латинской и немецкой).
Реализация мотива перепутывания в двух планах: автобиографическом («подмен виновных») и металитературном (qui pro quo) задает двойственность оценки произведений, возникшую в результате межкультурного диалога. Эта двойственность усиливается еще и тем, что законодательные акты, послужившие причиной юридического конфликта, противоречат друг другу, а в запутанной истории переводов, переделок и мистификаций уже невозможно найти первоисточник. Вопрос о том, к чему приводит взаимообмен между культурными традициями разных народов, остается без однозначного ответа: это взаимообогащение или духовная смерть, результаты этого общения — веселая комедия положений, где все перепутано (qui pro quo) или это обман, подлог, требующий разоблачения?
- 1. Allgemeine deutsche Biografie. — Leipzig, 1876.
- 2. Афанасьев А. Н. Примечания // Народные русские сказки: в 4 кн. — М., 1873. — Кн. 4.
- 3. Батюто А. И. [Примечания] // Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. — М., 1958. — Т. 8.
- 4. Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. — М., 2000.
- 5. Буренин В. П. Литературная деятельность Тургенева. — СПб., 1884.
- 6. Дрожжина, Т. А. Особенности изображения немецкого национального характера в повестях Н. С. Лескова «Железная воля» и «Колыванский муж» // Юбилейная международная конференция по гуманитарным наукам, посвященная 70-летию Орловского государственного университета: Материалы. — Орел, 2001. — Вып. 1: Н. С. Лесков.
- 7. Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра. — СПб., 1995.
- 8. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. — Л., 1978.
- 9. Журнал Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения (РГИА. Ф. 734. Оп. 3. Д. 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 48, 153, 156, 159, 164).
- 10. Красножен М. Иноверцы на Руси: К вопросу о свободе веры и о веротерпимости. Том I: Положение неправославных христиан в России. — Юрьев, 1903.
- 11. Кузьмин А. В. Инородец в творчестве Н. С. Лескова: проблема изображения и оценки. — СПб., 2003.
- 12. Лаптева Л. П. Краледворская и зеленогорская рукописи // Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора. — М., 2002.
- 13. С. 57−119.
- 14. Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: в 2 т. — М., 1984.
- 15. Лесков Н. С. Законные вреды // Рус. мир. — 1872. — № 313. — 30 нояб. — С. 2.
- 16. Лесков Н. С. Подмен виновных: Случай из остзейской юрисдикции // Истор. вестн. — 1885. — № 2. — С. 327−340.
- 17. Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: в 30 т. — М., 1996;2007.
- 18. Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. — М., 1956;1958.
- 19. Литературное наследство. — М., 1967. — Т. 16: И. С. Тургенев. Новые материалы и исследования.
- 20. Майорова О. Е. «Непонятное» у Н. С. Лескова: О функции мистифицированных цитат // Новое литературное обозрение. — 1994. — № 6. — С. 59−66.
- 21. Наблюдения и заметки // Рус. мир. — 1872. — № 208. — 13 авг. — С. 1−2.
- 22. Писарев Д. И. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. — М., 2000.
- 23. Правительствующего сената 5-го департамента частное дело по настольному реестру 1871 г. № 36 по жалобе губернского секретаря Николая Лескова присяжного поверенного Константина Хартулари (РГИА. Ф. 1345. Оп. 270. Д. 1051).
- 24. Рейсер С. А. Лесков и народная книга // Рус. лит. — 1990. — № 1.
- 25. Сафран Г. Евангельский подтекст и еврейская тема во «Владычном суде» Н. С. Лескова // Евангельский текст в русской литературе XVIIIXX вв: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. — Петрозаводск, 1998. — С. 462−470.
- 26. Судебное заседание II отделения V департамента Правительствующего Сената 1 дек. 1872 года // Рус. мир. — 1872. — № 323. 11 дек. — С. 1−3.
- 27. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета с иллюстрациями: в 12 т. / под ред. А. П. Лопухина. — СПб., 1906.
- 28. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. — М., 1978;1986.
- 29. Фет А. А. Сочинения и письма: в 20 т. — СПб., 2004.
- 30. Шмид В. Нарратология. — М., 2003.