Категории преступления и наказания по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
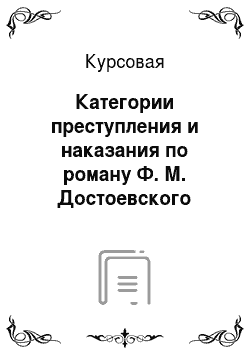
Наступает момент одержимости, когда вся энергия героя сосредоточивается на идее. Если до этого многие внешние обстоятельства и внутренние переживания как бы предостерегали о смертельной опасности навязчивого пути, то теперь формирование и осуществление замысла подстегивается и событиями жизни, и порывами героя. Все, что с ним происходит, болезненно заостряет вопрос, на который воспаленное… Читать ещё >
Категории преступления и наказания по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. МЕТАФИЗИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ
- 1. 1. Причины внимания Ф. М. Достоевского к теме преступления
- 1. 2. Миропонимание Ф. М. Достоевского о природе Бога и человека, преступления и наказания в субъективной оценке дореволюционных и современных философов
- ГЛАВА 2. КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО РОМАНУ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
- 2. 1. Раскольников: идея совершения преступления
- 2. 1. Философия преступления: роль судьбы
- 2. 3. Философия наказания: возмездие за неверно построенную модель мира
- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
Маниакальное самовозвеличение приводит к крайним выводам: на сверхчеловека не распространяются нравственные законы, существующие для инфантильных душ большинства, низменной толпы. «Трепещущая тварь» должна повиноваться избранному меньшинству — власть имущим. Сильная личность стоит вне закона. Она выше обыденной морали, как бы за пределами добра и зла. Поэтому истинное величие в том, чтобы стремиться к заданной цели, отменяя нравственные предписания и заглушая голос совести, как рецидив слабости и посредственности.
Достоевский показывает психологию формирования мании величия. Силы, умения, таланты есть, идея, цель ясны — это уже признак величия для Раскольникова. Чтобы утвердиться на этой «высоте», необходимо не только найти конкретный путь достижения цели (дело техники рассудка), но и решиться на его осуществление. Поступок во имя идеи оказывается решающей гранью, выводящей из области фантазий в область реальности. Он же будет проверкой и критерием истинности позиции, утверждением собственного величия. Так средство к достижению цели подменяет цель. Не случайно Раскольников не знает, как распорядиться похищенным богатством. Достоевский вскрывает внутреннюю диалектику прельщения: не может быть нравственно оправдано достижение благих целей порочными средствами, которые неизбежно становятся самоцелью, вытесняя самые благие побуждения.
Перед решающей гранью Раскольников цепенеет в нерешительности. В этом и состоит проблема пре-ступления — переступления через незыблемые Божии законы («Божья правда, земной закон», по Достоевскому), в основе которых свобода, суверенность и неприкосновенность человеческой личности. Человек — венец творения Божьего и сотворец Богу, он не может быть средством к достижению даже самых высоких целей. Можно ли для счастья многих убить одну невинную душу? Это проблема оправдания Божьего творения. Остатки нравственного чувства не позволяют Раскольникову поставить этот вопрос в законченной и обнаженной форме. Он пытается сбежать от угрызений совести, придавая проблеме оправдывающую форму: можно ли для счастья многих лишить жизни одного ничтожного человека («зловредную вошь»).
Душа Раскольникова в период, предшествующий преступлению, в смятении и борении. Оттесняются ее положительные качества, и обнажаются низменные стремления. Фантасмагорическая идея постепенно захватывает его полностью. Она подавляет всплеск совести во сне о лошади, где Раскольников открывается как человек по природе добрый, способный к состраданию. Через сон Раскольников ощутил убийство не как алгебраический знак, а как реально пролитую кровь: «Боже, — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать… прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?.. Да что же это я!..
Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил?". Он отказывается от своего замысла: «Господи! Ведь я все же равно не решусь!.. Господи!.. покажи мне путь мой, а я отрекусь от этой проклятой… мечты моей». И даже переживает эйфорию отрезвления: «Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!». Но всплеск совести и жажда освобождения от инфернального наваждения не были волево утверждены, поэтому опрокидываются волной мутных страстей. Подавленное нравственное чувство проявляется только в мгновения отрезвления: «О Боже!
как это все отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!..
И я целый месяц…". Но всплески совести постепенно затухают. Остатки разума и совести сказываются только в страхе и нерешительности, оттягивавших преступление. Раскольников чувствовал, что за этим шагом — бездна. Но идея уже неотвратимо захватывает все его существо.
Наступает момент одержимости, когда вся энергия героя сосредоточивается на идее. Если до этого многие внешние обстоятельства и внутренние переживания как бы предостерегали о смертельной опасности навязчивого пути, то теперь формирование и осуществление замысла подстегивается и событиями жизни, и порывами героя. Все, что с ним происходит, болезненно заостряет вопрос, на который воспаленное сознание дает ложный ответ. Так, роковыми оказались для Раскольникова раздумья на бульварной скамейке, где он встретил поруганную девочку. Маниакальная идея паразитирует на душевной энергии, ложно ее ориентируя. Ум Раскольникова работает четко, его чувства обострены только тогда, когда это способствует осуществлению идеи. Разрушены духовно-нравственные основания человека, выдернутого из почвы, из земли, потому слабыми оказываются защитные доводы рассудка.
Какую альтернативу может предложить немощный, человеческий разум? Воплощением рассудочно-рациональной стороны Раскольникова является Разум-ихин. В решительный момент, когда идея становилась повелением, Раскольникова бросило к нему. Но он остановил себя: «Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?». Доводы рассудка оттесняются, теперь рассудок призван разве что легализовать преступление: «Я к нему… на другой день после того пойду». И Разумихин — первый, с кем общается Раскольников после преступления.
Но контакта у них не возникает. В обыденной ситуации Разумихин мог бы олицетворять реальный выход из положения. Разумихин — здоровый, целостный, но приземленный, рассудочный человек. У него не возникает многих вопросов, потому что его сознание поверхностно и тем самым вне проблем. Раскольников же личность усложненная, углубленная и утонченная. Он сознает ущербную частичность и искусственность мира ученого-специалиста и мещанскую ограниченность его жизни. И он отвергает рассудочную альтернативу.
Спасительной же целостной идеи его душа не может породить, ибо расколоты основания жизни.
Образ Раскольникова по мере приближения к моменту преступления обезличивается. Воля парализуется. Он вроде и не принимал «окончательного решения», ибо, «несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во все это время». Но преступление и состоит в том, что в решительный момент он не противопоставил захватывающей его маниакальной идее совестливого волевого акта. Человек призван к непрерывному творческому напряжению, и чем ответственнее ситуации — тем более. Отказываясь от свободы и ответственности решения, проявляя безволие, герой тем самым внутренне уже преступает черту, выходит из области личностного бытия и попадает под власть натуралистических сил, роковых и фатальных стихий.
Проявляя себя как ответственная свободная личность, человек пролагает свой неповторимый путь, преодолевая мировую эмпирию, ибо свободное творческое самоопределение выводит из-под власти сил мира сего. Напротив, обезличенный маньяк выпадает в безличностное измерение и оказывается марионеткой злых сил, роковым образом влекущих к гибели. «Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли…». Окончательное решение Раскольников принимает совершенно безвольно. Воспаленное сознание воспринимает идею уже не как фантазию, а как императив.
С этого момента он не властен над собой, попадает в руки фатальной предопределенности: «Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды вколесомашины, и его начало в нее втягивать».
(Продолжение следует.)
Виктор Аксючиц
09 / 03 / 2009
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Е.А.Осокина (Москва)
ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ И НЕЛЮБВИ К ДОСТОЕВСКОМУ:
В.НАБОКОВ О ДОСТОЕВСКОМ
В. Набоков, Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский (С.173−219), Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев, [Перевод с английского и французского; Предисловие И. Толстого], Москва, «Независимая газета», 1996, 438 с.
Настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово.
…Искусство — божественная игра.
(Из лекции В. Набокова о Ф.М. Достоевском)
«Не скрою, — говорит Набоков, — мне страстно хочется Достоевского развенчать. Но я отдаю себе отчет в том, что рядовой читатель будет смущен приведенными доводами».
И действительно, не было обзорно-критического текста, вызывающего недоумение такой силы, что это не давало спокойно жить. Лекция бесподобна! И прежде всего, бесподобна по подбору отрицательных оценок и претензий, которые можно бы было предъявить автору при человеческой и филологической слепоте и глухоте. Более того, оказалось, что передающиеся из уст в уста отрицательные формулировки в оценке творчества уникального художника-мыслителя проистекают из этой же лекции о Достоевском, написанной, к слову сказать, для западной аудитории и не переведенной им самим на русский язык, но получившей распространение и в русской критике. История происхождения текста на русском языке не совсем ясна, не указывается источник перевода. Это отмечается несколькими филологами-исследователями, в том числе и А. А. Илюшиным (Philologica 3−1996), который свое недоумение от лекции объяснял так:
Лектор — человек настроения. Сегодня он может говорить одно, завтра — другое, чуть ли не противоположное. Так, он сердится на тех, кто вменяет в заслугу большим писателям простоту их слога: «Запомните: „простота“ — это вздор, чушь. Всякий великий художник сложен» (с. 309). Но, если нужно, лектор готов спеть гимн простоте: «Я утверждаю, что простой <…> человек редко бывает пошляком <…> в России когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса <…> Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность» (с. 388). Выходит, что простоту уместно клеймить в угоду сложности и превозносить в укор пошлятине.
Воспринять все буквально — согласиться с обвинениями из-за зависти Набокова, о чем принято говорить, с глупостью: зачем же тогда и читать! А если признавать ум лектора — что вряд ли подвергается сомнению — понять надо! Чтение произведения мастера слова должно стать со-творчеством столь же изысканным и хитроумным, как и само произведение. Но со-творчество предполагает работу ума, а не стыдливость или агрессию при восприятии. В. Набоков указывает (с.184−185) «метод обращения с литературой — простейший и важнейший… Книги, которые вы любите, нужно читать, вздрагивая и задыхаясь от восторга… Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого „желудка“ души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов, — тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней; ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту — тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови».
Мне только после третьего прочтения стало понятно, что это — замечательная игра, принцип которой заимствован Набоковым у Достоевского — «от обратного». И как в монологе Инквизитора — «шедевре ораторского искусства» — «отрицательная аргументация вдруг оборачивается положительной: обвинительная речь становится величайшей в мировой литературе теодицеей» (Мочульский, 533), так и лекция В. Набокова, представляя всю немыслимо отрицательную аргументацию неприятия мира Достоевского, является хвалебным гимном великому русскому гению.
Отрицательные черты поэтики Достоевского.
1. с т. зр. явления мирового искусства и проявления личного таланта «Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей».
2. Д-й — прежде всего автор детективных романов, где каждый персонаж… остается тем же самым до конца;
3. страстная убежденность Д-го в том, что физическое страдание и смирение исправляют человеческую природу;
4. квинтэссенция Достоевщины;
5. религиозные мотивы тошнотворны своей безвкусицей;
6. сюжет построен искусно, интрига разворачивается с помощью многочисленных искусных приемов. Правда, иные из них, если сравнить с Толстым, больше смахивают на удары дубинкой вместо легкого касания перстами художника; впрочем, многие критики, возможно, не согласятся со мной;
7. болезненная форма христианства;
8. построил из проявлений человечности очень искусственную и совершенно патологическую концепцию, доходившую до крайней идеализации русского народа;
9. все самые известные сочинения создавались в условиях внешней спешки;
10. неоправданное раздувание самых обычных чувств, автоматически вызывающих в читателе естественное сострадание;
11. безвкусица Д-го, его бесконечное копание в душах людей;
12. манера, по выражению Бунина, «совать Христа где надо и не надо»;
13. отсутствуют описания природы;
14. описав однажды наружность героя, больше уже к ней не возвращается… Так не поступает большой художник;
15. путешествие в глубь больных душ;
16. сомнительно всерьез говорить о «реализме» или «человеческом опыте» писателя, создавшего целую галерею неврастеников и душевнобольных;
17. (к старости Набоков — О.Е.) наконец, понял, что изъян, трещина, из-за которой разваливается все здание романа «Преступление и наказание», находится в сцене чтения Евангелия о воскрешении Лазаря, где есть фраза, не имеющая себе равных по глупости во всей мировой литературе… («…убийца и блудница, сошедшиеся за чтением вечной книги» — с.190). Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой патетики и набожности… Преступление Раск-ва описано во всех подробностях, но ни разу не видим Соню за ее ремеслом… Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово;
18. фашистские идеи, которые развивает Раскольников;
19. вечно торопившийся Достоевский;
20. Раск-в — неврастеник, а искаженное восприятие любой философской идеи не может ее дискредитировать. Достоевский скорее бы преуспел, сделав Раск-ва крепким. Уравновешенным, серьезным юношей, сбитым с толку слишком буквально понятыми материалистическими идеями;
21. …чувствуя слабость своей позиции;
22. в стиле отражается человек. Это отражение Д-й хочет передать в мутном потоке признаний, в ухватках и ужимках неврастеника, отчаявшегося, озлобленного и до ужаса несчастного;
23. упоение собственным падением — одна из любимейших тем Д-го;
24. автор не уточняет, что за грех он имеет в виду, а искусство должно всегда все уточнять;
25. сентиментальные и готические романы, которых начитался Д-й;
26. назойливое повторение слов и фраз, интонация одержимого навязчивой идеей, 100%-ая банальность каждого слова, дешевое красноречие — отличают стиль Д-го; И тут же: …целый ряд новых душевных изломов слышится в мучительных признаниях, заполнивших последующие страницы…
27. мысль старая, принадлежит еще Руссо;
28. герои Д-го выбирают что-нибудь безумное, идиотское и пагубное — разрушение или смерть, — лишь бы это был их собственный выбор;
29. газетный штамп совершенной вселенской жизни — хрустальный дворец-идеал;
30. нужно сказать, что Д-й испытывал совершенно патологическую ненависть к немцам, полякам и евреям что видно из его сочинений;
31. унижение человеческого достоинства — излюбленная тема Д-го — годится скорее для фарса, а не драмы. Не обладая настоящим чувством юмора, Д-й с трудом удерживается от самой обыкновенной пошлости, притом ужасно многословной;
32. как всегда в романах Д-го, перед нами торопливое и лихорадочное нагромождение слов с бесконечными повторениями, уходами в сторону — словесный каскад, от которого читатель испытывает потрясение после, к примеру, прозрачной и удивительно гармоничной прозы Лермонтова;
33. художественный мир создан слишком поспешно, без всякого чувства меры и гармонии, которым должен подчиняться даже самый иррациональный шедевр;
34. в каком-то смысле Д-й слишком рационалистичен в своих топорных методах;
35. и хотя события у него — всего лишь события духовной жизни, а герои — ходячие идеи в обличье людей, их взаимосвязь и развитие этих событий приводятся в действие механическими приемами, характерными для примитивных и второстепенных романов к.18 и нач.
19 в.
36. в качестве романов его книги рассыпаются на куски, в качестве пьес — они слишком длинны, композиционно рыхлы и несоразмерны;
37. описывая своих героев Д-й бывает не слишком остроумен, но подчас весьма язвителен (далее следует блестящее описание заглушения «Марсельезы» «Августином»);
38. «Братья Карамазовы» — великолепный пример детективного жанра… Роман этот длинный и любопытный. В нем много примечательного, даже названия глав… Перед нами не роман, а скорее либретто какого-то эксцентричного водевиля;
39. всю длинную, вялую историю старца Зосимы можно было бы исключить без всякого ущерба для сюжета, скорее это только бы придало книге цельности и соразмерности;
40. в эту прекрасную историю о мальчике Илюше, его друге Коле, собаке Жучке, серебряной пушечке, капризных выходках истеричного отца — даже в эту историю Алеша вносит неприятный елейный холодок… Сумеречные тропы уводят читателя в угрюмый мир холодного умствования, покинутый гением искусства.
В.Набоков — прекрасный писатель, эстет, тонкий ценитель русскоязычной классической литературы, любящий свою Россию — не мог не видеть достоинств русского «гения искусства» (Набоков, 219), создавшего совсем непросто читаемые и далеко не так легко постигаемые произведения. Поэтому уместно предположить, что указанные отрицательные черты феномена Достоевского условны, источником и образцом характеристик и путей понимания художественных текстов для думающих и внимательных (а не несведущих) читателей быть не могут, а служат лишь инструментом для воплощения истинной идеи в оценке мастера мастером. И содержание этой идеи вызревает в процессе вдумчивого и неоднократного чтения текста лекции, с пережевыванием и смакованием отдельных кусочков.
Набоков так хорошо видел, понимал и ценил приемы Достоевского-мастера, что использовал эти приемы при написании своей лекции о Достоевском, тем самым «закодировав» этот текст, как шахматную партию, сыгранную наоборот. (Идее отражения жизни-партии, как в «страшном зеркале» Достоевского, посвящен и роман «Защита Лужина». (Достоевский… производит гнетущее действие на психику современного человека, ибо как в страшном зеркале…(с.160) Там герой не в шахматы играет — священнодействует, обдумывая и представляя партии и желая создать такую, чтобы наоборот…)
Для воплощения своей идеи оценки творчества Достоевского «от обратного» Набоков придумывает метод уравновешивания или зеркального отражения: на каждое обвинение он приводит оправдание, демонстрируя все это на собственном тексте.
— говоря о пошлости Д-го, сам пользуется пошлым приемом пересказа («Идиот»);
— обвиняет Д-го в крайностях — и сам позволяет себе крайности в обвинении («религиозные мотивы тошнотворны своей безвкусицей» — с.209);
— обвиняя в противоречивости, сам противоречит в пределах данной лекции: то говорит о вспышках непревзойденного юмора и исключительно талантливом юмористе (с. 176, 202), то, что Д-й не обладает настоящим чувством юмора (с.210);
— упрекая Д-го в издевательствах, сам издевается изощренно, уничтожая одной фразой: прелестный шарж на Тургенева… (с.210) или «по выражению Бунина, эта манера Д-го «совать Христа где надо и не надо» (с.183);
— указывает на вечную поспешность и небрежность Д-го в отделке произведений и сам комкает лекцию, сводя оценку огромных романов к 3−4-м страницам, тогда как «Запискам из подполья» уделяет 12…
В.Набоков не считается с аудиторией — его лекция является сама по себе художественным произведением. Обвинить Набокова можно, разве что, в том, что он всеми силами старается отвратить, а тем самым и оградить, западного слушателя от Д-го, старательно выпячивая отрицательные формулировки.
Не боится В. Набоков и быть скомпрометированным, что подчеркивает его мастерство и умышленное использование «запрещенных» приемов:
1. отделяет себя от аудитории (трудность моя состоит в том, что не все читатели, к которым я сейчас обращаюсь, достаточно просвещенные люди);
2. первая книга Д-го «Бедные люди» поразила и критиков, и читателей… Родился новый Гоголь!..;
3. Некрасов и Григорович ворвались в комнату (к Д-му), задушили сочными российскими поцелуями… Д-й прослезился от радости;
4. во время предварительного следствия Д-й находился в Петропавловской крепости, где начальником был генерал Набоков — мой предок;
5. я знал Розанова, когда он был уже женат на другой (не возлюбленной Д-го);
6. Д-й умер, заслужив всеобщее признание и почитание;
7. я бы хотел, чтобы вы оценили «Преступление и наказание» именно с этой т.зр.: перевешивает ли эстетическое наслаждение, которое вы испытываете, сопровождая Д-го в его путешествиях в глубь больных душ, другие чувства: дрожь отвращения и нездоровый интерес к подробностям преступления;
8. повторяется: о неизменяемости героев говорит трижды — 183, 188;
9. … все герои в том или ином романе действуют, как опытные шахматисты в сложной шахматной партии;
10. Н-в допускает такие суждения, как «автор думал… если бы он сделал так, а не иначе… чувствуя слабость своей позиции…»;
11. странные выводы: (к роману ПН)…страстная убежденность Д-го в том, что физическое страдание и смирение исправляют человеческую природу, коренится в его личной трагедии — он упорно считал, что вернулся из Сибири исправленным;
12. всю среднюю часть лекции подробно разбирает «Записки из подполья», по главам, и каждую ругает, НО тут же: посредственные подражатели Д-го, как французский журналист Сартр, продолжают пописывать в том же духе и по сей день;
13. Д-ий обладал замечательным чувством смешного, вернее трагикомического, его можно назвать талантливым юмористом, но юмор у него все время на грани истерики;
14. какой невероятный вздор, но вздор грандиозный, достигший своего пика, со вспышками гениальных озарений, освещающих весь этот мрачный и безумный фарс;
15. эта постоянная оглядка на читателя… идет из русской литературной традиции — Пушкин в «ЕО», Гоголь в «МД»… но заигрывать с чем-либо также заимствовано из западных романов;
16. книга — БрК — представляет собой типичный детектив, лихо закрученный уголовный роман, его действие разворачивается медленно… Сюжет развивается так, что читатель долгое время должен гадать, кто же убийца (???), -;
все эти высказывания подтверждают игру автора лекции.
В.Набоковым была создана изощренная мистификация, возносящая Д-го на пьедестал. Мастер мог себе это позволить, будучи совершенно уверенным в совершенстве Д-го и своем мастерстве. Он не боялся быть скомпрометированным, а просто использовал прием Д-го — «от обратного». Густота зеркальных отражений так к концу нарастает, что неизбежно разбивается о заключительный возглас — ГЕНИЙ ИСКУССТВА!
11−12 ноября 2006 г.
Как построена лекция (43 страницы)?
I. Вступительная часть (14 страниц).
1. Вступление В. Набоков начинает со слов Белинского из «Письма к Гоголю» — за чтение которого в т. ч. Д-ий обвинялся по делу Петрашевцев, — где только слова о «пробуждении в народе чувства человеческого достоинства» хоть какое-то отношение к теме имеют. Почему с него начинает мэтр? Чтобы начать с известного западному слушателю критика? С критика, имевшего свой собственный критический инструментарий, отличный от всего остального? Чтобы так ввести Достоевского? Именно лекцию о нем Набоков начинает возносящими художника словами о взгляде на литературу «под единственно интересным углом, как на явление мирового искусства и на проявление личного таланта». И тут же снижает: «с этой т.зр.
Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей". А потом опять возносит: «Однако трудность моя состоит в том, что не все читатели, к которым я сейчас обращаюсь, достаточно просвещенные люди. Я бы сказал, что добрая треть из них не отличает настоящую литературу от псевдолитературы». И некое признание: «Не скрою, мне страстно хочется Достоевского развенчать. Но я отдаю себе отчет в том, что рядовой читатель будет смущен приведенными доводами».
2. Биографическая справка Допуская неточности (страдал неврастенией и эпилепсией с детства, публикация БЛ в «Современнике», а на самом деле в «Петерб. сборнике» в 1846 г.), т. е. не придавая большого значения словам, и выпячивая себя — свой род — и свое знание русской натуры (Некр. И Григорович среди ночи задушили Д-го сочными российскими поцелуями; Д-й прослезился от радости; тург. Прозвал Д-го прыщом на носу рус.
лит-ры; начальником Петр. Крепости был мой предок ген. Набоков; болезненная ф. христианства как выход на каторге; Я знал Розанова — мужа любовницы Д-го, — когда он был уже женат на другой…), Набоков говорит о незабываемом впечатлении речи о Пушкине на фоне роста русского нац. самосознания и смерти Д-го, заслужившего всеобщее признание и почитание.
3. Оценка художественных принципов.
В.Набоков указывает (с.184−185) «метод обращения с литературой — простейший и важнейший… Книги, которые вы любите, нужно читать, вздрагивая и задыхаясь от восторга… Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого „желудка“ души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов, — тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней; ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту — тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови».
В этих словах воспроизводится сущность сакрального ритуала — чтения книги. И скорее всего книги Достоевского (о сакральном восприятии книг Д-го говорилось в докладе по опросной анкете в Ст. Руссе).
Далее Набоков говорит о том, что, «принимаясь за работу, художник ставит себе определенную задачу… Мир, ради этого созданный, может быть совершенно нереальным… но должен вызывать доверие у читателя… В сущности, подлинная мера таланта есть степень непохожести автора и созданного им мира, какого до него никогда не было, и что еще важнее — его достоверность», и предлагает оценить мир Д-го с этой точки зрения.
Здесь же Набоков, не поленившись порыться в мед. справочниках, составляет список психических заболеваний, которыми страдают герои Д-го, что позволяет ему подвергнуть сомнению «реализм» или «человеческий опыт писателя», создавшего целую галерею неврастеников и душевнобольных. При этом надо условиться, что Д-й — прежде всего автор детективных романов, где каждый персонаж… остается тем же самым до конца… все герои в том или ином романе действуют, как опытные шахматисты в сложной шахматной партии. Мастер хорошо закрученного сюжета, Д-й прекрасно умеет завладеть вниманием читателя, умело подводит его к развязкам и с завидным искусством держит читателя в напряжении.
Удивительно, но в романе «Защита Лужина» — одном из самых неоднозначных, выстроенном по законам шахматной партии — упоминается Достоевский, который производит гнетущее действие на психику современного человека, ибо как в страшном зеркале…(с.160) Там герой не в шахматы играет — священнодействует, обдумывая и представляя партии и желая создать такую, чтобы наоборот…
II. «Преступление и наказание» 1866 г. (5 страниц) Оканчивается: Страстная убежденность Д-го в том, что физическое страдание и смирение исправляют человеческую природу, коренится в его личной трагедии: должно быть, он чувствовал, что живший в нем свободолюбец, бунтарь, индивидуалист изрядно стушевался за годы, проведенные в Сибири, утратил природную непосредственность, но упорно считал, что вернулся оттуда «исправленным».
III. «Записки из подполья» 1864 г. (12 страниц) Квинтэссенция Достоевщины, заключающаяся в прекрасном стиле, мастерском и безошибочном ведении партий, в воспроизведении в небольшом заурядном эпизоде полной драмы и трагедии жизни с началом, кульминацией и развязкой сюжета.
Оканчивается: Возвышенные страдания, возможно, лучше, чем дешевое счастье. Вот и все.
IV. «Идиот» 1868 г. (3 страницы) Набоков показывает, как пошло выглядит пересказ романа, который пересказать нельзя, а только прочитать-прожить, строчку за строчкой. Крайняя открытость формулировок уравновешивается крайне резкой формулировкой — религиозные мотивы тошнотворны своей безвкусицей, — чем нейтрализует свои обвинения.
Оканчивается: Однако сам сюжет построен искусно, интрига разворачивается с помощью многочисленных искусных приемов. Правда, иные из них, если сравнить с Толстым, больше смахивают на удары дубинкой вместо легкого касания перстами художника; впрочем, многие критики, возможно, не согласятся со мной.
V. «Бесы» 1872 г. (4 страницы) Оканчивается: («Марсельеза» принуждена с «Mein lieber Augustin» петь в один такт… но смиряется совершенно) «Augustin» переходит в неистовый рев
VI. «Братья Карамазовы» (5 страниц) Оканчивается: Но стоит появиться Алеше, как мы тотчас же погружаемся в совершенно иную, безжизненную стихию. Сумеречные тропы уводят читателя в угрюмый мир холодного умствования, покинутый гением искусства.
История происхождения текста на русском языке не совсем ясна, не указывается источник перевода. Это отмечается несколькими филологами-исследователями, в том числе и А. А. Илюшиным (Philologica 3−1996).
Лектор — человек настроения. Сегодня он может говорить одно, завтра — другое, чуть ли не противоположное. Так, он сердится на тех, кто вменяет в заслугу большим писателям простоту их слога: «Запомните: „простота“ — это вздор, чушь. Всякий великий художник сложен» (с. 309). Но, если нужно, лектор готов спеть гимн простоте: «Я утверждаю, что простой <…> человек редко бывает пошляком <…> в России когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса <…> Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность» (с. 388). Выходит, что простоту уместно клеймить в угоду сложности и превозносить в укор пошлятине.
Достоевский. К нему Набоков относится с откровенной агрессивностью и антипатией, считая его «довольно посредственным» писателем, произведения которого по недоразумению воспринимаются недостаточно просвещенными читателями как нечто более интересное и художественное, чем «всякая дребедень» и «вздор» (с. 176). «Не скрою, — прибавляет лектор, — мне страстно хочется Достоевского развенчать» (с. 176). Именно так: Писареву — Пушкина, Толстому — Данта и Шекспира, Набокову — Достоевского. Давно пора к этому привыкнуть, но всё же не устаешь удивляться. Когда автор «Дара» ниспровергал Чернышевского, он занял более хитроумную позицию: пасквиль на революционера-демократа пишет не он сам, а его герой, причем по крайней мере один из персонажей резонно этот пасквиль осуждает.
Предваряя наши возражения по существу, отметим любопытный курьез, вкравшийся в набоковскую лекцию. Некрасов, изволите видеть, издавал в 1840-х годах «влиятельный литературный журнал „Современник“ <…> Напечататься в „Современнике“ было достаточно, чтобы составить себе имя <…> „Бедные люди“ были напечатаны в некрасовском „Современнике“» (с. 177—178). В действительности от Плетнева к Некрасову и Панаеву «Современник» перешел только в 1847 г., а «Бедные люди» были опубликованы в «Петербургском сборнике» в 1846 г. Если издатели набоковских лекций обратили внимание на содержащуюся в них дезинформацию, почему они оставили ее без комментария, в котором, пусть в предельно мягкой и деликатной форме, исправлялись бы эта и подобные ей ошибки 9 ?
Набоков пишет, что долго не мог понять, что же собственно его так раздражает и коробит в «Преступлении и наказании». Наконец им была обнаружена «фраза, не имеющая себе равных по глупости во всей мировой литературе» (с. 189). Откроем 4-ю (а не 10-ю, как указано критиком) главу четвертой части романа и прочитаем превосходную фразу, которую цитирует и поносит Набоков: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Развенчателю не внятен изумительный ритм этой прозы (заметим, ни одного «спондея», то есть двух ударений подряд). А как тонко писатель срифмовал Раскольникова и Соню — «убийцу и блудницу»!
Чем же всё-таки, по мнению критика, плоха приведенная им фраза, «отчего она так груба и безвкусна» (с. 189)? Оттого якобы, что нельзя на одну доску ставить злодея-убийцу и добрую, хорошую девушку, вынужденную продавать свое тело, чтобы прокормить семью. Но ведь это не Достоевский, а Раскольников настаивает, что и он и Соня преступили роковую черту, погубили себя и потому у них много общего. Сам же Достоевский говорит о них как о «странно сошедшихся». Слово странно как будто не замечено критиком, усмотревшим здесь мелодраматизм, фальшь и даже нехристианскую (?) мораль.
Набоков время от времени вспоминает о своей установке не осуждать писателей за нереальность созданного ими мира. Достоевский плох не тем, что его мир нереален, а тем, что он создан поспешно, без чувства меры, так, что в него невозможно и не хочется верить. Но на деле порою получается так, что осуждается именно нереальность: Набоков повторяет за Кропоткиным, что такие, как Раскольников, не убивают, что Порфирий Петрович и Свидригайлов «принадлежат к области романтического изображения» (с. 193); Соня — тоже фигура выдуманная (благородная добродетельная проститутка). В этом чувствуется предвзятость.
Нужно слепо отвергать Достоевского, чтобы не увлечься чарующим образом Свидригайлова и даже не упомянуть о Ставрогине в лекции о «Бесах». Предвзятость есть и в оценках стиля. Нелюбимому писателю не прощается то, что прощается любимому: «достоевское» многословие раздражает, толстовское — нет; повторы у Достоевского производят впечатление тошнотворной назойливости, а у Толстого станут «поиском истины наощупь «(с. 309). «Герои никогда ничего не произносят, предварительно не побледнев, не зардевшись» (с. 209), — злобновато-иронично сказано об «Идиоте». «Герои романа удивительно часто краснеют, пунцовеют, багровеют, покрываются румянцем и т. д. (и, наоборот, бледнеют), что вообще было свойственно литературе этого времени» (с. 285), — мягко-добродушно сказано об «Анне Карениной».
Часто ход набоковской мысли, развенчивающей Достоевского, сводится к следующему силлогизму: гениальность несовместима с поспешностью, мелодраматизмом, фальшью, банальностью и т. п.; у Достоевского всё это есть; следовательно, Достоевский не гений. Мы бы предпочли другой, обратный этому, силлогизм: Достоевский гений; он грешит поспешностью, мелодраматизмом и т. п.; следовательно, всё это совместимо с гениальностью. Оба силлогизма основаны на догматико-аксиоматической посылке. Проще и человечнее признать, что и у гениев случаются недостатки и промахи, которые не должны заслонять их достоинств. Впрочем, кое-какие достоинства за Достоевским признает и Набоков: он «великий правдоискатель, гениальный исследователь больной человеческой души» (с. 211), у него мастерски построенные сюжеты, «вспышки непревзойденного юмора» (с. 176) 10
Аскольдов С. Религиозно-этическое значение Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы/Под ред. А. С. Долинина. М.; Л.: Мысль, 1922
Сб. 1. с. 11
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 44.
Там же.
Там же.
Селезнев Ю. И. Достоевский / Ю. И. Селезнев.
М.: Мол. Гвардия, 1981. с. 12−14.
Там же.
Захаров В. О христианском значении основной идеи творчества Достоевского / В. Захаров // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996. с. 143.
Коган Г. Ф. Вечное и текущее (Евангелие Достоевского и его значение в жизни и творчестве писателя) / Г. Ф. Коган // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К.
А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996. с. 148.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 43
Там же. С. 44.
Пономарева Г. Б. Достоевский: я занимаюсь этой тайной / Г. Б. Пономарева.
ИКЦ: Академкнига; Москва, 2001. с. 117.
Достоевский Ф. М. Письмо М. Н. Каткову из Висбадена, 10 (22) — 15 (27) сент. 1865 г. А 28 (II) (с. 136−139), с. 136.
См. Пономарева Г. Б. С. 125.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 45.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 46.
Там же. С. 48.
Там жеС. 52−53.
Лосский Н. О. Бог и мировое зло / Н. О.
Лосский; Сост. А. П. Поляков, П. В. Алексеев, А. А.
Яковлев.
М., 1994. с. 201−202.
Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/berdyaev/otkrov.html
Манн Т. Собрание сочинений в 10 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1961. с. 330.
Аксючиц В. Когда помутилось сердце человеческое: О романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / В. Аксючиц [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVG2_x8gE_7k2QlR59bLvfC1Yn43w753JAASXYugl7u5mT9UyRLCE5hy19iFmaj-aER?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdpS25XTE1scjJlSk43MXctODdJbnhHa0RlRF81ajRtSTZ2YmdHT0dzZ1hjZE9oQ3hhc0FUcDNIYk9WdVNlZFhUTEdib0VOZWE0VTBkTk5aZnFqd3ptODZLMkptYzFzLWJoSE5KX2tYc3Y&b64e=2&sign=1c360b52ffdb9eab67f5df58166a06f9&keyno=0
Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/berdyaev/otkrov.html
Там же.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 37−38.
Там же. С. 39−41
Розанов В. В. На лекции о Достоевском / В. В. Розанов // Опыты. Литературно-философский сборник.
М., 1990. с. 319.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 39−41
Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским.
М., 1990. с. 229.
См. Бачинин В. А.- С. 150.
Там же. С. 135−140
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 386−389.
Там же. С. 390−395.
Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского / В. С. Соловьев [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/soloviev/trirechi.html
Захаров В. О христианском значении основной идеи творчества Достоевского / В. Захаров // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996. с. 144.
Трофимов Е. А. О логистичности сюжета и образов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Е.
А. Трофимов // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996.-с. 177−178.
Зернов Н. М. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев / Пер. с англ. Ю. М. Табака.
М.: Моск. раб., 1995. 214 с.
Вайль П. Страшный суд. Достоевский / П. Вайль // Родная речь: Уроки изящной словесности / Предисл. А. Синявского.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Независимая газета, 1999. с. 237−238.
Набоков В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тругенев / В. Набоков: Пер. с англ. и фр. / Предисл. И. Толстого.
М.: Независимая газета, 1996. с. 173−219.
Осокина Е. А. Еще раз о любви или нелюбви к Достоевскому: В. Набоков о Достоевском / Е. А. Осокина [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVGz9VdCi7TFiT7Mlgr5LGnXm4TQcWHJMiHWrWO6yr1WekSeJ6iKLnQ4_4JkI2ej36W?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHdaZ19HbllNQzNjVzJSMWlMX2Q3WXBXdFFpUlZLejh3OW5aZVdUSWZqRUZVYS1YUnp0VDhaWEZfdVhNUmRVbXJSRGNPQ2x2bHFWc3JzdXhSeS1rZ3ZyMXNzSm0tZW41QQ&b64e=2&sign=4af486c77f8f2fc35ebcdcc1c85355ae&keyno=0
Шестов Л. И. Достоевский и Ницше (философия трагедии) / Л. И. Шестов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/shestov/nitshe.html
Клюс Э. Образ Христа у Достоевского и Ницше / Э. Клюс // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996.-с. 498.
Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском.
М.: Сов. писатель, 1957. с. 258
Аксючиц В. Когда помутилось сердце человеческое: О романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / В. Аксючиц [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVG2_x8gE_7k2QlR59bLvfC1Yn43w753JAASXYugl7u5mT9UyRLCE5hy19iFmaj-aER?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdpS25XTE1scjJlSk43MXctODdJbnhHa0RlRF81ajRtSTZ2YmdHT0dzZ1hjZE9oQ3hhc0FUcDNIYk9WdVNlZFhUTEdib0VOZWE0VTBkTk5aZnFqd3ptODZLMkptYzFzLWJoSE5KX2tYc3Y&b64e=2&sign=1c360b52ffdb9eab67f5df58166a06f9&keyno=0
Розанов В. В. О Достоевском [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/rozanov/dost.html
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 263.
Малкольм В. Джоунс Достоевский после Бахтина: исследование фантастического реализма Достоевского / Пер. с англ. А. В. Скидона.
Спб.: Академич. проект, 1998. 101.
Бахтин М. М. Проблемы эстетики Достоевского.
М., 1979. с. 74.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 297.
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание.
М.: Худож. лит.- с. 181.
Шестов Л. И. Достоевский и Ницше (философия трагедии) / Л. И. Шестов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/shestov/nitshe.html
Туган-Барановский М. И. Нравственное мировоззрение Достоевского // О Достоевском.
М.: Книга, 1990. с. 135.
Там же. С. 136.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 299−300.
Вайль П. Страшный суд. Достоевский / П. Вайль // Родная речь: Уроки изящной словесности / Предисл. А. Синявского.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Независимая газета, 1999. с. 240.
Там же. С. 241.
Исаков А. Н. «Преступление и наказание»: три аналитики иного / А. Н. Исаков // Метафизические исследования XIY. Статус Иного / Под ред. Б. Соловьева.
Спб.: Алетейя, 2000. с. 106−126.
Вайль П. Страшный суд. Достоевский / П. Вайль // Родная речь: Уроки изящной словесности / Предисл. А. Синявского.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Независимая газета, 1999. с. 241.
Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVG2_x8gE_7k2QlR59bLvfC1SgJW7LhH83nQP4jr5cc_v1HFXA-Alwipaywqnk60Ucs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDdrLTZ5Zk5adnlpVVNCVWIyVVBDekJVbjB3UXdCSmIxRjdtdjVJd01KWEZJbXI4OVRSOEhKVTZmYjFjMU0yb05QZ1ZvMS1LXzJaRUQ1M0hObTZ0b3E2SmE2NFJBY0RFbWpHUUxwckxRbnRxbGc2ZUhuaUx4U1pERGQ1MWZ4cnZn&b64e=2&sign=39dd723b5fd9ac4f00e3e86c0f743331&keyno=0
Мочульский К. В. Достоевский: жизнь и творчество / К. В. Мочульский.
Париж, 1980. с. 244
Трофимов Е. А. О логистичности сюжета и образов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Е. А. Трофимов // Достоевский в конце XX века: Сб.
ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996.-с. 169.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 302−304
Там же. С. 305−306.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 263.
Там же. С. 269−276.
Иванов В. Достоевский и роман-трагедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVGz9VdCi7TFiT7Mlgr5LGnXm4TQcWHJMiHW1GLj6d7sIJ2jY9pS57hPZnW-0ge1k2A?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFBIV3p6aEZ3dEh3VUtHZDdaS2c5djFwZ2VKdW5RZ18wWVhIQXFUYng5UmV2dDZ0NTU1b0d1WFNkckdGUFBidjdQZnhIYndRYTByc0JkcW82Rjhxb05FbUFEeFNSSk1qdldjZkZ5TkNYanBKSXdlNlctYVliVQ&b64e=2&sign=1ef729d19503a9831765c198260c8a7a&keyno=0
Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVG2_x8gE_7k2QlR59bLvfC1SgJW7LhH83nQP4jr5cc_v1HFXA-Alwipaywqnk60Ucs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDdrLTZ5Zk5adnlpVVNCVWIyVVBDekJVbjB3UXdCSmIxRjdtdjVJd01KWEZJbXI4OVRSOEhKVTZmYjFjMU0yb05QZ1ZvMS1LXzJaRUQ1M0hObTZ0b3E2SmE2NFJBY0RFbWpHUUxwckxRbnRxbGc2ZUhuaUx4U1pERGQ1MWZ4cnZn&b64e=2&sign=39dd723b5fd9ac4f00e3e86c0f743331&keyno=0
Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVG2_x8gE_7k2QlR59bLvfC1SgJW7LhH83nQP4jr5cc_v1HFXA-Alwipaywqnk60Ucs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDdrLTZ5Zk5adnlpVVNCVWIyVVBDekJVbjB3UXdCSmIxRjdtdjVJd01KWEZJbXI4OVRSOEhKVTZmYjFjMU0yb05QZ1ZvMS1LXzJaRUQ1M0hObTZ0b3E2SmE2NFJBY0RFbWpHUUxwckxRbnRxbGc2ZUhuaUx4U1pERGQ1MWZ4cnZn&b64e=2&sign=39dd723b5fd9ac4f00e3e86c0f743331&keyno=0
Розанов В. В. Идея о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского / В. В. Розанов [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.vehi.net/rozanov/legenda.html
Вайль П. Страшный суд. Достоевский / П. Вайль // Родная речь: Уроки изящной словесности / Предисл. А. Синявского.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Независимая газета, 1999. с. 245−246.
Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.
Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. с. 295.
Там же. С. 307−308.
Тимофеев А. С. Философско-религиозные искания Ф. М. Достоевского / А. С. Тимофеев // Русская словестность.- 2007. № 4. с. 18−24.
Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский / К. В. Мочульский.
М., 1995. с. 359.
Горичева Т. Достоевский — русская «феноменология» духа / Т. Горичева // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996. с. 31−47.
Касаткина Т. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского / Т. Касаткина // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.
М.: Классика плюс, 1996. с. 67−136
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 7. с. 155.
Гумеров Иов Как оценить с христианских позиций основные идеи романа «Преступление и наказание» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvIU1VEE-hVCPKY3BIm3rVGLXYW-D-QywWMX-p2fTPQoXLMTRsIlVbi9CpGc2hnsJ3DwjMHbvCJyAXvLvOZt-I1?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTRBR0dfdVlGdUhPQmdrX2RKZndmaEkybjdLS3prbmRrVkpjOW1kcGZ4ay1raV9GSG40VzZvdVZZVEJCZ1pwMFlRYUhvM0U2R2lrcTNvaklKSlZPa0NoNWVQalRUdlJheVNxWWxtQ1JmY2ZMSHJhX3pUZE82TzRmeDk0OU9JWjJ3&b64e=2&sign=87d77c14e14c5dc91c44b99940d39017&keyno=0
Тихомиров Б. К. К осмыслению глубинной перспективы романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Б.
К. Тихомиров // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А.
Степанян.
М.: Классика плюс, 1996.-с. 269.
Список литературы
- Аскольдов С. Религиозно-этическое значение Достоевского / С. Аскольдов // Достоевский Ф. М. / Под ред. А. С. Долинина.- М.; Л.: Мысль, 1922.- Сб. 1.- с. 11
- Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления (Художественная феноменология русского протомодерна) / В. А. Бачинин.- Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001.- 412 с.
- Бахтин М. М. Проблемы эстетики Достоевского.- М., 1979.- с. 74.
- Вайль П. Страшный суд. Достоевский / П. Вайль // Родная речь: Уроки изящной словесности / Предисл. А. Синявского.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Независимая газета, 1999.- с. 235−248.
- Горичева Т. Достоевский — русская «феноменология» духа / Т. Горичева // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.- с. 31−47.
- Достоевский Ф. М. Письмо М. Н. Каткову из Висбадена, 10 (22) — 15 (27) сент. 1865 г. А 28 (II) (с. 136−139), с. 136.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 7.- с. 155
- Достоевский Ф. М. Преступление и наказание.- М.: Худож. лит., 1990.- 286 с.
- Захаров В. О христианском значении основной идеи творчества Достоевского / В. Захаров // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.- с. 137−146.
- Зернов Н. М. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев / Пер. с англ. Ю. М. Табака.- М.: Моск. раб., 1995.- 214 с.
- Исаков А. Н. «Преступление и наказание»: три аналитики иного / А. Н. Исаков // Метафизические исследования XIY. Статус Иного / Под ред. Б. Соловьева.- Спб.: Алетейя, 2000.- с. 106−126.
- Касаткина Т. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского / Т. Касаткина // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.- с. 67−136
- Клюс Э. Образ Христа у Достоевского и Ницше / Э. Клюс // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.-с. 498.
- Коган Г. Ф. Вечное и текущее (Евангелие Достоевского и его значение в жизни и творчестве писателя) / Г. Ф. Коган // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.- с. 147−166.
- Лосский Н. О. Бог и мировое зло / Н. О. Лосский; Сост. А. П. Поляков, П. В. Алексеев, А. А. Яковлев.- М., 1994.- с. 201−202.
- Малкольм В. Джоунс Достоевский после Бахтина: исследование фантастического реализма Достоевского / Пер. с англ. А. В. Скидона.- Спб.: Академич. проект, 1998.- 101.
- Манн Т. Собрание сочинений в 10 т. Т. 10.- М.: ГИХЛ, 1961.- с. 330
- Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский / К. В. Мочульский.- М., 1995.- с. 359.
- Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским.- М., 1990.- с. 229.
- Пономарева Г. Б. Достоевский: я занимаюсь этой тайной / Г. Б. Пономарева.- ИКЦ: Академкнига; Москва, 2001.- с. 117.
- Селезнев Ю. И. Достоевский / Ю. И. Селезнев.- М.: Мол. Гвардия, 1981.- с. 12−14.
- Тимофеев А. С. Философско-религиозные искания Ф. М. Достоевского / А. С. Тимофеев // Русская словесность.- 2007.- № 4.- с. 18−24.
- Тихомиров Б. К. К осмыслению глубинной перспективы романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Б. К. Тихомиров // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.-с. 251−269.
- Трофимов Е. А. О логистичности сюжета и образов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» / Е. А. Трофимов // Достоевский в конце XX века: Сб. ст. / Сост. К. А. Степанян.- М.: Классика плюс, 1996.-с. 167−188.
- Туган-Барановский М. И. Нравственное мировоззрение Достоевского // О Достоевском.- М.: Книга, 1990.- с. 135.
- Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском.- М.: Сов. писатель, 1957.- с. 258.