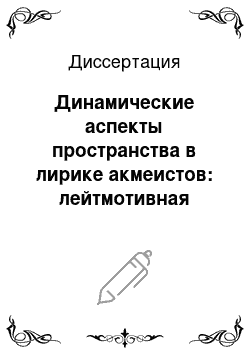Диссертационное исследование представляет собой анализ динамических аспектов пространства в лирике акмеистов. В данной работе рассматриваются разного рода лирические путешествия в поэзии акмеизма и те пространства, которые развертываются перед глазами читателя, пространства внешние и внутренние, а также особое пространствопространство самого стихотворного текста. Движущаяся точка зрения и есть динамический аспект художественного пространства. Смена точек зрения и меняющиеся «картины», «наложение» художественных пространств одно на другое — это характерные и неизбежные черты любого произведения, его необходимое свойство. В лирических «путешествиях» и «прогулках» оно дополнительно мотивировано самим лирическим сюжетом, и это обстоятельство создает особенно благоприятные условия для анализа пространственных отношений внутри поэтического текста. Динамику мы понимаем не только как выражение непосредственного движения, но и как возможность и причинность этого движения, как силу, позволяющую ему существовать. В литературоведении описание динамических аспектов лирики — тема, которая не часто попадает в поле зрения исследователей, но она имеет глубокие корни и связана с проблемой пространства, на протяжении последних полутора веков глубоко и разносторонне прорабатывающейся в различных областях научного знания. Мы последовательно наметим несколько ракурсов понятия «лирическая динамика» в его отношении к объекту нашего исследования — лирике акмеизма.
Пространство обнаруживает себя посредством вещей, вещи дают ему меру и осязаемость, позволяют явственнее проследить те или иные динамические процессы. «Через мир вещей и через человека (последующий уровень творца вещей) пространство собирается как иерархизованная структура соподчиненных целому смыслов» [Топоров, 1983, с. 242].
Пространство приуготовано к принятию вещей, оно восприимчиво и дает им себя, уступая вещам форму и предлагая им взамен свой порядок, свои правила простирания вещей в пространстве" [Там же. С. 279]. В творчестве акмеистов вещь нарочито акцентирована, выдвинута на первый план, заполненное вещами пространство акмеистов — это своего рода контрреплика, обращенная к символизму. С учетом такого контекста размышления о динамическом аспекте акмеистической лирики логично начать с уяснения проблемы предметности акмеистического языка.
Практически все устойчивые определения акмеизма сконцентрированы на том, что акмеистической поэзии присущ особый — предметный язык. Проблема предметности, вещественности поставлена уже в первых статьях акмеистов. Так, Н. Гумилев писал в программной работе «Наследие символизма и акмеизм»: «Иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки неизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия — все явления братья» [Гумилев, 1990, с. 57], а О. Мандельштам в знаменитом эссе «Утро акмеизма» утверждает: «Акмеизм — для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден строительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство» [Мандельштам, 1990а, с. 142−143].
Заявленная самими акмеистами тема продолжается в первых критических отзывах на их творчество. Противопоставляя акмеистическую поэтику символистской, В. М. Жирмунский отмечал: «Вместо сложной, хаотической, уединенной личности — разнообразие внешнего мира, вместо эмоционального, музыкального лиризма — четкость и графичность в сочетании слов, а главное, взамен мистического прозрения в тайну жизни простой и точный психологический эмпиризм» [Жирмунский, 1998, с. 31]. В некоторых вещах с В. М. Жирмунским сходится Б. М. Эйхенбаум, который в статье об А. Ахматовой 1923 г. писал: «Словесная перспектива сократилась, смысловое пространство сжалось, но заполнилось, стало насыщенным. Речь стала скупой, но интенсивной. Слова не сливаются, а только соприкасаются — как частицы мозаичной картины» [Эйхенбаум, 1986, с. 384]. Ю. Н. Тынянов в «Промежутке» охарактеризовал слово Ахматовой как «угловатое» («и самый стих двигался по углам комнаты» [Тынянов, 1977, с. 174]), а слово Мандельштама, по мнению ученого, напоминает «тень слова», тень от вещи, ставшей «стиховой абстракцией» [Там же. С. 189]. Примечательно то, что в размышлениях о свойствах акмеистической вещи (о ее плотности, объеме, твердости) сами поэты, а вслед за ними литературоведы, переходят на разговор о свойствах самого стиха, слов, его составляющих, и обсуждаются уже не изображенные вещи, а сам стих как вещь.
Таким образом, язык акмеистов представляет собой натяжение между предметностью, четкой изобразительностью и их развоплощением, метонимическим превращением в нечто новое, одновременно призрачное и материальное. Конечно, и в последующих литературоведческих работах, вплоть до настоящего времени, именно этой проблеме уделяется существенное внимание. «Взгляд на язык как на нечто самодовлеющее определяет один из существеннейших аспектов акмеистической реформы поэтического языка — осознанное и подчеркнутое обращение языка на сам язык» [Сегал, 2006, с. 185]. Слово у акмеистов обретает поистине материальную реальность и обрастает плотью, рождая независимое, не реальное, а ментальное пространство. В совместном исследовании Ю. И. Левина, Д. М. Сегала, Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова и Т. В. Цивьян рассматриваются особенности релятивизации слова у акмеистов, оживления «конструктивных формообразующих потенций составляющих слово элементов внеположного мира» [Там же. С. 192]. Авторы подчеркивают, что поиски слова, в котором ничего не устоялось. все неопределенно, и составили содержание важнейшей части акмеистической деятельности" [Там же]. Возникновение такой «семантической неопределенности», по мнению исследователей, создает эффект, когда «элементы поэтического текста оказываются. как бы „взвешенными“, неприкрепленными» [Там же. С. 193], что открывает возможность интерпретирования слова и нового его рождения. Результатом является обретение пространственных связей слова с другими словами, в рамках контекста, в целом, и это организует динамическое состояние всего текста.
Особенностью поэтики акмеистов является способность «сопрягать слова, рассматриваемые обычно как весьма удаленные друг от друга или даже противоположные друг другу в семантическом отношении» [Там же]. Поэтому словесный материал в лирике Мандельштама, Ахматовой и Гумилева не плотно привязан к вещам или символам, а направлен на создание новых семантических рядов, между которыми свободно располагается некое смысловое облако. Оно тоже не статично, а находится в постоянном движении: смыслы не застывают, а, подобно сложным архитектурным формам, наделяются внутренней динамичностью и подвижностью. Возникает как бы пространство в пространстве, причем пространство движущееся в пространстве статичном, которое от этого внутреннего движения тоже обретает динамическую структуру, и появляется иллюзия проникновения вглубь стиха и за него, словно в другое пространство.
Индикатор предметности" с самого начала позволяет акмеистам и первым критикам акмеистической поэзии обозначить краеугольный камень размежевания с символистами, поскольку поэтический язык символизма направлен в беспредельность, в бесконечность, а, следовательно, не задерживается на «вещественном», даже не отталкивается от него, а сразу устремляется от «земного» к «идее», «смыслу" — природа символа не позволяет оставаться рядом с вещами: «Символ очень близок к метафоре, но он не есть метафора. И в символе и в метафоре идея вещи и образ вещи пронизывают друг друга, и в этом их безусловное сходство. Но в метафоре нет того загадочного предмета, на который ее идейная образность только указывала бы как на нечто ей постороннее. Этот предмет как бы вполне растворен в самой этой образности и не является чем-то таким, для чего метафора была бы символом. Ведь метафора входит в поэтический образ, а он уж во всяком случае имеет самостоятельное значение. Совсем другое дело — символ. Если символ точно не указывает на то, чего именно символом он является, в этом случае он вовсе не есть символ. Метафора же, как и вообще поэтический образ, хотя и не исключает этого различия, но специально вовсе его не преследуети это различие идейной образности вещи и самой вещи здесь совсем несущественно» [Лосев, 1971, с. 3].
Вещественность" становится ответом на символистскую космогоничность, на символистский образ мира, продленного в «космические» дали. Пространственный ракурс символистского мироустройства невозможен без «точки отдаления», которая выбирается на максимальном расстоянии от лирического «я», в некоей, не земной, а идеальной плоскости. Двойственная природа символа задает лирическому «я» вектор направленности от вещного, осязательного и устойчивого. Лирическое «я» как будто стремится переселиться в идеальный мир, и ландшафт этого мира теряет конкретику, выравнивается, абстрагируется (и даже нивелируется в худших образцах символистской поэзии). «Выравнивание», нарочитое отвлечение от конкретики, характерны, к примеру, для блоковских «Стихов о Прекрасной Даме», где петербургские экспозиции чередуются с шахматовскими пейзажами, однако конкретные черты Петербурга и Шахматова размыты настолько, что перед взором читателя проходят не узнаваемые петербургские улицы, здания, площади, а, скорее, просто светлый и величественный город с просторными площадями, высокими соборами, колоннадами. Петербург в этом абстрактном городе угадывается, но отнюдь не в вещественной конкретике своих реалий.
В середине 1920;х годов, когда символистская культура будет уже в прошлом, образ города в стихах станет другим, гораздо более конкретным, и произойдет это во многом благодаря акмеистам1. Петербург акмеистов обладает высокой конкретикой: не вообще здания, улицы и соборы, а конкретные здания и улицы зачастую упоминаются в стихах акмеистов («На мертвых ресницах Исакий замерз», «Врезан Исакий в вышине», «Вновь Исакий в облаченьи / Из литого серебра» и др. — это продолжение пушкинской линии). А бывает так, что поэты-акмеисты пародируют «расплывчатый город» символистов: в обращенном к Блоку стихотворении Ахматовой «В последний раз мы встретились тогда.» Зимний дворец назван «высоким царским домом» — и это одновременно отсылка к петербургским «теремам» Блока, но и по-акмеистически точная локализация: никаким другим «домом», кроме Зимнего дворца, названный дом быть не может.
Акмеизм «возвращает» поэта к зримому, стройному, графичному пространству, позволяет представить точку, где дислоцировано «лирическое я» того или иного текста. Именно акмеизм является одной из опорных точек введенного В. Н. Топоровым в 1975 г. понятия «Петербургский текст». Данное определение привлекло внимание литературоведов к акмеизму, и вслед за выходом статьи Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова и Т. В. Цивьян [Тименчик, Топоров, Цивьян, 1975] последовал целый поток серьезных исследований акмеистической поэтики и поэтики позднего символизма (например, интересы Р. Д. Тименчика, стоящего у истоков теории.
1 Так, к примеру, в петербургском стихотворении К. Вагинова (поэта, причудливо объединившего в своем творчестве акмеистические и авангардистские посылы) «Психея» (1926) петербургская топография угадывается вплоть до каждого конкретного дома: «Любовь — это вечная юность. / Спит замок Литовский во мгле. / Канал проплывает и вьется, / Над замком таинственный свет. / И кажется солнцем встающим / Психея на дальнем конце, / Где тоже канал проплывает / В дощатой ограде своей» [Санкт-Петербург, 2003, с. 424]. В тексте навсегда запечатлен разрушенный во время Февральской революции Литовский замок и Дом-Сказка с фреской-Психеей, не уцелевший во время блокады. Даже то место, где «стоит» лирический герой, можно угадать: недалеко от пересечения Офицерской и Крюкова канала, где видна Пряжка («канал» в «дощатой ограде») (см. [Там же. С. 624]). По сути, перед нами наглядная демонстрация меняющейся в сторону конкретики парадигматики поэтического языка в постсимволистскую эпоху.
Петербургского текста, одновременно сосредоточены на поэтике Ахматовой).
Еще до В. Н. Топорова в 1968 г. В. В. Вейдле указал на создание «Гумилевым, с помощью Ахматовой и Мандельштама. в Петербурге, стихами, новой поэтики» [Вейдле, 1973, с. 110], которой критик и дал определение «петербургской» — отчасти из-за принадлежности городу, но и, кроме того, потому что эти стихи заключали в себе «главную „петербургскую“ черту. преобладание предметного значения слов. над обобщающим их смыслом» [Там же. С. 111]. «» Петербургская поэтика", -подчеркивается автором работы, — объединила И. Анненского, М. Кузмина, позднего А. Блока, А. Белого и Вл. Ходасевича" [Там же. С. 122]. Характеризуя творчество В. Ходасевича, М. Г. Ратгауз отмечает: «Литературный взлет Ходасевича прямо связан с его переездом в Петербург осенью 1920 года» [Ратгауз, 1991, с. 117]. Новый поворот в творчестве поэта, произошедший в начале 20-х годов, исследователь называет «литературным экспериментом по насыщению строгой поэтической формы сугубо бытовыми реалиями», являющимися «знаками и свидетельствами того „нового“ времени, которое представляет поэт» [Там же. С. 123]. Не используя определение В. В. Вейдле «петербургская поэтика», М. Г. Ратгауз указывает на свойства лирики Ходасевича, проступившие именно в петербургский период творчества и позволившие причислить его к «петербургским» поэтам, как их назвал В. В. Вейдле в своей работе. Надо отметить, что термин, введенный автором «Петербургской поэтики», обосновывает реальность, существующую вне художественных направлений эпохи, школ, групп: «Это не акмеизм, не „Гиперборей“, не Цех поэтов, и не „Бродячая собака“. Но все это, включая „Собаку“, поэтику эту, хоть и не во всех разновидностях ее, утверждало, закрепляло и распространяло» [Вейдле, 1973, с. 121].
Акмеистический текст неразрывно связан с понятием петербургского текста, для творчества акмеистов, как и для всего петербургского текста, ключевым моментом является осознание структуры и структурности, четкости образных пространственных построений и четкости композиционных границ текста. О. Мандельштам сформулировал это так: «Акмеизм — для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строюзначит, я прав» [Мандельштам, 1990а, с. 142]. «Дух строительства» овладевает творцом, позволяет ему увидеть мир в движении, в его изменении и преображении. «Только пространство подлинно устойчиво и может служить опоройтолько оно конкретно-вещно и может быть здесь и сейчас (Курсив автора — Е.К.) увидено, услышано, прочувствовано» [Цивьян, 2001, с. 42], — пишет Т. В. Цивьян о пространственном переживании акмеистов.
Творческое начало для акмеистов связано с Аполлоном, чьим именем был назван журнал, где печатались символисты, потом — члены Цеха поэтов и, наконец, с 1912 г. журнал стал практически полностью «акмеистическим». «Сам выход в свет журнала не только с „аполлоновским“ названием, но и четко формулируемой „аполлоновской“ программой, — указывал В. Н. Топоров, — был своего рода вызовом как эстетике воинствующего антиаполлинизма, так и традиционной вялой, приевшейся этике „безблагодатного“ аполлинизма. Несомненно, журнал был новым словом в художественной сфере» [Топоров, 2003, с. 150]. Зародившись в недрах символистской культуры, модернистский журнал (и речь здесь может идти не только об «Аполлоне», но и о самом первом образце этого жанра — «Мире искусства», о «Золотом руне» и пр.), уходит все больше от идеи «живописи» к идее театрально-декоративного оформления: если в первых номерах «Мира Искусства» цветные вклейки с репродукциями еще мыслились все-таки композиционным центром, то в последующее время, и в более поздних по времени модернистских изданиях, в особенности, в «Аполлоне» те же вклейки остаются, но они выполняют уже другую роль — журнал становится ансамблем, составленным из множества элементов (иллюстраций, виньеток, «прорисованных» заглавий и буквиц), каждый из которых самостоятелен и может быть рассмотрен сам по себе, и в то же время равноправен в ряду других элементов. «Преобладающее место занимают здесь не живописцы, -пишет о „Мире Искусства“ Вс. Петров, — а рисовальщики, граверы и иллюстраторы. Пристрастие к графике отвечало глубокой сущности изобразительного мышления художников „Мира искусства“, которые были по характеру своих дарований не живописцами и колористами, а в первую очередь именно рисовальщиками, острыми и изощренными мастерами линии и декоративно-графического силуэта» [Петров, 1975, с. 18]. Акмеистический журнал «Аполлон» в этом смысле представляет собой метонимию акмеистического мира, перенасыщенного изобразительностью, рисунком, пластикой.
Противопоставление диониссийского и аполлонического начал, сформулированное Фридрихом Ницше в книге «Рождение трагедии из духа музыки». сыграло чрезвычайно важную роль в культуре Серебряного века" [Рубине, 2003, с. 116]. Антитетичность Аполлона и Диониса определила во многом сущность поэтики акмеистов. В знаменитой статье «О прекрасной ясности» М. Кузмин сформулировал своего рода акмеистический «манифест"2: «Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть другие — дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые, при равенстве таланта, выше и целительнее первых, и не трудно угадать, почему в смутное время авторы, обнажающие свои язвы, сильнее бьют по нервам,.
2 H.A. Богомолов и Дж. Малмстад отвергают подобное мнение, подчеркивая, что сам М. Кузмин никоим образом не может быть причислен к группе акмеистов: «Кузмин не был акмеистом и отказывался себя видеть имдля него была неприемлема трактовка его статей как „предакмеистических манифестов“, он часто критиковал саму школу акмеистов» [Богомолов, Малмстад, 1996, с. 157]. О. Лекманов, однако, предполагает, что данное суждение можно назвать «излишне категорическим», ибо «кузминской формулой в 1916 г. охотно воспользовался. один из вождей акмеизма Сергей Городецкий» [Лекманов, 2000, с. 47]. На наш взгляд, манифестом акмеизма статью Кузмина называют не потому, что ее автор принадлежал или не принадлежал к данному литературному течению, а, прежде всего, потому, что его мнение полностью выражало стремление акмеистов к гармонии, ясности, стройности мысли. если не «жгут сердца», мазохических слушателей. Не входя в рассмотрение того, что эстетический, нравственный и религиозный долг обязывает человека (и особенно художника) искать и найти в себе мир с собою и с миром, мы считаем непреложным, что творения хотя бы самого непримиренного, неясного и бесформенного писателя подчинены законам ясной гармонии и архитектоники. Наиболее причудливые, смутные и мрачные вымыслы Эдг. По, необузданные фантазии Гофмана нам особенно дороги именно потому, что они облечены в кристальную форму" [Кузмин, 1909].
М. Рубине вслед за В. Н. Топоровым отмечает связь Аполлона с пластическими искусствами и близость Диониса к «духу музыки» [Рубине 2003, 303], объясняя тем самым тяготение акмеистов к искусствам изобразительным, а символистов — к музыкальным. Аполлоническое начало для акмеистов стало не просто воплощением чистого и гармоничного искусства, но именно в основе этого взгляда можно увидеть тот необходимый строительный аспект, без которого нельзя представить пространственное «оформление» их текстов. Четкость и ясность границ произведения, напоминающего скульптуру или архитектурное сооружение, и внутренняя его устремленность вовне почти зрительно расширяют пространство, превращая литературный текст в метафорически изобразительный. Не случайно именно для акмеистов характерно использование такого приема, как экфрасис: близость к изобразительному искусству тоже насыщает поэтические строки зримостью и вещественностью. Новые свойства акмеистического стиха, его структурность и вещественность, как уже отмечалось, были сразу же восприняты читателями4, которые сосредотачивались не только на значимости самой.
3 См. монографию М. Рубине «» Пластическая радость красоты": Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция" [Рубине, 2003].
4 Вспомним рассказ И. Одоевцевой о том, как Мандельштам читал стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла.» своим друзьям-поэтам, и как Г. Иванов «откомментировал» одно слово: «» Это вещи", но еще и на «фактурности» акмеистических образов и «фактурности» стилистической. Не только твердая, устойчивая структура (и в этом смысле показательно название манделынтамовского цикла «Камень»), но и пластичная, выпуклая и шероховатая фактура стиховой материи стала своего рода «визитной карточкой» акмеизма («своей булавкой заржавленной / Достанет меня звезда" — «Я дышал звезд млечной трухой, / Колтуном пространства дышал» и др.). Все это приковывало исследовательское внимание наряду с идеями пространственности к метафорам строительства, пути, к метафорам ткачества, ткани и т. д.
Вообще, образная фактура акмеистического стиха необыкновенно интенсивно и разнообразно семантизируется, и если у символистов можно составить примерный перечень образов, связанных с теми или иными значениями (такая попытка представлена в классификации А. Хансен-Лёве [Хансен-Лёве, 1999], которую можно назвать семиотической энциклопедией символизма), то для акмеистической поэтики вывести какие бы то ни было корреляты гораздо труднее. Не мягкая оттеночность и обширные гнезда неомифологических мотивов, как у символистов, а поэтизация мелких деталей и свойств материи характерна для акмеистов. Одним и тем же образам свойственно интенсивное изменение семантики, ее динамизация. Акмеистическое пространство, выявляя себя в предметах, конечно, не является реалистической копией предметного мира. Вещь и все, окружающее ее, имеет незавершенный «мерцающий» облик, столь же неопределенный, что и у символистов, но неопределенность эта подчинена совсем другим стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоем месте изменил бы одну строчку. У тебя: «Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина». По-моему будет лучше: «Ну, а в комнате белой, как палка, стоит тишина». Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, разражается неистовым приступом кашля-хохота: «Как палка! Нет, не могу. Как палка!» Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама: «Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь» ?" [Одоевцева, 2008, с. 179]. изобразительным законам. «Мерцающие» вещи и пространства в художественном мире акмеистов можно объяснить при помощи тыняновского понятия «художественной динамики».
Чтобы охарактеризовать стиль акмеистов, их традиционно противопоставляют символистам. Эта традиция идет от первых акмеистических статей Н. Гумилева, где акмеизм противопоставлен символизму по принципу вещественность/нематериальность. Противопоставление акмеизма символизму по принципу вещественность/ограниченность (целостность, «ограненность») уб безграничность/нематериальность, изобразительность уб музыкальность отражает лишь схематично разницу поэтических стилей, по сути, такая противопоставленность далеко не абсолютна и не бинарна. Чтобы увидеть это, необходимо учитывать категорию динамичности, которая, будучи достаточно универсальной по своей природе, может быть отнесена и к мотивно-образной, и к стилистической, и к композиционной области, но ближе всего понятие динамики сопрягается с понятием лирического сюжета, который является, по мысли Ю. Н. Тынянова, динамической стороной, «динамической схемой» композиции. Термин «динамика» вообще активно используется и подробно толкуется Ю. Н. Тыняновым, в область интересов которого равноправно входили поэзия пушкинского времени и поэзия серебряного века, во всем разнообразии своих изводов (так, статья «Промежуток» специально направлена на то, чтобы дать краткую характеристику каждому из современных Ю. Н. Тынянову ведущих поэтических направлений). Понимание сюжета как динамической стороны композиции характерно и для Ю. Н. Чумакова, который обосновывает как совершенно отдельный и особый сюжет лирический. От эпического сюжета лирический отличается тем, что представляет собой не событийную расстановку, а импульс, свернутую энергетику текста: «Лирика транслирует побуждающую энергетику существования, она экспрессивна вне какого бы то ни было поучения. Лирический сюжет — это мотор поэтической экспансии, его динамический порыв наполняет все элементы стихотворения» [Чумаков, 2010, с. 81−82].
Появление понятия поэтической динамики у Ю. Н. Тынянова спровоцировано, как нам кажется, статьями самих акмеистов, прежде всего Мандельштама, который неустанно подчеркивал динамическую природу своего творчества. В статике акмеистов угадывается динамический порыв, он словно раздвигает изнутри границы окаменевшего в своей заполненности мира и становится движущей силой, которая этот мир создает. В статье о Франсуа Вийоне Мандельштам пишет: «Но разве готика не торжество динамики? Еще вопрос, что более подвижно, более текуче — готический собор или океанская зыбь?» [Мандельштам, 2001, с. 475], а в «Разговоре о Данте» динамике посвящено множество пассажей, самый известный из которых чрезвычайно часто цитируется: «Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, — так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку» [Там же. С. 478]. Как бы еще раз «перетолковывая» эту мысль, «вторя Мандельштаму», в его же стилистике Г. Амелин и В. Мордерер пишут о том, что поэзия вообще динамична, «искусство и есть транспорт, а говорить — значит всегда находиться в дороге. И такая дорога — свободный опыт (порядок) и прохождение пути в индивидуальных конфигурациях мысли» [Амелин, 2009, с. 147].
Даже строительство мыслится акмеистами не как процесс возведения твердой структуры, а как заполнение пустоты движением, преобразование пространства несет в себе сильнейшую внутреннюю динамику. Акмеисты частично преображают понятие «архитектоника», активно пользуясь им.
Архитектоника" у акмеистов несколько отдаляется от композиции, она перестает быть застывшей и устойчивой соотнесенностью компонентов художественной структуры, приобретая акцент динамичности. Архитектоника в какой-то мере приближается к лирическому сюжету, определенному как динамическая сторона композиции. О «чувстве архитектоники» писал Мандельштам в эссе «Франсуа Вийон», слово «архитектоника» звучит в его статьях о Петре Чаадаеве («нравственная архитектоника» Чаадаева) и «<Скрябин и христианство>» («гармоническая архитектоника и есть сама музыка»), «Разговор о Данте» построен как анализ подвижной архитектоники «Божественной комедии». Поэтов «занимает. не предмет изображения, а сам принцип и конструкция предметности» [Дубин, 2005, с. 13], и этот принцип предполагает не созданную, а только создающуюся архитектурную форму, которая строится «во имя «трех измерений» «[Мандельштам, 1990а, с. 143]. «Преодоление сопротивляющегося материала, пластическая концепция красоты» [Рубине, 2003, с. 10] образуют своего рода динамический контрапункт в столкновении статики и динамики- «дух строительства» открывает многообразные перспективы перед творцом, позволяет увидеть мир в его изменении и преображении.
С акмеистическими представлениями о вещи в какой-то мере перекликается почти синхронно возникающее в литературоведении понятие о художественной динамике. И. Ю. Светликова показала, что поэтическая динамика Ю. Н. Тынянова органично вытекает из философски и психологически обоснованных в исследовательской практике Ю. Н. Тынянова понятий о «колеблющихся признаках значения». «Колеблющиеся» семантические признаки обеспечивают мерцающие контуры акмеистических слов, которым Ю. Н. Тынянов дает образные определения с оттенком пространственности: «угловатые слова» А. Ахматовой, «тени слов» О. Мандельштама. Колеблющимися являются не только лексические значения, пространственные метафоры передают динамизм лирической ткани в целом, для которой характерны процесс «свертывания» и «развертывания», сукцессивности и симультанности. Словесная динамика лежит в основе лирического сюжета, принципиально отличного, по мнению Ю. Н. Чумакова, от эпической сюжетики. Динамика в этом случае означает не столько само движение, сколько импульс и возможность движения, которыми пропитана поэтическая ткань.
При самом напряженном интересе к указанной проблематике непосредственных исследований, связывающих аспекты динамики в лирике акмеистов и ее пространственное осмысление, в литературоведении недостаточно, притом, что подобная связь предопределена самой природой художественного материала акмеизма и общим вектором развития филологической науки ХХ-ХХ1 вв. Это заставляет констатировать недостаточную степень изученности исследуемой нами темы.
Актуальность работы обусловлена тем, что, несмотря на разработанность общей теории художественного пространства, представленной в исследованиях М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Б. В. Раушенбаха и др., современное литературоведение не выработало подхода к анализу специфики пространства в отдельно взятых кластерах, связанных с направлением, течением или школой в пределах некоторого литературного периода. Мы считаем, что наряду с общей теорией пространства и пространственной моделью отдельного писателя или отдельного текста важным оказывается целостное описание и исследование выделенной группы. Такой группой в диссертационной работе является круг поэтов, сложившийся вокруг редакции журнала «Аполлон», а также стихи поэтов-акмеистов, написанные в последующие десятилетия. Законы художественной динамики могут быть описаны на примере любого акмеистического текста, поскольку каждый из них концентрирует в себе целый «пучок"5 семантических, композиционных, сюжетных импульсов. Однако нам.
5 «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» [Мандельштам, 2001, с. 486]. представляется актуальным и значительным выделение тех мотивов, где динамика художественного пространства выявляется наиболее полно. К таким мотивам мы относим, прежде всего, мотив путешествия и смежные с ним мотивы плавания и прогулки, широко представленные в творчестве ведущих поэтов указанного направления, и некоторые вариации этого мотива.
Путешествие принадлежит к самым частотным литературным лейтмотивам, в русской литературе Нового времени параллельно эволюционирующим в эпическом и в лирическом направлениях. Литературные путешествия столь разнообразны, что перечислить все их структурно-семантические особенности вряд ли удастся и имеет смысл, остановимся лишь на отдельных, ключевых для нашей работы, моментах. Уже в XVIII в. путешествие, будучи самостоятельным жанром, открывает в себе большие жанровые потенции. Сохраняя эпические установки (реализующиеся в «вечном» эпическом сюжете познания/завоевания новых земель) или игнорируя их, путешествие в литературе XVIII века, по мнению А. Шёнле, становится полем для реализации множества виртуальных сюжетов и эмоциональных рисунков: «Писатели всех сортов отправляются в путешествие в поисках лучших мест, независимо от того, верят ли они в реальность найденного или же только вызывают идеал в своем воображении. Таким образом, путешествия превращаются в средство развития и поощрения вымысла» [Шёнле, 2004, с. 15]. Е. С. Ивашина отмечает, что «гипертрофия личности, ее возрастающая роль в „путешествии“ (в области фантазии, вымысла, воображения), с одной стороны, способствовали самосознанию литературного „путешествия“ как особой повествовательной формы. С другой стороны, все это определило ту почву, на которой в „путешествии“ легко приживались и удерживались другие жанры» [Ивашина, 1979, с. 14−15].
Одно из главных русских прозаических путешествий XVIII в. -«Письма русского путешественника» М. Н. Карамзина написано поэтом:
Движение — это идеальное средство избежать притупления приятных ощущений, когда они становятся привычными, — пишет А. Шёнле о «Письмах русского путешественника». — Автор предлагает рассказ об очаровании, о воплощении своих фантазий и называет себя «рыцарем веселого образа». Молодой путешественник стремится к расширению своей личности, к чему-то, чего надеется достичь посредством нарастающих и разнообразных ощущений от внешней реальности" [Шёнле, 2004, с. 44−45]. Мы видим, что внешнее движение невозможно без корреляции с движением внутренним, и любой внешний ландшафт тут же превращается в «ландшафт души», составленный из впечатлений, переживаний, воспоминаний, обращений к предшествующим культурным впечатлениям. Массивный культурный подтекст путешествия и установка на «разнообразные ощущения», «впечатления» объясняет предрасположенность жанра путешествия к пародии. Предрасположенность эта со всею яркостью сказалась на ироническом «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии» Л. Стерна. В результате стерновское путешествие стало образцом бессюжетной прозы6, и впоследствии гораздо сильнее повлияло на лирику и лиро-эпику (на романтическую поэму, пушкинский роман в стихах), нежели на чистую эпику. Кстати, отдельное исследование об отзвуках стерновского путешествия в творчестве Мандельштама представлено в книге Г. Амелина и В. Мордерер [Амелин, Мордерер, 2000, с. 58−60].
Другое, важное для поэзии, качество жанра путешествия связано с описательностью, с «живописностью», без которого жанр путешествия не может состояться. Не будет преувеличением сказать, что акмеистическая любовь к пространству, к его насыщенности, наполненности, акмеистическая экфрастичность сродни жажде путешественника любоваться новыми картинами и описывать их. Путешественник в литературе конца XVIII.
6 В статье «К технике внесюжетной прозы» («Литература факта») В. Б. Шкловский, упоминая Стерна, пишет: «Теперь возникает вопрос, чем заменить в фактической прозе сюжет. Элементарнейшей заменой является метод передвижения точки рассказывания, пространственное в путешествии» [Шкловский, 1990, с. 411]. начала XIX в. бежит событийности, отдавая предпочтение созерцательности. Повествование о путешествии, следовательно, теряет цели, задачи, мотивировки, зато обретает весьма разнообразный повествовательный рельеф со множеством техник, позволяющих осуществить переход от описания внешнего к описанию внутреннего. Так, Т. Роболи отмечает: «в одном из ранних произведений Марлинского — „Поездка в Ревель“ (1821 г.) оживает традиционный жанр гибридного путешествия со всеми характерными чертами: эпистолярной обработкой, обращениями к друзьям, вводом стихов и проч. Наряду с обычным появлением стихов на сильных местах. непосредственный переход от прозы к стихам и возвращение к основному прозаическому тексту дается вне всякой тематической мотивировки» [Роболи, 2007, с. 121−122]. Картины открываются сами по себе, вне зависимости от воли, знаний и цели человека, который перемещается в пространстве. Независимость от воли путешественника, активность пространства передана в художественной формуле Набокова: «Все то русское, путевое, вольное до слезвсе кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых тучкрасота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать» [Набоков, 1990, с. 229]).
Если от художественных формул перейти к формулам философским, то актуальными окажутся хайдеггеровские и постхайдеггеровские представления о пространстве, при котором не только наблюдатель покоряет пространство с собственными целями, но пространство покоряет его: «Хайдеггер дает понять, что Бытие „скорее удаляется, чем представляет себя нам“, так что „являющиеся вещи“ в просвете Бытия „уже не имеют характер объектов“. Я убежден, что такое удаление составляет часть того двойного процесса раскрытия и удаления, которым, как мы уже видели, образуется совершение истины» [Гумбрехт, 2006, с. 77], — пишет со ссылками на М. Хайдеггера, Х. У. Гумбрехт. Движение в пространстве, таким образом,.
7 Курсив автора — Е.К. оказывается многомерным: путешественник, наблюдатель не настигает Бытие и событие, а участвует в процессе удаления и раскрытия Бытия. Все это находит отражение в жанре и лейтмотивах путешествия, которые имеют большой потенциал.
Путешествия ХУШ-Х1Х вв. не случайно избирают «интимные», «лирические» малые формы: форму частной переписки, дневника или отрывков из дневников и переписки. Таким образом, само понятие «путешествие» поэтизируется в культуре Нового времени, уже в прозе складывается устойчивое представление о путешествии без цели и задач, без событийного сюжета, но при этом с динамическим сюжетом, аккумулирующим в себе саму идею движения, развертывания. Такое путешествие предполагает одновременное совмещение разных ландшафтов в едином «ландшафте души», совмещение разных возможностей движения, состояний эмоционального переживания, погружение в мечту, в сон, в мир о воображения, в, том числе, и в мир литературный. И в этом смысле мотив и жанр путешествия представляют собой аналогию лирическому сюжету, словесной динамике, сосредотачивающей в себе энергетический потенциал стиха: «Лирика актуализирует сильнее ракурс пространства. Лирика, и это ее черта, обладает точечным пространством и вот-вот готова взорваться временем» [Чумаков, 2010, с. 49].
В нашей работе анализу будут подвергнуты путешествия, образ которых создан поэтической культурой XX в., культурой акмеизма, умножившей и углубившей тенденции золотого века, заложенные в эпоху сентиментализма. Существует много литературоведческих работ, посвященных травелогам в русской литературе, но в основном, в центре внимания исследователей оказываются прозаические тексты (иногдаавтобиографического или мемуарного характера). Можно особо выделить среди традиционных травелогов именно поэтические путешествия, которые.
8 Не случайно В. Шкловский рассматривает «Сентиментальное путешествие» Стерна как образец внесюжетной прозы [Шкловский, 1990, с. 408−413]. в силу особого лирического рода не могут быть сведены к нарративной проблематике, а, наоборот, будучи от нее почти полностью освобожденными, делаются собственно «проводниками» идеи, всей своей структурой воплощая динамичность, подвижность бытия. Пространственные игры — любимые игры акмеистов, реализуемые ими не только и не столько в содержательном плане, а, большей частью, разыгранные самим способом создания поэтической материи, ее художественного рельефа9. Через лейтмотив путешествия пространство и его динамические аспекты в лирике акмеистов открываются особенно отчетливо, потому что энергетика созидания здесь выражена максимально ярко, выпукло. Путешествие есть то же строительство башни, в его основе лежит строительный камень, преодоление пространства в вертикальном и горизонтальном направлениях, в борьбе с пустотой и небытием.
Лейтмотив путешествия является чрезвычайно значимым для всех акмеистов, при этом наиболее ярко количественно он представлен у Гумилева, чья богатая биография поэта-путешественника меркнет по сравнению с роскошью литературных воплощений, ведь это не только реальные, но и воображаемые путешествия. Лирический мир Гумилева оказывается протяженным в пространстве, его топографическая очерченность образует множество линий, по которым движется слово, устремляясь вовне. «Гумилев — поэт географии, — пишет Ю. И. Айхенвальд. -Он именно опоэтизировал и осуществил географию, ее участник, ее любящий и действительный очевидец. Вселенную воспринимает он как живую карту, где «пути земные сетью жил, розой вен» Творец «расположил» , — и по этим венам «струится и поет радостно бушующая кровь природы» «[Айхенвальд, 2000, с. 493]. Для нас важно то, что акмеисты, с подачи Гумилева, заняты не.
9 См. также исследования художественного пространства, иногда выходящие параллельно на анализ пространства текста, как, например, сборники «Евразийское пространство: Звук, слово, образ» [Евразийское пространство, 2003] и «Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты» [Геопанорама русской культуры, 2004]. Проблема рассмотрения текста как пространства поставлена в работах М. Шапира, см., например: [Шапир, 1995, с. 7−58], [Шапир, 2003, с. 371−382]. реальной, а виртуальной географией, которая чаще всего имеет литературные корни.
Важная тема, связанная с передвижением в пространстве, — плавание. Тема эта образует едва ли не отдельный жанровый раздел в изобразительном искусстве — маринистику, можно говорить также и о поэтической (и о прозаической) «морине», специфика которой определяется характером воды как стихии. Стихии воды посвящено отдельное исследование В. Н. Топорова (сделанное опять-таки на материале акмеистической поэзии) «О „психофизиологическом“ компоненте поэзии Мандельштама»: вода представляется здесь идеальным проводником, наделяющим материю глубиной, памятью, слоистой структурой, историей. Водный ландшафт словно усиливает характеристики, свойственные пространству акмеистов, поэтому лейтмотив плавания у акмеистов — один из наиболее мистических, в нем пространство обретает связь с исторической памятью, с прапамятью, с довременными глубинами. В одной из своих работ Мандельштам уподобляет «стихотворение египетской ладье мертвых» [Мандельштам, 2001, с. 445]. Метафора движения, пространственное чувство присутствуют в этом образе, придавая ему дополнительные ассоциации пути, помимо основного (не менее динамического) значения — дороги в новый (иной) мир.
Прогулка в творчестве акмеистов обособлена как отдельный лейтмотив, имевший долгую предысторию. В XVIII в. прогулка представляла собой самостоятельный малый прозаический жанр, ставший контррепликой в ответ на объемные дневники путешествий. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский пишут об уровнях «Писем русского путешественника»: «На самой поверхности текста Карамзин давал перечень европейских достопримечательностей (их исследователи называют „познавательным содержанием книги“), но в более глубоком слое мысли создан был образ „русского путешественника“, который сделался реальным фактом русской культуры в ее отношении к Европе» [Лотман, Успенский, 1984, с. 533]. Именно второй, глубинный уровень «Писем.» Карамзина способен развивать поэтические смыслы, также как и генерировать поэтическую мифологию. Путешествия XVIII в. — это сложный жанровый контаминат, собирающий в себе как эпические, так и лирические черты, последние обеспечены «интимной» формой путешествия. Прогулка еще в большей мере, чем путешествие, концентрировала в себе лирические смыслы: в отличие от дневников путешествий, прогулка как будто имитировала одну страницу такого дневника, одно конкретное впечатление или размышление, и еще больше выдвигала автора, получающего впечатления и их описывающего. И если для темы путешествия характерна определенная событийность и семантика новизны (познание новых земель), то для прогулки эта семантика снижена, коннотативна. В истории русской литературы прогулка — не просто тема, сначала это самостоятельный жанр сентиментальной прозы, он подобен жанру лирическому и посвящен ландшафтным впечатлениям, пейзажу. «Прогулки одинокого мечтателя» Ж.-Ж. Руссо слабо отзываются в прогулках М. Н. Муравьева («Утренняя прогулка» и «Вечерняя прогулка»), но уже у К. Н. Батюшкова («Прогулка по Москве» и «Прогулка в Академию художеств») жанр прогулки делается городским: время суток (утро и вечер у М.Н. Муравьева) сменяются двумя столичными топосами (Москва и Петербург у К.Н. Батюшкова). Однако и поэтическая, и прозаическая прогулка XIX в. связана не с центром, а с городской периферией (в «Прогулке по Москве» К. Н. Батюшкова это Замоскворечье). У акмеистов тема городской периферии продолжена и видоизменена: в поэзии XX в. прогулка нередко связана с величественными пригородами Петербурга. Раскрываясь в классической поэзии В. А. Жуковского (Павловск), в прозе К. Н. Батюшкова (Замоскворечье в «Прогулке по Москве»), A.C. Пушкина (Царское Село), «пригородная» тема переживает новый всплеск актуальности в эпоху модернизма, и, прежде всего, в мирискусническую эпоху.
Объектом нашего исследования является поэзия акмеизма. Материалом послужила, прежде всего, лирика Н. Гумилева, А. Ахматовой,.
О. Мандельштама, а также стихотворения М. Зенкевича. Нас интересовали не только произведения времен расцвета акмеизма, то есть 1910;х гг. XX в., но и более поздние тексты указанных авторов, поскольку в них явлены «акмеистические посылы», реализованные в новой форме. В современном литературоведении отсутствует единый взгляд как на самою сущность акмеизма, так и на его хронологические рамки, и на состав участников этого течения. Разнобой литературоведческих суждений является результатом разброса суждений самих поэтов, называвших себя акмеистами: Ахматова считала, что их было шестеро (Гумилев, Городецкий, Мандельштам, Нарбут, Зенкевич и она сама), причем рано отрекшийся от акмеизма Городецкий ею и Мандельштамом квалифицировался как «лишний" — в то же время Нарбут в письме к Зенкевичу высказал мнение о том, что, кроме них двоих, нет больше истинных акмеистов. Согласно историко-биографическому принципу, в число поэтов, связанных с акмеизмом, включаются члены первого «Цеха поэтов». Более того, Е. Эткинд считает «близкими» акмеизму Вл. Ходасевича, М. Волошина, Г. Шенгели, Н. Недоброво, Вас. Комаровского, Н. Оцупа, И. Одоевцеву. Согласно другому подходу, основанному на стремлении выявить сущность акмеизма, в центре этого направления оказываются три «главных» имени — Гумилев, Ахматова и Мандельштам (В.М. Жирмунский, Р. Д. Тименчик, И. П. Смирнов, Л. Г. Кихней, З. Г. Минц и Ю.М. Лотман). O.A. Лекманов объединяет оба подхода и пишет об акмеизме как о «сумме трех концентрических окружностей», где внешний круг соответствует составу «Цеха поэтов», срединный составляет каноническая «шестерка» акмеистов (Гумилев, Городецкий, Мандельштам, Ахматова, Нарбут, Зенкевич), а в третий включаются лишь Ахматова, Гумилев и Мандельштам как создатели «семантической поэтики».
В данном диссертационном исследовании, исходя из его целей и задач, основное внимание мы сосредоточили на творчестве Гумилева, Ахматовой и Мандельштама, но обратились также и к текстам Зенкевича, поскольку положение этого поэта-«адамиста», находящегося на границе между акмеизмом и футуризмом (авангардом), особенно ярко демонстрирует динамические аспекты лирического пространства.
Предметом исследования выступают лейтмотивы путешествия, плавания и прогулки, выявляющие динамические аспекты лирики акмеистов.
Целью нашего исследования было рассмотреть лирику акмеистов в ее динамических аспектах, что предполагает не только обращение к темам, несущим в себе динамизм (в нашем случае это темы движения и перемещения в пространстве), но и к словесной, стиховой динамике.
Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:
1. Выявить и описать акмеистические тексты, которые бы демонстрировали различные грани динамической модели пространства.
2. Очертить, пользуясь методом лейтмотивного анализа, ореол поэтической семантики мотивов путешествия, плавания, прогулки в творчестве акмеистов.
3. Показать взаимосвязь тематики передвижения в пространстве с динамикой поэтической формы, обнаруживающей себя в пространственном ракурсе композиции текстов и в их лирическом сюжете.
4. Рассмотрев репрезентативный ряд акмеистических текстов, объединенных лейтмотивом путешествия, продемонстрировать приверженность акмеистов к сюжетам ирреальной модальности и пространственным палимпсестам.
5. На примере конкретных анализов отдельных акмеистических текстов, объединенных лейтмотивом плавания, выявить, как мифопоэтика водного пространства «работает» на усиление импульсов «возвратности» акмеистического текста.
6. На примере конкретных анализов отдельных акмеистических текстов, объединенных лейтмотивом прогулки, показать, что в миниатюрах-прогулках максимально полно раскрываются возможности акмеистической модели пространства: его скульптурность, экфрастичность, тесная связь с художественным пространством классической поэзии XIX в.
7. Выявить интертекстуальный пласт, имеющий в лирике акмеистов свои отличительные черты, которые объясняются законами акмеистической поэтики в целом и связаны с проблемой вещи и пространственной динамикой.
Методологическая основа диссертации определяется единством историко-литературного, феноменологического, компаративного и структурного подходов. Для описания сюжетной динамики мы использовали метод лейтмотивного анализа Б. М. Гаспарова. Лейтмотив для Б. М. Гаспарова — это вариация в пределах одного текста или всего массива текстов одного писателя того или иного поэтического элемента любого объема, вплоть до самого микронного, наделенного определенной динамической семантикой. Такое определение принципиально не совпадает с традиционным (идущим от А.Н. Веселовского10 к Ю. М. Лотману с некоторыми вариациями) определением мотива как минимального звена в сюжетной цепи Лейтмотивный анализ предполагает рассмотрение мотива как динамической, а не константной величины.
Лейтмотивный анализ Б. М. Гаспарова возникает тогда же, когда происходит активная разработка понятия «художественный мир» (С.Г. Бочаров, А. К. Жолковский, В.В. Федоров). Взгляд на текст как на «художественный мир» превращает произведение в континуальное пространство, и все остальные свойства этого мира обретают пространственный аспект. Мотив в «художественном мире» уже не может оставаться сюжетной дробью, он становится подвижным рисунком в художественном континууме, определяет его рельеф, отзывается во всех областях художественного пространства, и сам откликается на все. Для.
10 «Простейший род мотива может быть выражен формулой, а + 6″ [Веселовский, 1913, с. 78], где мотиввеличина не динамическая, а константная. Однако „а“ и „Ь“ могут незаметно плавно перетекать друг в друга, а семантические границы и их пересечение героем в сложном художественном образовании могут быть подвижными, незаметными. поэтики выразительности» А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова характерно выявление не какого-то одного конкретного мотива, а работа с целым набором инвариантов мотивовмножественность инвариантов, отношения между ними (варьирование, контраст, совмещение) и являются выразительной реализацией темы"11. Акцент на инвариантах мотива делает мотивный анализ А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова гибким, похожим на лейтмотивный анализ Б. М. Гаспарова. Подобное понимание мотива отменяет жесткую схему анализа художественного произведения, требует гибкости в подходе к любым художественным структурам. Мотив, замененный лейтмотивом, уподобляет анализ художественного произведения семиотическому путешествию по произведению как по миру со своим 12 ландшафтом. Именно в этом видится главное расхождение мотивного (лейтмотивного, по Б.М. Гаспарову) анализа со структурной поэтикой. «Мотивный анализ утверждает, что никаких уровней вообще нет, мотивы пронизывают текст насквозь и структура текстов напоминает вовсе не кристаллическую решетку (излюбленная метафора лотмановского структурализма), но скорее запутанный клубок ниток» [Руднев, 2001, с. 256]. «Запутанные тропинки» делают языковую материю художественного произведения артефактом, а не объектом организации четкой структуры. Таким образом, понимание текста как пространства меняет привычные подходы к тексту, пространство, движение и перемещения выходят за границы жанрообразующего мотива, и обретают способность восприниматься в качестве продуктивной метафоры для описания способа существования поэтической материи.
11 А. К. Жолковский пишет об «отношениях выразительной реализации темы через мотивы (последние могут быть представлены как результаты применения непосредственно к центральной теме приемов варьирования и контраста, а также как результаты дальнейшего варьирования и совмещения этих первичных результатов)» [Жолковский, 1996, с. 243].
12 «Слово способно путешествовать: это важное свойство — оно открывает нам пространство, рассказывая о нем, возводя, раздвигая его в нашем воображении» [Балдин, 2009, с. 2].
Лейтмотивный анализ Б. М. Гаспарова учитывает тот факт, что лирика и проза сложной нарративной структуры чрезвычайно подвижны семантически, их звенья не вычленимы, они теряют четкость, расплываются, поэтому говорить можно лишь о текучих смыслах, «семантических пятнах». Во всех конкретных анализах, которые будут приведены нами в основной части работы, тема путешествия также будет органически связана со множеством других семантических линий, она будет пунктирно, прерывисто проведена от начала текста к его концу через множество преград.
Поскольку в данной работе речь идет о динамике, которую невозможно помыслить отдельно от пространства и субстанций, его наполняющих и составляющих, то актуальными для данного исследования стали также труды о пространстве и вещи в творчестве акмеистов. Без решения проблемы вещи и пространства не обходится практически ни одно монографическое исследование акмеистической поэзии (работы Л. Я. Гинзбург, Р. Дутли, В. М. Жирмунского, Г. Киршбаума, Ю. И. Левина, О. Ронена, М. Рубине, Э. Русинко, Д. М. Сегала, К. Ф. Тарановского, Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова, A.A. Хансен-Лёве, Т. В. Цивьян, Д. И. Черашней, Ю. К. Щеглова, Б.М. Эйхенбаума). Поскольку выбранные нами для анализа тексты заключают в себе лейтмотивы путешествия, плавания, прогулки, то мы также опирались на труды исследователей травелогов — А. Н. Балдина, Д. Буркхарта, B.C. Кисселя, Т. Роболи, А. Шёнле и др.
В целом комплексный характер поставленных в диссертационном исследовании задач обусловливает и соответствующий подход к материалу, основанный на рассмотрении каждого из исследованных явлений в свете динамической поэтики, теоретически обоснованной в работах Б. М. Гаспарова, М. Л. Гаспарова, Ю. Н. Тынянова, Ю. Н. Чумакова.
Основная научная гипотеза, вынесенная на защиту. Исходя из динамической природы пространства в лирике акмеизма, можно представить общий план акмеистической поэтики, и это позволяет увидеть два условия, необходимые для работы над темой о пространственной динамике: 1) осмысление пространства как текста- 2) осмысление текста как пространства. Пространственные образы в тексте связаны с пространственным устройством самого текста. Материал акмеистической лирики дает возможность показать, сколь разнообразен и неоднороден ее поэтический рельеф. По причине внимания к вещи пространственные образы в стихах акмеистов множественны, объемны, экфрастичны, что добавляет поэтической ткани, для которой вообще свойственна контрастность, еще большую рельефную остроту.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Модель акмеистического пространства, явленная не только в пространственных образах, но и в пространстве самого стиха, обнаруживает себя посредством лейтмотивов, связанных с темой пути (путешествие, плавание, прогулка).
2. «Лакунность», «пустотность» акмеистического текста служит генератором его внутренней энергии и толчком для построения пространственных структур в художественном мире акмеистов. Тыняновское понятие «художественной динамики», которое позволяет уловить «колеблющиеся признаки» поэтической ткани, ее движение и процессы генерации ее внутренней энергии, является способом описания пространства и его векторов в лирике акмеистов.
3. Поэтические путешествия, будучи освобожденными от нарративных нагрузок, делаются собственно «проводниками» идеи путешествия, всей своей структурой воплощая динамичность, подвижность текста и мира.
4. Лирические путешествия акмеистов описываются в значительной мере как воображаемые, соединяющие в себе различные пространства. Для них характерен высокий уровень интертекстуальной плотности (массивный подтекст), повышающий модальный потенциал текста.
5. Лейтмотив плавания невозможен без семантического компонента возвращения/невозвращения на родину, эта семантическая линия выявляет сильнейшие возвратные импульсы акмеистического стиха, тем более что реверсивность является признаком любой стиховой ткани. У акмеистов реверсивность подчеркнута особо и является объектом художественного осознания.
6. Акмеисты обновляют традиционную для поэзии тему прогулки, расширяя и углубляя «пригородный» текст русской литературы. И хотя прогулка не создает образ далекого пространства, но представляет движение вне географии, чистую идею динамики.
7. Лейтмотивы передвижения у акмеистов предполагают образы отдаленных (путешествие, плавание) и периферийных (прогулка) пространств, однако при этом часто обозначается точка, откуда исходит движение, и точка эта — Петербург, в результате в акмеистическом тексте путешествий отдаленные пространства накладываются на петербургские картины, и создается впечатление, что лирический герой, перемещаясь, остается на месте, что сталкивает представления о статике и динамике.
8. Литературные палимпсесты в лирике акмеистов во многом создаются за счет плотности интертекстуального ряда. Одним из наиболее важных подтекстов для творчества акмеистов стал французский поэтический подтекст (Ф. Вийон, В. Гюго, Ш. Бодлер, А. Рембо и др.), поскольку французская поэзия оказывала сильнейшее влияние на лирику Н. Гумилева и О. Мандельштама.
Научная новизна исследования определяется следующими его аспектами:
1. Впервые предпринято системное исследование стихотворных путешествий в поэтической культуре акмеизма. Гораздо чаще в сфере внимания литературоведов оказываются прозаические путешествия.
2. Обозначены общеакмеистические тенденции, связанные с темой путешествий.
3. Были проанализированы лейтмотивы в лирике акмеистов, выявляющие динамику пространства: путешествие, плавание, прогулка.
4. Путешествие рассматривалось не как отдельный жанр или сюжетно-мотивный комплекс, а как синтез тематики путешествия и пространственной поэтики, для которой характерен внутренний динамизм.
5. Методика работы и теоретический подход к ней потребовали внесения в нее некоторой теоретической аналитики, которую мы представляем, рассматривая такие понятия, как «художественная динамика», «образы пространства в художественном мышлении», «текст как пространство» и нек. др.
Теоретическая значимость исследования предопределена тем, что в нем.
1. систематизирован и обобщен художественный опыт одного из важнейших поэтических течений XX в. — акмеизма;
2. выявлена функция динамических принципов поэтики акмеистов (словесная и пространственная динамика), что вносит определенный вклад в изучение акмеизма как художественно-эстетического направления;
3. рассмотрены следующие динамические аспекты поэзии акмеистов: проблема лирического пространстваспецифичность акмеистического стиха (предметность) — лейтмотивность поэтики акмеистов;
4. обоснована гипотеза акмеистической поэтики, в рамках которой пространство осмысляется как текст, а текст как пространство.
Научно-практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания в ВУЗах при чтении курсов лекций по истории литературы XX в., задействоваться при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по поэзии серебряного века, при проведении практических занятий, литературных факультативов в старших классах средней школы с гуманитарным уклоном, а также при разработке учебных и методических пособий.
Апробация результатов исследования.
Основные положения диссертации отражены в 29 научных статьях и в монографии «Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов».
Новосибирск, 2011). Идеи и положения диссертационной работы излагались и обсуждались в докладах на ежегодных всероссийских научных конференциях «Сюжеты и мотивы русской литературы» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 гг.), на международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2004 г.), на XI Международной конференции «Русский язык, литература и культура в общеевропейском пространстве XX века» (Познань, Польша, университет им. А. Мицкевича, 2005 г.), на семинаре «Психопатология и литература» (Париж, Франция, Сорбонна (Paris VI), 2006 г.), на III международной конференции «Русская литература в меняющемся мире» (Ереван, Армения, 2007 г.), на всероссийской научной конференции «Нарративные традиции славянских литератур: повествовательные формы Средневековья и Нового времени» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 2008 г.), на XII Международной конференции &bdquo-Европейская русистика и современность", посвященной теме &bdquo-Русский язык, литература и культура на рубеже веков: креативность и инновации при формировании интеркультурной компетенции в исследованиях, переводе и дидактике" (Познань, Польша, университет им. А. Мицкевича, 2009 г.), на III Международном симпозиуме «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2009 г.), на конференции-семинаре «Литературные герои и литературные модели поведения в литературе и в жизни» (С.Петербург — Пушкинские Горы, 2010 г.), на международной конференции «Филология — XXI» (Караганда, Республика Казахстан, Центр гуманитарных исследований, 2010 г.), на II Международной конференции «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» (К 55-летию преподавания русского языка в Испании) (Гранада, Испания, 2010 г.), на международной научной конференции «Маринистика в художественной литературе» (Бердянск, Украина, Институт филологии Бердянского государственного педагогического университета, 2010 г.), на IV Международном научном симпозиуме «Современные проблемы литературоведения» (Тбилиси, Грузия, Институт грузинской литературы им. Шота Руставели, 2010 г.), на X Международной научно-практической конференции «Русская литература в контексте мировой культуры» (Ишим, 2010 г.), на международной конференции «Иван Алексеевич Бунин (1870−1953). Жизнь и творчество. К 140-летию со дня рождения писателя» (Москва, Дом Русского Зарубежья имени А. Солженицына, 2010 г.), на конференции, организованной Американской ассоциацией преподавателей славистики и восточноевропейских языков: AATSEEL — American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (Лос-Анджелес (Пасадина), Калифорния, США, 2011 г.), на X Юбилейном Международном научном симпозиуме «Русский вектор в мировой литературе: Крымский контекст» (Саки, Украина, Крымский центр гуманитарных исследований, 2011 г.).
Объем и структура диссертации. Структура диссертации соответствует ее цели и задачам. Диссертационное исследование состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка использованной литературы. Все три главы, содержательно и методологически дополняющие друг друга, имеют свою внутреннюю логику.
294 ВЫВОДЫ.
Итак, мы рассмотрели целый ряд акмеистических текстов, объединенных между собой мотивом прогулки. Несомненно, на фоне отвлеченных символистских стихов акмеистические прогулки воспринимаются как возобновление конкретных картин поэзии золотого века, давшей образцы городского (Москва и Петербург) и «загородного» (Павловск, Царское Село) пространств.
Лейтмотив прогулки у акмеистов существует в двух вариантах. Во.
237 первых, как стилизации мирискуснического «галантного пространства», позволяющей совместить интимную, любовную тему с изобразительными и пластическими картинами, что дает акмеистам возможность разрабатывать и углублять экфрастические возможности и оттачивать пластику самого стиха. Если сравнить поэзию пушкинского времени с поэзией XX в., то становится ясно, что тема прогулки перестает быть обобщенной, она детализируется, однако если у символистов прогулки не часты, целиком тексты о прогулках найти довольно сложно, то у акмеистов, напротив, прогулок довольно много, они становятся вновь подобием жанра, как бы возвращаясь тем самым в XVIII в. Правда, речь идет лишь о стилизованном возвращении — многие акмеистические прогулки выглядят как аналоги мирискуснических рисунков с сюжетами элегантных придворных променажей.
В других случаях тема прогулки у акмеистов сопровождается описанием встречи с далекими предшественниками, память о которых хранит родное, близкое пространство. Оказывается, что для осуществления.
237 Вс. Петров так описывает сюжеты прогулок на картинах А. Бенуа: «Подобно иллюстратору или художнику театра, он (А. Бенуа — Е.К.) последовательно раскрывал в циклах этюдов и композиций разнообразные аспекты и грани задуманного им образа, создавая ряды как бы сменяющих друг друга архитектурно-пейзажных сцен и. наполняя их стаффажными фигурами, одетыми в старинные костюмы. Существенно подчеркнуть, что фигуры именно стаффажны. Они лишь оживляют пейзаж, не внося в него драматического действия. Крошечные фигурки короля и его свиты, затерявшиеся среди версальских пространств, служат лишь целям воссоздания старины. Настоящими героями картин Бенуа становятся не люди, а произведения искусства, грандиозные статуи и фонтаны версальского парка» [Петров, 1975, с. 22]. далеких путешествий нет необходимости преодолевать большие расстояния, прогулка позволяет понять, что огромные временные дистанции могут быть охвачены и в родном, окружающем дом локусе. Меняя масштаб, прогулка по сравнению с путешествием дает возможность яснее воспринять отдельные стороны философии путешествия: для прогулки важна не столько изменчивость внешних пространств, сколько быстрая смена воображаемых и эмоциональных картин (не случайно канон русской прогулки задает батюшковская «Прогулка в Академию художеств» — путешествие по галерее и по тем пространствам, которые открываются на художественных полотнах). Отдельные картины, сцены прогулок экфрастически застывают и запечатлеваются в словесном образе, отсюда их «вещественность», «эпиграмматичность», тяготение акмеистических прогулок к культуре золотого века, стилизация под «золотой век».
Прогулка становится погружением в глубину культур (чаще всего в поэтическом варианте), таким образом акмеистические стихотворения-прогулки обнаруживают свою причастность к большой группе элегий и дружеских посланий на тему «Элизиум поэтов». Акмеисты возобновляют и эту классическую тему, разрабатывают ее параллельно с Цветаевой («Встреча с Пушкиным» и т. д.), открывают ее для футуристов (вспомним.
ЛТО ЛОЛ.
Юбилейное" В. Маяковского, «Шекспира» Б. Пастернака).
Что же касается самих акмеистов, то для них, в особенности для Ахматовой и Мандельштама, лейтмотив прогулки будет чрезвычайно.
238 В самом начале стихотворения Маяковский «знакомится» с Пушкиным и говорит его памятнику «Дайте руку!», что в рассматриваемом нами ракурсе продолжает мотив «рук», важных в стихах-«встречах» Цветаевой и Мандельштама, в тексте которого рука Батюшкова «холодная», будто рука статуи. Кстати, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» с подзаголовком «Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.» хранит в себе тоже отсвет этой темы — прогулки и встречи с великим предшественником, только конкретный образ великого предшественника заменен у Маяковского солнцем.
239 В данном стихотворении можно увидеть своего рода «лондонскую прогулку» Пастернака. См. подробнее об особенностях использования Пастернаком шекспировского культурного кода и палимпсеста в статье Ю. В. Шатина «Шекспировский код в поэтике Бориса Пастернака» [Шатин, 2005, с. 213−219]. актуален на протяжении всего творчества. Мотив Элизиума поэтов станет одним из ключевых в «Поэме без героя» Ахматовой и занимает видное место, как мы постарались показать, в поздних стихах Мандельштама. Видимо, здесь дело в том, что лейтмотив прогулки выявляет пространство в его хайдеггеровском понимании, когда простор — это не вектор, устремленный вдаль (такой взгляд на пространство больше подходит символизму), а место, которое может освобождаться при взаимной игре мест. Прогулка, никуда не уводя от дома, означает подле него такие точки, такие места, которые способны изнутри самих себя развертываться веером скрытых внутри них пространств240.
240 В статье «Искусство и пространство» М. Хайдеггер пишет: «Возникает вопрос: разве места — это всего лишь результат и следствие вместительности простора? Или простор получает собственное существо от собирающей действенности мест? Если второе верно, то нам следовало бы отыскать собственное существо простора в местности как его основании, следовало бы подумать о местности как о взаимной игре мест» [Хайдеггер, 1993, с. 315].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Решение проблем пространственной динамики связано с рассмотрением пространственных образов художественного текста, — вряд ли кто-то возьмется опровергать этот тезис. Разумеется, и в нашей работе пространственным образам было уделено немало внимания. В этом отношении нас интересовали те аспекты, которые позволяют выявить в поэзии акмеизма меняющееся пространство и смену пространств, их совмещение, наложение, наплывы одного пространства на другое. А это значит, что начать следовало прежде всего с образов движения и передвижения, выраженных в мотивах путешествия, плавания, прогулки и т.под. Наблюдая за образами движения, мы получаем возможность рассмотреть в лирике акмеистов характерные черты и особенности сложно устроенного художественного пространства. Каждое литературное направление, каждая художественная школа и каждая художественная парадигма творит свой образ пространства, потому-то и оказывается возможным выявить и описать такие черты. Для лирики акмеизма особенно важными оказываются те черты, которые указывают на отношение пространств «внутренних» и «внешних», которые в свою очередь манифестируют отношения между субъектом восприятия и его объектом.
Система опосредованных связей между пространством и сознанием чрезвычайно разнообразна. На первых страницах своей большой работы «Пространство и текст» В. Н. Топоров, обобщая опыт философии конца XIX-начала XX в. (и ссылаясь на Н. Гартмана), обозначает несколько связей, которые могут моделировать отношения пространства и сознания — это «связь внутреннего с внешним, непространственного с пространственным, „неизменяющегося“ с изменяющимся, нетекстового с текстовым» [Топоров, 1983, с. 227]. Важно отметить, что, по мнению философов, взаимоотношения сознания с пространством имеют вид пути, — пути, направленного от точки сознания в бесконечность мира, и наоборот: от бесконечности мира к точке человеческого «я». Уже поэтому образ пути и путешествия изначально «философичен». В «челночном» движении от «мира» к «я» (а это вообще универсальный образ множества процессов, в том числе, и мыслительных)241 сознание порождает множество пространственных схем, как предельно упрощенных, так и чрезвычайно сложных. Разумеется, воображение, порождающее художественные миры, уже по определению рождает сложные пространственные модели, в то время как многие научные (и в некотором смысле упрощенные модели пространства) легко могут быть представлены с помощью линейной геометрии. Но вот что интересно: не только в философии, но и в точных и естественных науках сами линейные схемы постоянно усложняются, теряют свою линейность, стремясь к описанию колеблющихся, искривляющихся, «струнных» (по определению Брайана Грина) пространств. Таким образом, оказывается, что и в этой области многие вещи поэзия «знает» прежде науки.
Наряду с пространственными схемами точных наук существует понятие «мифопоэтического пространства», в котором обобщены разного рода мифологические пространственные схемы, которые дает целый ряд древних культурных кодов, действующих на уровне архетипов. Важнейшие законы мифопоэтического определяются в особенно значимых для нас трудах В. Н. Топорова, а также во многих других работах, представляющих мифологическое направление в литературоведении или соприкасающихся с ним: В. Я. Проппа, К. Леви-Стросса, Е. М. Мелетинского, Н. С. Трубецкого и др., в работах, рассматривающих пространство как текст. Разумеется, при исследовании любой темы, связанной с образами движения и пространства, невозможно избежать сферы мифопоэтики, вне которой не может быть рассмотрено какое бы то ни было художественное творчество, и акмеисты.
241 Мышление, по Л. С. Выготскому, осуществляется в челноке между внутренней и внешней речью, во внутренней речи субъект и объект не расчленены, и этим внутренняя речь напоминает по содержанию лирику, но отточенная лирическая форма может быть, напротив, противопоставлена внутренней речи как сложнооформленная материя неупорядоченной (см.: [Выготский, 1982, с. 295−361]). здесь не составляют исключения. Поэтому все три главы нашей работы так или иначе имели в виду те или иные законы мифопоэтики.
О чем бы мы ни говорили: о путешествиях, плаваниях или прогулках, -мы соприкасаемся с архетипом пути, главный смысл которого заключен в движении от родного, знакомого, близкого к неизведанному, к «чаемой цели», достижение которой нередко связано со спуском в «нижний мир». В мифопоэтическом сознании линия пути, как правило, негомогенна, образ пути динамичен, «путь связан с предельным риском, отвечает глубинному соотношению особенностей человеческого восприятия мира и вероятностному характеру постигаемого этим восприятием мира» [Топоров, 1983, с. 263].
Динамический характер образа пути, его негомогенность делают любой текст о путешествии пространственным палимпсестом: вслед за одними открываются другие пространственные картины, иногда пространства просто «накладываются» друг на друга. Соприсутствие несовместимых пространственных картин определяет модальность поэтических путешествий, и это модальность ирреальная, поскольку стихотворные путешествия заключают в себе «возможные сюжеты». На примере «Сентиментального путешествия» Гумилева, в котором путешествие к неведомым берегам окзывается всего лишь приглашением к путешествию, мы показали, как из ирреальной модальности желания (заимствованной к тому же из «L'invitation au voyage» Бодлера) вырастает живописный сюжет, «реально» разворачивающийся на глазах читателя, полный зримых деталей, которые, однако, при всей своей зримости все-таки остаются призраками далекого воображаемого мира. Все стихотворение в итоге наполняется движением, становится колебанием от «ирреального» к «реальному». Другие поэтические путешествия Гумилева («африканские») были рассмотрены нами прежде всего как литературные путешествия — по страницам книг его любимых французских поэтов.
Отдельной главой нашего исследования стало рассмотрение морских путешествий в поэзии акмеизма. Здесь ощущение ирреальной модальности пространства передается через присутствие в тексте образов воды — той субстанции, о которой Г. Башляр говорит: «Вода — это еще и тип судьбы, не только пустой, судьбы бесследно ускользающих образов, бессмысленной судьбы сна, которому не суждено кончиться, но судьбы существенной и непрерывно преображающей субстанцию бытия» [Башляр, 1998, с. 23−24]. В своем анализе «морских» стихотворений Гумилева («Корабль», «Путешествие в Китай», «Капитаны», «Возвращение Одиссея», «Пятистопные ямбы» и др.), в числе которых, с помощью интертекстуальных включений, оказался и «Заблудившийся трамвай», мы обратились к сюжетам средневековой европейской мифологии, прежде всего, к сюжету о Летучем Голландце, имеющем богатые литературные традиции, оставившие свой след в творчестве Гумилева. Непрерывно преображающаяся стихия воды возвращает поэтическим сюжетам представление о хаосе и о таинственном рождении ритма из хаоса стихий, а значит, обостряет мотивы и гибели (хаос), и спасения (обретение ритма). Практически все рассмотренные нами морские сюжеты несут в себе зерно катастрофы, поэтому логично, что мы закончили свой обзор сюжетом о гибели «Титаника». Будучи современником этой великой катастрофы, Зенкевич поэтически осмысляет ее, конечно же, в традиционных канонах мифопоэтики водного пространства.
И, наконец, мы проанализировали в качестве одной из разновидностей путешествия прогулку — лейтмотив, чрезвычайно характерный для акмеистов, набирающий именно в их лирике свою силу и становящийся постепенно одной из визитных карточек модернизма. В отличие от путешествия прогулка недалеко уводит от дома, но, как и далекое путешествие, ведет к «иным» пространствам. В ходе нашего исследования выяснилось, что акмеистические прогулки нередко имеют общий корень с традиционным сюжетом «Элизиум поэтов», в результате чего прогулка осознается как прогулка мистическая, обещающая встречу с ушедшим и ушедшими. Так или иначе, все типы текстов, объединенные темой передвижения, содержат в себе возможность проникновения в закрытый мир, куда приводят следы прошлого или следы воображения.
При еще более пристальном взгляде на проблему путешествия в лирике оказывается, что она далеко не исчерпывается исследованием образов пространства с вторжением в мифопоэтику. Образы пространства, осмысление пространства как текста — это лишь первое и необходимое условие работы над темой о пространственной динамике. Не менее важно то, что пространство самого текста представляет собой поле, на котором разыгрывается сюжет «движения словесных масс» (Ю.Н. Тынянов). Пространство текстурно, но и текст пространственен. Наметка изучения пространственности самого текста была тоже усвоена нами из работ В. Н. Топорова, однако мысль эта развита у него не так подробно, как мысль о текстурности пространства: «Если есть такой аспект пространства, в котором оно может пониматься как текст, то тезис о тексте как пространстве тем более не должен вызывать удивления, хотя, в действительности, все типологически возможные реализации тезиса трудно исчислимы» [Топоров, 1983, с. 280].
Между тем пространственность лирического текста не может игнорироваться нами, поскольку в отношении поэзии она еще более наглядна, чем в отношении прозы. Пространственность заложена в самой природе поэтического текста, и даже наименование поэтической формы «versus» содержит в себе, сошлемся здесь на M.JI. Гаспарова, идею пространственного ряда, а рифма предполагает возвращение к парному стиху [Гаспаров M. JL, 1993, с. 5]. О. Седакова «единственным удовлетворительным знанием стихотворения» считает «знание его наизусть» [Седакова, 1994, с. 334], потому что поэтический текст не прочитывается линейно от первой строки к последней, а существует весь и сразу в отдаленных друг от друга перекличках всех своих рифм, ритмов и композиционных частей.
Описывая акмеистические стихи, мы руководствовались пониманием лирического пространства, представленного в работах Ю. Н. Чумакова, для которого в «Евгении Онегине» «пространство наглядного созерцания» перекрывается динамичной пространственностью самого текста: «Пространственная ощутимость „Онегина“ изнутри — это не кинолента внутренних видений совершающегося в романе, где изображение может остановится в любом „кадре“. Это „кадр“, эпизод, картина, строфа, стих, пропуск стиха — любая точка текста, взятая в ее распространении на весь текст, включая его фоновое пространство, образованное отсылками, реминисценциями, цитатами и т. п. Сплетение пространств есть сплетение смысла» [Чумаков, 2008, с. 195]. В том же ключе, что и сюжет «Онегина», толкуется исследователем и лирический сюжет в целом. Под лирическим сюжетом понимается не семантическая доминанта, а движение стиховой материи, порожденное игрой семантических и асемантических элементов стиховой ткани (см.: [Чумаков, 2010]).
Вслед за Ю. Н. Чумаковым нам было важно показать, как пространственные образы в тексте связаны с пространственным устройством самого текста. Примером для нас послужил сделанный исследователем анализ стихотворения Пушкина «Зимний вечер». Обращая внимание на смену пространств (северная зимняя буря в VI строфе уступает место ясному утру, замкнутое пространство меняется на открытое) Ю. Н. Чумаков рисует несколько возможных вариантов композиционного членения, каждый из.
242 которых равноправно сосуществует с другими. Не в последнюю очередь композиционная множественность подсказана множественностью сменяющих друг друга пространств. Контраст пространственных образов определяет композиционное устройство и сам определяется всем композиционным устройством стихотворения, поскольку лирическая.
242 «Описание композиции и пространственности стихотворения не только прокладывает дорогу к смыслообразующим элементам на этих уровнях структуры, но, главное, позволяет увидеть их конфигурации, возможности выбора и комбинирования для получения той или иной интерпретации [Чумаков, 1999а, с. 331]. материя неоднородна, ее структура не может быть однотонной, выровненной, она должна иметь внутри себя уровневые перепады.
Мы рассмотрели эту идею на другом материале, чтобы показать, сколь разнообразен и неоднороден поэтический рельеф акмеистической лирики. И здесь для нас точкой опоры послужила сосредоточенность акмеистов на идее заполненности пространства, на идее вещи. По причине внимания к вещи пространственные образы в стихах акмеистов множественны, объемны, экфрастичны, что добавляет поэтической ткани, для которой вообще, как мы утверждали выше, свойственна контрастность, еще большую рельефную остроту. Примером предельно контрастного поэтического рельефа может послужить подробно описанный в первой главе нашей работы «французский» пространственный палимпсест Мандельштама, где образы различных пространств сменяют друг друга настолько интенсивно, что это можно видеть на самых минимальных участках текста, едва ли не в каждом слове. Образная динамика в этом случае оказывается соотнесенной с динамикой словесной, индуцируется ей, приводя к крайней подвижности поэтической конструкции, которая, сохраняя свою устойчивость, вещественность, «зримость», оказывается колеблемой в каждой своей составляющей.
Обнаружению лирической динамики способствует описание интертекстуальных связей текста, и в нашей работе этому было уделено серьезное внимание. Мы показали интертекстуальные связи между стихотворениями Гумилева и Пушкина, Бодлера, Рембо, Мандельштама — и Вийона, Ахматовой — и Пушкина, Лермонтова и т. д. Дело в том, что интертекст у акмеистов имеет свои отличительные черты, которые в какой-то мере тоже объясняются законами акмеистической поэтики в целом, и имеют отношение к проблеме вещи и пространственной динамике. Именно в области исследований по акмеистической поэтике возникло и стало плодотворно работать понятие «подтекста» («подтекст можно формулировать как уже существующий текст, отраженный в последующем, новом тексте» [Тарановский, 2000, с. 31]), которое в чем-то предсказало и предвосхитило интертекст, широко распространившийся и примененный теперь уже к творчеству, наверное, всех без исключения художников.
Ответить на вопрос, почему именно у акмеистов подтекст был особенно заметен, поможет сравнение акмеистов с символистами. Конечно, и у символистов роль подтекста ничуть не менее важна, однако характер подтекста совершенно иной: символистский подтекст сильно обобщен, а выявление конкретных интертекстуальных индексов чрезвычайно затруднено во многом по причине высокой степени абстрактности символистского.
243 художественного мира. «Вещественность» акмеистического мира, напротив, дает отсвет вещественности тем словам и участкам текста, в которых можно опознать интертекстуальные отсылки к другим текстам, акмеистическое слово как будто бы готово быть заключенным в кавычки, легко выдвигается из текста, как в знаменитом манделыптамовском «Ну, а перстень — никому», где оба полнозначных слова («перстень» и «никому») будто бы «просятся» в кавычки.
В процессе работы мы, конечно, не избегали специально описания интертекста как явления внешнего по отношению к конкретному произведению, явления, возникающего тогда, когда «произведение» ведет к большому литературному и культурному «тексту», однако гораздо больше нас интересовал интертекст как явление внутреннее244. Внутренний ракурс появляется тогда, когда отдельное слово или несколько слов позволяют угадать отсылку к другому тексту, отмеченные слова «выдвигаются» из общего массива стихотворной строки, воображаемые «кавычки» образуют пустоту вокруг слова, делают слово еще более «условным», способным.
243 Во многом невычленимость подтекстов объясняется еще и тем, что символ и миф — центральные мотивы символистских стихов. И непосредственное сближение символа, мифа, мотива в сознании символистов делает их парадигматику предельно универсальной. (См.: [Ханзен-Леве, 2003, с. 7−18]).
244 Комментируя идеи Р. Барта, Н. Пьеге-Гро отмечает: «Движение от произведения к Тексту (диссеминация, рассеяние, распускание Текста на смысловые нити) с необходимостью сопровождается противодвижениемдвижением от Текста к произведению» [Пьеге-Гро, 2008, с. 36]. получить направленность вовне, почти сдвинуться с места, в то же время оставаясь на нем. Такая подвижность отдельных участков тоже обнаруживает пространственное устройство поэтического текста, каждой его отдельной строки, подобно тому, как подвижность «образов», «смена картин» выявляет композиционные рельефы и линию лирического сюжета.
Здесь мы намеренно пользовались термином Б. М. Гаспарова «лейтмотив», именно он как нельзя лучше согласовался с лирической природой исследуемого нами лирического материала и дал нам инструментарий для анализа лейтмотивов движения в лирике акмеистов. В основе лейтмотива лежит повтор, в чем-то аналогичный рифме, как и рифма, возвращающая к уже пройденным участкам текста. Лейтмотив работает как якорь, который держит целое текста, скрепляет его, ставит вехи, обозначая движение текста, его семантические «пути», и пути отнюдь не прямые. «Извилистость», сложность, «кривизна» лейтмотивных построений внутри текста — следствие того, что лейтмотивный повтор, являясь повтором семантическим, не несет в себе в то же время строго закрепленного, константного, постоянного содержания, расширяя тему и даже меняя ее: «Лейтмотив обрастает законом „феноменальности повтора“, когда совершенно неважным становится содержание повтора — а важен сам его факт» [Зыховская, с. 93]. Все это сходится с тыняновским пониманием «художественной динамики», подробно обоснованным нами во введении к работе.
Как мы показали, переходя в своих анализах от темы путешествия к темам поэзии, родного и чужого языка и т. д., содержание лейтмотивного повтора динамически меняется. Н. Л. Зыховская, сделав обзор понятия «лейтмотив» в западном литературоведении (Е. Френцель, Ю. Фолк и др.), пришла, опираясь на аналитический опыт Б. М. Гаспарова, к выводу, что «главной задачей лейтмотивного анализа» является поиск «ключей» к тексту, которые нередко возникают в произведении скорее бессознательно, чем осмысленно формально" [Зыховская, с. 95]. Интуитивный поиск «ключей» для атеистических пространственных ходов и определил суть нашей работы. При этом мы еще раз хотели бы подчеркнуть «гибкость» и «мягкость» семантических линий во всем акмеистическом поле, существуют ли они внутри текстов, или между ними. Для удобства рассмотрения текстов мы разделили их на три группы (путешествие, плавание, прогулка). Но можно показать и другое: все эти группы, разумеется, не существуют отдельно, а «наплывают» друг на друга, пересекаются (так, многие воображаемые «сухопутные» путешествия Гумилева оказываются связаны с морским пространством, частично они превращаются в плавания, а плавания, в свою очередь, обретают черты экзотических путешествий в пустыне и т. п.).
В результате мы пришли к выводу, что тема путешествия у акмеистов образует характерный лирический сюжет, специфика и мифопоэтическое наполнение которого мы и пытались показать. Что же касается проблемы пространственной динамики текста, то наше исследование показало, что эта проблема не снимается и для текстов, ориентированных на следование поэтической традиции, каковыми являются тексты акмеистические, хотя обычно вопросы пространственности поэтических текстов принято изучать на примерах из поэзии авангарда, как русского, так и западного. Там, где текст визуально декларирует свою пространственность, невозможно обойтись без учета динамических аспектов пространства, однако попытка задуматься о перспективах нашей работы приводит к заключению о том, что эта проблема еще недостаточно исследована. Изучение пространственной динамики текстов, не декларирующих свою пространственность, а скрывающих ее в себе, относится к перспективам заданного направления.