А. С. Пушкин как прозаик, драматург, историк
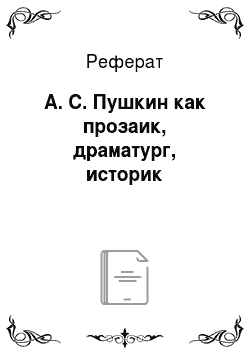
Так и случилось с русской художественной прозой. «Повести Белкина» явились для нее первой школой мастерства. И Лев Толстой говорил, что повести эти «надо изучать и изучать каждому писателю», «надо не переставая изучать это сокровище». И разве, оглядываясь на путь литературы нашей, не видим органического родства «Повестей Белкина» с новеллами Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова, Куприна, Бунина… Читать ещё >
А. С. Пушкин как прозаик, драматург, историк (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Драматургия Пушкина
2. Александр Пушкин, как гениальный прозаик
3. Мятежность в прозе и драматургии выдающегося писателя
4. «Моцарт и Сальери». «Пир во время чумы»
Заключение
Список литературы
В полифонии пушкинского творчества звучат «мелодии» чуть ли не всех литературных жанров: оды и послания, сонеты и элегии, мадригалы и эпиграммы, поэмы и сказки, роман в стихах и повесть в стихах. Маленькие повести, маленькие трагедии, историческая драма и историческая повесть. Наконец, литературно-критические Статьи, рецензии, публицистика, исторические исследования, письма, дневники, автобиографические заметке. Все это Пушкин освоил, осветил своим гением, оставил в наследие, из которого выросла, окрепла, возмужала великая русская литература.
И в каждом жанре — ломка устаревших канонов, открытие «новых миров», говоря словами самого поэта, смелое новаторство, завоевание будущего — литературный подвиг.
Так поэт оценил, в частности, своего «Евгения Онегина» а своего «Бориса Годунова». В июле 1825 года, в разгар работы над «Годуновым», Пушкин писал П. А. Вяземскому! «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию.»
Что имел в виду Пушкин? Ему предстояло взорвать устоявшиеся «обряды и формы», классицизма в драматургии с его тремя единствами: места, времени и действия, — с его условностями и манерностью, -«напудренностью и нарумяненностыо», с «холодным лоском» куртуазности, — со всем тем, что было рассчитано на жеманный вкус дворцовой знати; взорвать и вернуть трагедии ее народность, ее непосредственность, простоту, правдивость, жизненную многогранность в обрисовке характеров.
1. Драматургия Пушкина
В драматургии образцом для Пушкина был Шекспир. «Твердо уверенный, — писал поэт-драматург, — что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по Системе Отца нашего Шекспира, и принес ему в жертву, пред его алтарь два классических единства, и едва сохранил последнее… Отказавшись добровольно от выгод, мое о род оставляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою,: и старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий, — оловом, написал трагедию истинно романтическую».
Верное изображение времени, развитие исторических характеров и событий — что это как не требования реалистического искусства, как не выражение глубоко продуманного и выстраданного к тому времени историзма Пушкина, его философии, истории, выработанной в тесной связи с интеллектуальными откровениями эпохи.
Историзм Пушкина складывался под влиянием веяний бурного XIX века, наследника Французской революции, передовых идейных, философских, исторических и политических исканий отечественной и зарубежной мысли. В его библиотеке хранилось около четырехсот книг по истории.
Выдающиеся умы, представители социально-утопической (Сен-Симон, Фурье), философской (Гегель) и исторической (французские историки-романтики) мысли формировали в первые десятилетия XIX вена новый взгляд на развитие общества как на прогрессирующую смену этапов, шатались выявить движущие силы этого прогресса. Историки-романтики (Тьерри, Гизо, Минье и др.)) с работами которых Пушкин был хорошо знаком, приближались к пониманию роли классовой борьбы, масс и личности в истории. Но при этом все же продолжали уповать главным образом на «благое просвещение», на «успехи образованности», на роль общественного мнения.
Эти идеи в общем и целом были созвучны и историческому миропониманию, складывавшемуся у Пушкина независимо от них. Еще в 1822 году в Кишиневе поэт высказался так: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Иначе говоря, гражданскую войну, войну классов он рассматривал как знамение времени, а как залог неминуемой победы народа".
Интерес Пушкина к «смутным» временам истории родины особенно обострился накануне восстания декабристов, о подготовке которого Пушкин не мог не догадываться, не мог не размышлять об условиях его успеха, а поражения.
Пушкин официально не был членом декабристских кружков, но он знал лично чуть ли не всех: Рылеева, Пестеля, Михаила Орлова, Лунина, Николая Тургенева, Сергея Трубецкого, — с ними спорил, с ними негодовал, жил мыслями и интересами декабристов, дышал предгрозовой атмосферой, ею разгорался. «Я — признавался он Жуковскому,—наконец был в связи с большею частою нынешних заговорщиков».
В политических беседах с декабристами созревали его собственные взгляды па прошлое, настоящее и будущее России. Вопрос о путях политического переустройства страны для Пушкина упирался в ее историю.
Знаменательно, что «Бориса Годунова» он заканчивает 7 ноября 1825 года, в самый канун декабрьского восстания. Поэт словно провидит, предчувствует и предрекает конец Александрова царствования, описывая конец царствования Бориса Годунова.
Трагедия «Борис Годунова начинается с диалога между боярами Шуйским и Воротынским — взойдет ли на царство Борис Годунов? Борис у Пушкина, как и Александр перед восшествием на престол, лицедействует, ломает комедию, делает вид, что власть ему претит. А Шуйский, хорошо зная двуличие Годунова, уверен, что тот жаждет трона, иначе зачем же было совершать убийство царевича Димитрия, проливать кровь законного наследника престола? И Пимен произносит мрачные слова!
Прогневали мы бога, согрешили! Владыкою себе цареубийцу Мы нарекли.
В исключенном Пушкиным из печатного издания отрывке Борис назван «лукавым» («Беда тебе, — Борис лукавый»), так же Пушкин именовал и Александра («властитель слабый и лукавый»).
Разумеется, когда поэт создавал «Бориса Годунова», перед взором его стоял не только отцеубийца Александр I. Его замысел бесконечно шире нравоучительной аналогии двух царствований. Пушкина занимает прежде всего вопрос о природе народного мятежа, о мнении народном, которое сильнее неправой власти державной и которое рано или поздно карает эту власть.
Народное мнение, а не цари и самозванцы, творит Суд истории — вот великая мысль Пушкина в «Борисе Годунове». Народное мнение и есть «Клип страшный глас», прозвучавший смертным приговором над Годуновым. Проклятие тяготеет и над его сыном Федором. И потому боярин Пушкин уверен в победе Самозванца. Когда Басманов, командующий войсками Федора, говорит с усмешкой превосходства боярину Пушкину, что у Лжедмитрия войска «всего-то восемь тысяч», Пушкин отвечает, не мало не смущаясь, что и тех не наберешь: Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Не войском, нот, не польскою помогой., А мнением; да! мнением народным.
Борис восстановил против себя это мнение не только убийством царевича Димитрия, по и тем, что отменил Юрьев день, когда крепостные вольны были уйти от своего хозяина. Крестьянин стал теперь полностью бесправным, стал вещью, собственностью землевладельца. И боярин Пушкин говорит Шуйскому:
Попробуй самозванец Им посулить старинный Юрьев день, Так в пойдет потеха.
А поэт Пушкин, написав это, думает: а что если сейчас храбрый офицер, командующий войсками, посулит отмену крепостного права я выступит против правительства? Будет пи назревающее восстание декабристов поддержано мнением народным? Будут ли царские генералы с восставшими? Почему бы и нет? Генерал Ермолов, адмирал Мордвинов втайне сочувствовали — заговорщикам. И в пьесе Басманов, полководец Годунова, а затем Федора, склоняется на доводы боярина Пушкина присягнуть пока не поздно Самозванцу.
Далекий предок поэта, выведенный в трагедии, безоговорочно на стороне «бунтовщиков», и Годунов бросает по его адресу:
Противен мне род Пушкиных мятежный… К этому роду с гордостью причисляет себя и сам поэт. Не случайно вводит он в трагедию своих собственных предков. Тут, по верному замечанию виднейшего нашего пушкиниста Д. Д. Благого, особый расчет: дать возможность читателям услышать собственный голос поэта без какого-либо нарушения исторической правды.
Да, сердцем поэт, как и его предки, всегда на стороне мятежа. А спокойный, трезвый, аналитический взгляд на историю ему говорит, что мятеж — это кровь, насилие, многие человеческие жизни. И часто ли мятеж оканчивается успехом?
Как отвечает на этот вопрос Пушкин своим «Борисом»? Мнение народное произнесло свой приговор над Борисом Годуновым, убийцей царевича Димитрия, произнесло устами юродивого:
… нельзя молиться за царя Ирода…
Но и тот, который воспользовался именем Димитрия и стал орудием возмездия, орудием суда истории, запятнал себя детской кровью. Да здравствует царь Димитрии Иванович! — Народ молчит. И в этом молчании вновь слышится «Клии страшный глас».
В рукописи «Бориса Годунова», оказывается, есть пушкинский рисунок, изображающий пьедестал памятника Петру: скала, на ней вздыбленный конь, но Всадник отсутствует. А текст трагедии при этом такой:
Басманов
Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызет свои бразды…
Но что ж? конем спокойно всадник правит…
Царь
Конь иногда сбивает седока… Символика многозначительная.
Преобразовав русский поэтический язык, совершив революцию в драматургии, Пушкин все чаще задумывался теперь о путях развития отечественной художественной прозы. Он полагал, что проза русская значительно отстает от поэзии. И если «русская поэзия достигла уже высокой степени образованности», то «проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке она принуждена создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны».
2. Александр Пушкин, как гениальный прозаик
Хотя Н. М. Карамзин и дал образец художественной и исторической прозы, попытался оживить мертвый парадный язык писателей XVIII века живым человеческим чувством, но это было только началом. К тому же Пушкина не устраивало стремление Карамзина пересадить на русскую почву английский и французский сентиментализм.
Уже в 1822 году Пушкин подверг резкой критике манеру писать,"с ужимкою", которая стала модной и заполонила журналы. Считалось, что негоже литератору упомянуть слово дружба, не прибавив: «сие священное чувство, коего благородный пламень…» Должно бы сказать: рано поутру, а писатели высокопарно изрекали: «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Театральный рецензент бойко выводил: «сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апполоном…» «Боже мой! — восклицал Пушкин, приведя эти строки.— Да поставь: «Эта молодая, хорошая актриса — и продолжай…»
И далее Пушкин сформулировал собственное кредо: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения пи к чему не служат».
Уже в «Борисе Годунове» поет, по его собственным словами в некоторых Сценах унизился до презренной прозы". Следующую попытку он предпринял в 1827 году, начав писать «Исторический роман» из эпохи Петра Первого. Роман остался незаконченным, к великому сожалению: ибо. те главы, которые до нас дошли, обещали прозу удивительную — по изображению исторической эпохи, нравов того времени, облика Петра, его приближенных. Все это подано Пушкиным сочно, ярко и вместе с тем лапидарно, с «неслыханною простотой» языка, и обилием «мыслей и мыслен». Здесь зрелый пушкинский историзм вылился в подлинно реалистическое — уже без прикрас романтизма — содержание.
Очевидно, недостаток имевшегося у пего исторического материала об эпохе Петра заставил Пушкина прервать работу над этим романом. Через три года он обратился к иной прозе — непритязательной, бытовой, житейской.
Знаменитая болдинская осень 1830 года знаменита не только интенсивнейшей творческой вспышкой пушкинского гения она поражает: не только количеством написанного за столь краткий срок. Этой осенью с Пушкиным случилось нечто неожиданное для всей читающей России: это появление Пушкина как прозаика — автора повестей. Им были в сентябре— октябре написаны и через год опубликованы «Повести Белкина».
Пушкин — прозаик? Поэт, «любимый небесами», — в «презренная», «низменная» проза? Было чему удивляться!
«Повести Белкина» встретили недоуменно, прохладно и разочаровано. Пушкин «исписался», кончился как поэт, он даже посовестился подписать повести свопы именем и скрылся за вымышленным Белкиным! Даже Белинский — проницательнейший Белинский— сказал (уже после смерти поэта), что «эти вести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина».
Сам Пушкин, будучи «взыскательным художником», самый безжалостным критиком Собственных произведений, отнюдь не стыдился «Повестей Белкина», Выдавая их за якобы найденную чужую рукопись, он следовал довольно распространенному в то время литературному приему и ее думал отказываться от авторства. В письме к Плетневу он просил «шепнуть книготорговая Смирдину его имя» с тем, чтобы тот «перешепнул покупателям».
Зачем же понадобился Белкин? Случаен ли он? Думается, что нет. Белкин с его бесхитростной типичной биографией мелкого помещика нужен автору, чтобы естественнее воспринимался бесхитростный, простодушный, почти наивный стиль повестей, похожий на краткую запись устного рассказа бывалого человека. Такой стиль Пушкин осваивал сознательно. Ему претили многословные, пошло-болтливые, велеречивые романы и повести, расплодившиеся вдруг во множество и заполонившие литературу (Булгарин, Загоскин, Брамбеус-Сенковский и другие). Пушкин боялся этого словесного наводнения и хотел выставить ему заслон: указать русской литературе иную стезю, направить ее в иное русло.
Когда знакомый Пушкина П. И. Миллер поинтересовался у поэта, -кто такой этот Белкин, Пушкин ответил: «Кто бы он там пи был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно». Тут, конечно, и высказалось литературно-художественное кредо Пушкина.
Как, ни странно, писать так русская литература тогда не умела. «Повести Белкина» были маленьким уроком, который мастер давал идущим за ним. Это похоже на урок режиссера, когда тот, останавливая игру актеров, поднимается на сцену и показывает, в каком ключе надобно работать. Ну, а понятливый и талантливый актер может и должен сыграть лучше режиссера.
Так и случилось с русской художественной прозой. «Повести Белкина» явились для нее первой школой мастерства. И Лев Толстой говорил, что повести эти «надо изучать и изучать каждому писателю», «надо не переставая изучать это сокровище». И разве, оглядываясь на путь литературы нашей, не видим органического родства «Повестей Белкина» с новеллами Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова, Куприна, Бунина? Конечно, тут надо вести речь не только о «Повестях Белкина», но о всем художническом опыте Пушкина-прозаика, с его неоконченным «Дубровским», с его «Пиковой дамой», с многочисленными набросками и плацами повестей и романов и, наконец, с «Капитанской дочкой» — вершиной пушкинской художественной прозы. В начале 30-х годов, после кровавого подавления кровавого бунта военных поселенцев в Старой Руссе Пушкин вновь обращайся к «смутным временам отечественной истории. Фигура мятежного Пугачева теперь все более и более его привлекает и завораживает. Тему эту Пушкин в конце концов решает в двух планах. а в качестве профессионального историка в «Истории Пугала», и в качестве писателя в «Капитанской дочке» начала было создано произведение историческое. Пушкин скрупулезно Собирал факты и свидетельства для этого труда. Объездил несколько губерний, где еще помнили Пугачева, где еще были живы люди, его знавшие, где гуляли из уст в уста предания о нем. Все это было записано поэтом-историком и передано потомству с самой строгой объективностью, пунктуальностью и деловитостью. И лишь затем Пушкин обратился к художественному воплощению темы.
Какие великолепные, подлинно русские характеры и типажи зажили в «Капитанской дочке»! Вспомним хоть Савельича, который трогательно, до самопожертвования любит своего молодого барина, любит не как холуй, а по-отцовски, как старший, более умудренный сердцем и опытом жизни.
А Пугачев? Вся повесть освещает его с двух разных я, кажется, несовместных сторон. Пугачев сам по себе, как частный человек, в своих личных отношениях с Гриневым. И Пугачев, как вожак бунтарей, как верховное выражение стихии мятежа, как его олицетворение и его слепое орудие. В первом плане — это смекалистый, по-мужицки умный, проницательный человек, ценящий мужество и прямоту в людях, с душевной щедростью платящий сторицей за добро добром, по-отечески помогающий полюбившемуся ему барчуку в отношениях с невестой. Словом, человек, необыкновенно располагающий к себе. Во втором — палач, безжалостно вешающий людей, казнящий, не моргнув глазом, ни в чем не повинную старую женщину, жену коменданта Миронова. Человек — отвратительный в бессмысленной, кровавой жестокости, фиглярствующий под «государя Петра III».
Действительно, злодей! Но, дает понять Пушкин, злодей поневоле. В «Истории Пугачева» грозный главарь мятежников произносит перед своей казнью примечательную фразу: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство».
Он сам понимает, что хорошо ни, плохо ли, но лишь играл «главную роль», в стихии мятежа и был обречен, как только эта стихия пошла на убыль. Те же самые старшины, которые сделали из него «вожатого», выдали его правительству связанным. И все-таки не был он просто «чучелом» в руках этих старшин. Пушкин показывает, с какой энергией, мужеством, настойчивостыо, даже талантом выполняет «Емелька» выпавшую на его долю роль, как много он делает для успеха восстания. Да, он вызван на историческую арену силою обстоятельств, но и творит эти обстоятельства в полную меру своих возможностей. Он, властвуя над ними, все же в конечном счете всегда оказывается во власти их. Такова угаданная Пушкиным как историком и как писателем диалектика исторического процесса и исторической личности, этот процесс выражающей.
Посылая «Историю Пугачева» легендарному герою 1812 года поэту-партизану Денису Давыдову, Пушкин писал полушутливо!
Вот мой Пугач: при первом взгляде Он в идеи: плут, казак прямой, В передовом твоем отряде Урядник был бы, он лихой…
Насколько Татьяна и Онегин у Пушкина олицетворяли два противоположных типажа русского дворянства, настолько Савельич я Пугачев — диаметрально противоположные типажи русского крестьянства.
Благоразумие, положительность, преданность хозяевам, рассудительность, осмотрительность Савельича, а — мятежность, неистовость, рисковость, непокорность силе обстоятельств у Пугачева. Опять же — положительность, совершенство, духовная гармоничность, цельность Татьяны, и — демон сомнения, неудовлетворенности, -отрицания, искушающий Онегина.
Тот же перепад противоположностей и крайностей видим мы в образах Пимена в Гришки Отрепьева, Кочубея и Мазепы, Старого цыгана и Алеко, Лизы и Германна, Петра из «Медного Всадника» и Евгения.
3. Мятежность в прозе и драматургии выдающегося писателя
В таком широком размахе двух могучих крыльев русской души и характера идет полет пушкинского гения. В столкновении, конфликте начал уравновешенности, устойчивости, консервативности и — мятежности, отрицания, протеста в душе русского человека искал Пушкин ответа на постоянно мучивший его вопрос о путях совершенствования русского общества. Какое из этих начал окажется доминирующим в грядущих испытаниях? Какое одержит верх?
Гринев в «Капитанской дочке», описывая ужасные последствия «пугачевщины», бедствия селений, ограбленных и разоренных дважды — и бунтовщиками и их карателями, пожары, безвиннные жертвы, восклицает, как мы помним: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».
Не подлежит сомнению, что в уста Гринева Пушкин вложил свое собственное искреннее убеждение. Но тут надобно ударение сделать не только на словах «беспощадный русский бунт», но, в первую очередь, на слове «бессмысленный», то есть обреченный на поражение.
Подавление восстания Пугачева, декабристов, бунта в Старой Руссо — вот что вставало перед глазами Пушкина, когда он писал эти строки. Горы трупов, море крови народной, повешенные н засеченные кнутом насмерть, закованные в кандалы и сосланные в сибирскую каторгу, А в итоге — торжествующий Николаи Палкин.
Такой бунт видеть снова — не приведи бог, Но разве вся пушкинская поэзия не была бунтом, призывом к бунту, воспеванием вольности и бунта? Разве не тянуло все время Пушкина к изображению мятежного человек ступающего рамки обыденности, преступающего закон, дерзающего?
Всем творчеством своим, глубинными его мотивами Пушкин конечно, бунтарь, Оп, конечно же, на стороне Пугачева, Стеньки Разина, Дубровского. Он, конечно же, был бы, если б смог: декабря 1825 года на Сенатской площади вместе со своими друзьями и единомышленниками. И разделил бы судьбу Пестеля и Рылеева, либо Пущина и Кюхельбекера.
Судить о взглядах Пушкина на бунт, на революцию следует очевидно, не по цитатам из писем и произведений, не по официальным верноподданническим заявлениям, к которым поэта вынуждали обстоятельства, а всей мерой (и всем безмерием!) его творчества, его личности, Но вернемся вновь к пушкинской драматургии. На «Борисе Годунове» Пушкин-драматург не остановился. Он предпринимая новый неслыханно смелый эксперимент, новый литературный подвиг, а в этом жанре.
Той же «детородной» болденской осенью 1830 года, когда били написаны «Повести Белкина», Пушкин создает и четыре «Маленьких трагедии». Тут — предельный лаконизм, концентрат мыслей, неисчерпаемость содержания при и предельной простоте и ясности формы изложения — поразительны даже для Пушкина!
Каждая из маленьких трагедий — художественное исследование глубинных пластов человеческой психологии: стяжательство, зависть, прелюбодеяние, отношение к смерти. И каждая схватывает определенную историческую эпоху, — характеры, ею порожденные, всю полноту и противоречивость поведения героев.
О них, об этих трагедиях, можно было бы повторить слова П. А. Плетнева, сказанные по поводу «Разговора книгопродавца» с поэтом: — «…Верх ума, вкуса и вдохновения… Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения» Между тем какая свобода в ходе!"
4. «Моцарт и Сальери». «Пир во время чумы»
Поколения и поколения читателей и исследователей наслаждаются этими шедеврами-миниатюрами и пытаются освоить, постигнуть безмерность их содержания, О них написаны сотни статей, исследования, монографии, а глубинный смысл их по-прежнему неисчерпаем.
Коснемся только двух из них: «Моцарта и Сальери» и «Пира во врем чумы». Как и во многих произведениях Пушкина, в этих маленьких трагедиях отозвалось что-то глубоко личное, интимное, отразились собственные душевные переживания поэта.
Почему Моцарт вдруг привлек внимание Пушкина?
Расхожее сравнение Пушкина с Моцартом! — «Моцарт поэзии» «моцартианская ясность и простота».. Сравнение затерлось, приелось стало банальным и уже не задерживает вашего внимания как нечто само собой разумеющееся, абсолютно бесспорное, не таящее в себе никаких вопросов и загадок.
А если все же некоторые наивные вопросы поставить? Почему именнос Моцартом сравниваем мы Пушкина? И если б ним, то что действительно роднит музыку великого австрийского композитора с поэзией Пушкина? В самом ли деле только легкость, простота, изящество, безоблачная солнечность?
В таком утверждении была бы двойная ложь: и в отношении Моцарта, и в отношения Пушкина. Разве под лучезарно-гармонической оболочкой пушкинской поэзии не ощущаем мы почти постоянно высокий драматизм страстей человеческих? А Моцарт? Легенда о нем как о «солнечном юноше», как о детски безмятежном композиторе давно уже поставлена под сомнение.
Что у Моцарта кажется при первом восприятии веселеньким, оказывается па самом деле игривым бегом волн над океаном мыслей и чувств. В его мелодиях всегда бесконечность, неисчерпаемость образа, возможность самых различных. интерпретаций, сгусток интенсивнейшего содержания, спрессованного, словно под сверхвысоким давлением, в миниатюрнейшие и лаконичнейшие формы. Не наивная и беспричинная жизнерадостность, а мудрый, жизнеутверждающий оптимизм, прошедший через горнило страданий и закалившийся, окрепший в нем.
Таков Моцарт. Таков и Пушкин, Тайна «загадочности» их творчества скрыта в тайне «загадочности» их личностей.
Филистеры из числа исследователей творчества композитора частенько имели обыкновение противопоставлять музыку Моцарта ему самому, как человеку, недостойному собственных творений, морщили нос, говоря о нем как о «легкомысленном гуляке», пустом балагуре, кторый по случайному капризу природы оказался сосудом гениальности: «гений случайно поселился в пошляке».
Великий поэт, как и великий композитор, всю жизнь ощущал на себе осуждающий взгляд филистеров — «легкомыслен», «безнравственен», «ветреней», «Разве это гений?» «Пустой был человек», — сказал о Пушкине после его смерти Булгарин. И Николай ему вторил. Низость человеческая, будучи не в силах подняться до творений гения, унизить и уничтожить их, — стремится принизить, опошлить и убить его самого. Не об этом ли — а вовсе не только о зависти, как обычно считают, — трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери»?
Монолог Сальери начинается е того, что с удивлением обнаруживает он в себе мучительную зависть, которой раньше не знал. Оп трудным путем, шаг за шагом овладел искусством как ремеслом и «усиленным, напряженным постоянством» достигнул в нем «степени высокой». Оп был счастлив и наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой; также трудами и успехами друзей. Об не знал тогда зависти. Он не завидовал Глюку и Гайдну, хотя и понимал их величие. Сальери сжег свои прежние труды, — бросил все, «что прежде звал, что так любил, чему так жарко верил» — я бодро пошел вслед за Глюком.
Почему же с Моцартом все иначе? Да потому, что за Моцартом «пойти» нельзя, повторить его невозможно, мастерству его обучиться. Здесь не поможет ни кропотливый, усердный труд, ни музыковедческлй анализ, поверяющий «алгеброй гармонию». Моцарт — это не еще одна ступенька по сравнению с Глюком, его орлиный взлет гения. Взлет непостижимый и неповторимый.
Сальери достаточно умен и проницателен, чтобы понять его. Никаких трудов, никаких усилий не пожалел бы он, чтобы последовать за Моцартом. Чего бы он только не дал, чтобы сравниться с ним! Но вот беда — научиться быть Моцартом нельзя.
Разве сам Моцарт достиг высот гениальности учебой, трудами только? Сальери трудолюбивее, усерднее Моцарта. Так где же справедливость? И вот Сальери с горьким упреком простирает руки к небу:
Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет — и выше.
Самое обидное, непереносимое для Сальери, что Моцарт соя своей божественной музыкой человек-то вовсе не величественный, поведения ничем не замечательного, а даже, на его взгляд, предосудительного, легкомысленного: Ты, Моцарт, недостоин сам себя.
Но если «на Моцарта» нельзя выучиться, если гений его недостижим, если и как человек он недостоин подражания, то:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И повой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство?
Нет; оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Тут безошибочный инстинкт ненависти мещанина к гению. Железная логика воинствующей и ханжествующей посредственности.
Как удивительно богат по содержанию этот маленький пушкинский шедевр! Удивительно даже для Пушкина. Гений в общество, гений и злодейство, польза искусства и его высшее предназначение, личность гения я его Создания, сопоставимость и соотносимость гениальности его творений. А также — тема предощущения смерти, что само становится продуктивным у такого человека, отражается в его творчестве, звучат в его «Реквиеме», который Моцарт пишет самому себе.
Это удивительное проникновение Пушкина в Моцарта, в тайну его творчества и его личности, в трагедию его жизни — не говорит ли ужо о поразительной духовной родственности двух великих людей?
Жизнерадостная поэзия Пушкина? Да! Но и трагическая поэзия Пушкина! Душераздирающая боль Пушкина! Можно ли не ощущать, на слышать ее? От того только, что боль эта выражается с суровой мужской сдержанностью, е улыбкой сквозь слезы, а не С расхристанной истерией, нес намеренной аффектацией, не с заламыванием рук?
Тема смерти появляется в стихах Пушкина обычно внезапно, среди беззаботного веселья, влюбленности, дружеского общения, Совсем как у Моцарта в пушкинской трагедии!
Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
Внезапный мрак иль что-нибудь такое…
«Виденье гробовое» появляется также и в «Пире во время чумы».
Тема этой трагедии подсказана обстоятельствам. В России свирепствовала эпидемия холеры. Пытаясь вырваться из окружения холерных карантинов, Пушкин натыкался на дорогах на телеги, груженные трупами. Приходили веста о погибших в Петербурге от холеры, знакомых. Эпидемия подступала к Москве. Пушкин беспокоился за невесту, за друзей, отчаянно рвался к ним.
И вот в этой обстановке под его пером рождается хвалебный гимн смерти — строки, кажется, кощунственными сатанинским Итак, — хвала тебе, Чума!
В трагедии Чума является за своей богатой жатвой и стучит в окошки могильной лопатой. А Вальсингам с приятелями и приятельницами в это время хочет забыться от ужасов опустошении, от «воспоминаний страшных».
Они, но предаются скорбным стенаниям и молитвам о спасении души. Они весело пируют.
Они хотят встретить смерть не постно — смиренными ее рабами, а озорным хохотом и звоном бокалов. Они бросают дерзкий вызов смерти, смело идя ей навстречу, заглядывая через край бездны и испытывая свою судьбу;
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
По поводу этих строк Марина Цветаева сказала: «Языками пламени, валами океана, песками пустыни — сеем чем угодно, только не словами написано.
И эта заглавная буква Чумы, чума уже не как слепая стихия— как богиня, как собственное имя и лицо Зла".
В «Пире» словно звучит вторая часть моцартовского «Реквиема» — тема «страшного суда», черной чумы, пожирающей тысячи жизней.
Чума в гимне Вальсингама — не эпидемия только, она «царица грозная», она умножает и расширяет свое «царствие». Она — символ Зла. Символ зачумленной России, по которой катит телега с «лепечущими» мертвецами, а «ужасный демон" — …весь черный, белоглазый» зовет в тележку все новые и новые жертвы.
Разве 14 декабря 1825 года Россия не оказалась обезглавленной и будто действительно зачумленной? Разве цвет поколения не был погублен? Одни — повешены, другие — в сибирских как рудниках, третьим — просто заткнули рот и лишили возможности действовать. Четвертые — оказались ренегатами и сами теперь были на услужении у Чумы, ища новых жертв.
«Что же это, наконец, за чудовище, зазываемое Россией, — восклицал Герцен, — которому нужно столько жертв…» В утешение он как раз ссылался на Пушкина: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением».
Да, утешением — в тон смысле, в каком утешением был гимн Вальсингама на пиру во время Чумы. Все творчество Пушкина, вся его звонкая и широкая песнь была гимном во время Чумы.
«Что делать нам? И чем помочь?» Не падать духом, отвечает поэт своей маленькой трагедией, ибо весть упоение в бою", смело смотреть в глаза опасности, ибо в мужественном поединке с «гибелью» «бессмертья, может быть, залог». Смертельная опасность — испытание духовной стойкости и потому для сердца Смертного таит «неизъяснимы наслажденья».
Заключение
Творчество Пушкина не могла не отозваться болью на духовное удушье николаевской Росси. В «разъяренном океане» жизни Пушкин был хорошим пловцом, но он не мог не чувствовать, что эта бездонная пучина угрожает и ему «Средь грозных волн и бурной тьмы», что он «бездны мрачной на краю», что, он — одна из следующих жертв, за которой явится с могильной лопатой «Чума», что его манит пальцем «ужасный демон белоглазый»:
И мниться очередь за мной…
Так напишет он осенью 1831 года.
Пушкин был убит на 38-м году жизни, оставив нереализованными множество литературных замыслов и начинаний. Нет сомнения, что как прозаик, драматург, историк он только разворачивался. В его бумагах — планы и отрывки романов, повестей, рассказов, так и оставшихся ненаписанными или незаконченными. Сохранились, в частности, материалы к грандиозной по замыслу истории Петра Первого. Если бы Пушкин закончил это исследование, то он, думается, непременно вновь обратился к роману «Арап Петра Великого» в подарил нам завершенный шедевр.
Мощь его поэтического гения достигла подлинной зрелости и мудрости, и он готов был совершить еще многие и многие литературные подвиги. А прозаическое и драматическое дарования так и не раскрылись в полной мере.
1. Криштоф Е. Пушкин. — М.: Армада, 1997. — 512 с.
2. Лотман Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи//Пушкин. Статьи заметки. Ю. М. Лотман. — М.: Вагриус, 2008. — 448 с.
3. Маймин Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество. — М.: Наука, 1982. — 208 с.
4. Пушкин в воспоминаниях современников. — М.: Захаров, 2005. — 912 с.
5. Слуцкая С. Г. Пушкин. Исследования и интерпретации. — М.: ЛКИ, 2008. — 608 с.
6. Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. — М.: Советский писатель, 1984. — 368 с.