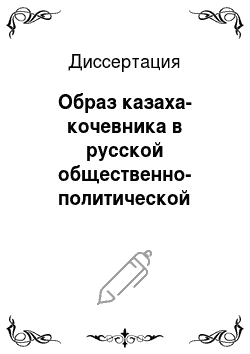Актуальность темы
Изучение образа одного народа в сознании другого всегда имело большое значение для международных контактов, поскольку помогало преодолевать сложившиеся в обществе негативные стереотипы и предрассудки через демонстрацию их истоков. Несмотря на рост межкультурного взаимодействия и распространение лояльности в отношениях между нациями, это актуально и в наши дни, поскольку формирование определенного образа «Другого» свойственно всем играм с ментальными картами, чреватыми «искушением ранжировать, уничижительно обобщать, формировать негативный образ иного ради достижения собственных политических целей и удовлетворения собственного, очень часто сопровождаемого комплексом неполноценности тщеславия"1.
Кроме того, исследование образа казаха-кочевника в русской общественно-политической мысли вносит вклад в развитие методологических подходов к изучению тем схожего характера. Несмотря на то, что исследовательский интерес историков к образу чужой страны или чужого народа постоянно растет, однако все еще нет единства взглядов по поводу понятийного аппарата и научно-исследовательского инструментария, который позволил бы наиболее эффективно выявлять и характеризовать этот образ, фиксировать его взаимосвязи внутри породившей его культуры и эпохи. Данное исследование предлагает один из вариантов методологии работы с образом «Другого», который учитывает особенности его формирования и бытования в разных слоях общества, у / факторы и направление эволюции его основных черт, а также его взаимосвязи с историческими, философскими и политическими взглядами современников. Речь идет, прежде всего, об использовании теории ориентализма Э. Сайда применительно к историческому опыту Российской империи, о чем идут активные дебаты, как в отечественной, так и в зарубежной историографии.
1 Миллер А. И. Предисловие // Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 10.
В общественно-политическом плане исследование имеет значение для текущих русско-казахских отношений, поскольку помогает преодолеть некоторые устоявшиеся стереотипы в отношении казахов через демонстрацию их истоков. Это позволяет сделать отношения современных русских и казахов более открытыми, дружественными и доверительными.
Степень изученности темы. Появление исследовательского интереса к образу «Другого» было обусловлено возросшим вниманием к личности человека и ее различным проявлениям, в том числе, специфическим субъективным и коллективным переживаниям и рефлексиям. В отечественной исторической науке этот интерес наиболее ярко обозначился лишь в 90-е гг. XX века. Более ранние исследования образа или представлений носили, как правило, историографический характер, а их авторы сосредотачивались в основном на проблеме соотношения образа и реальности, выявлении причин и форм искажения реальности в образе. Особенностью же работ, посвященных восприятию русскими казахов и казахской степи, было еще и то, что их авторы почти всегда ограничивались узким кругом источников, что было связано с их стремлением исследовать позицию какой-то одной определенной группы носителей представлений о регионе и его жителях.
Из диссертационных работ ближе всего к нашей теме исследования М. К. Бижанова и И. В. Ерофеевой, которые сосредоточили внимание на том, что и как писали о казахской степи русские ученые и путешественники в XVIII — первой половине XIX в2. Авторы этих работ главным образом занимались выявлением различий между восприятием казахской степи русскими наблюдателями и действительной ситуацией в регионе. При этом особое внимание обращалось на то, как дореволюционные авторы писали о причинах и ходе процесса вхождения казахской степи в состав России, как оценивали уровень экономического и социально-политического развития региона. Что касается других диссертационных исследований, то следует отметить еще работы B.C. Толочко, В. Н. Алексе.
2 Бижанов М. К. Казахстан второй четверти XVIII века в трудах и записках русских исследователей. Автореферат дисс.канд. ист. паук. Алма-Ата, 1967; Ерофеева И. В. Казахстан второй половииы XVIII — первой половины XIX вв. в трудах и записках русских ученых и путешественников. Автореферат дисс.канд. ист. наук. Алма-Ата, 1979. 4 енко, Е. С. Сыздыковой и М.К. Мукатаевой3, однако все они затрагивают лишь один аспект восприятия русскими региона казахской степи, а именно — его исторического развития. Диссертация B.C. Толочко была посвящена исследованию того, как историю казахов XIX в. освещала русская военная периодическая печать. В. Н. Алексеенко попытался посмотреть, как об истории Средней Азии и казахской степи писали русские дореволюционные журналы второй половины XIX — начала XX вв. Е. С. Сыздыкова сконцентрировала внимание на том, как писали казахскую историю XIX в. офицеры российского Генерального штаба. JI.K. Мукатаева сосредоточилась на личности Г. Е. Катанаева и попыталась исследовать его позицию в отношении истории казахского региона.
Определенный интерес в плане изучения русского образа казахов представляет работа историка литературы филолога М. И. Фетисова «Первые русские повести на казахские темы» (Алма-Ата, 1950). Книга эта посвящена разбору произведений русских писателей В. А. Ушакова, Ф. В. Булгарина и В. И. Даля, в которых, так или иначе, затрагивается казахская тема. В ней содержатся интересная информация о жизни и творчестве забытого ныне писателя В. А. Ушакова, а также некоторые подробности оренбургского периода жизни В. И. Даля. Фетисов показывает особенности романтической и реалистической традиций восприятия и описания кочевников, отмечает характерное для романтизма преклонение перед патриархальностью «диких» народов, стремление русских писателей представить русских и русскую культуру приоритетными по отношению к казахскому народу и его культуре.
Из другой работы Фетисова «Литературные связи России и Казахстана. 30−50-е годы XIX века» (М., 1956) узнаем еще о некоторых в основном малоизвестных русских литераторах, писавших о казахах в первой половине XIX в.
3 Толочко B.C. Проблемы истории Казахстана XIX века в военной периодической печати. Автореферат дисс.. канд. ист. наук. Алма-Ата, 1977; Алексеенко В. Н. Вопросы истории Средней Азии и Казахстана в освещении русских дореволюционных журналов (вторая половина XIX — начало XX века). Автореферат дисс.. канд. ист. наук. Алма-Ата, 1986; Сыздыкова Е. С. Вопросы истории Казахстана XIX века в трудах офицеров Генерального штаба Российской империи. Автореферат дисс.. канд. ист. наук. Астана, 2000; Мукатаева Л. К. Г. Е. Ка-танаев о проблемах истории Казахстана: взаимодействие личности и культуры. Автореферат дисс. канд. ист. наук. Алматы, 2002.
Среди них Н. Муравьев, посвятивший казахам свою романтическую поэму «Киргизский пленник». Этому произведению Фетисов противопоставляет реалистичные по своей сути рассказ «Киргизский набег» и повесть «Якуб-Батырь» А. П. Крюкова. В главе «Петрашевцы и Казахстан» Фетисов попытался показать причины особого интереса М. В. Петрашевского и его политических соратников к Востоку вообще и российским инородцам, в частности. Фетисов объясняет этот интерес главным образом востоковедческой подготовкой и деятельностью этих людей, а также модой на изучение Востока, имевшей место в российском обществе того времени. Фетисов фиксирует особую, характерную для петрашевцев манеру осмысливать отношения России со своими инородцами, то есть представлять их скорейшее приобщение к русским и русской культуре в качестве их единственного спасения. Такой подход был особенно характерен, по утверждению Фетисова, для самого М. В. Петрашевского и поэта А.П. Баласог-ло. Этих же позиций, но уже в отношении конкретно казахов, утверждает Фетисов, придерживался и поэт А. Н. Плещеев, деятельности которого в Казахстане советский автор посвятил отдельную главу.
Монография Е. С. Сыздыковой «Российские военные и Казахстан"4 посвящена тому, как офицеры российского Генштаба освещали вопросы социально-политической и экономической истории региона казахской степи. Так, рассматривая проблему освещения российскими военными темы присоединения казахского региона к Российской импеии, Сыздыкова отмечает, что авторы-офицеры стремились, как правило, подчеркнуть факт добровольности и неизбежности этого процесса. Кроме того, для них была характерна в целом европоцентристская манера подачи материала, выражавшаяся в стремлении описать движение России на Восток как движение «в пустоте, по землям никому не принадлежащим», среди диких, грубых и коварных дикарей. Отдельную главу Сыздыкова посвятила оценке российскими военными ряда важнейших политических инициатив России в Казахстане, включая реформы 1820-х гг., хивин.
4 Сыздыкова Е. С. Российские военные и Казахстан: (Вопросы социально-политической и экономической истории Казахстана XVIII — XIX вв. в трудах офицеров Генерального штаба России). М., 2005. ский поход 1839 г. и другие походы в казахскую степь российских войск, строительство русских укреплений в казахской степи и ее казачью колонизацию и, конечно, реформы 1867−1868 гг. Интересно, что все эти мероприятия, согласно исследованию Сыздыковой, получили однозначно положительную оценку большинства дореволюционных авторов-военных, поскольку закрепляли права России в Центральной Азии и готовили базу для ее дальнейшего административного, правового и военного продвижения вглубь региона. Что касается движений протеста в казахских степях, то Сыздыкова приходит к выводу, что многие авторы видели их основную причину в характере казахов, которые, как, по их мнению, и всякие кочевники, были воинственны и охочи до наживы. И только те исследователи, которые попытались предпринять действительно глубокий анализ данной проблемы, вроде Н. И. Красовского, писали о мирном характере казахов и указывали в качестве основной причины их волнений на политику России в регионе: ущемление прав казахов на землю, вмешательство в их традиционную судебно-правовую систему и систему управления, введение новых налогов, постоянные воинские поиски русских военных отрядов. Кроме того, Сыздыкова попыталась исследовать мнения российских военных по поводу кочевого образа жизни казахов и нашла, что эти мнения делятся на две основные группы. Одни авторы относились к нему предвзято и считали казахов-кочевников лентяями, не способными к тяжелому земледельческому труду. Такое отношение их к кочевникам было обусловлено, по утверждению Сыздыковой, убеждением в несовместимости кочевого быта с цивилизацией. Другая же более внимательная и научно ориентированная группа авторов оспаривала точку зрения первой группы и доказывала, что кочевание это тот же труд, обусловленный специфическими природно-климатическими условиями в казахской степи. Далее Сыздыкова рассматривает отношение военных к крестьянской колонизации казахской степи и связанной с ней проблеме се-дентаризации казахов-кочевников и показывает, что точка зрения на эти вопросы была во многом обусловлена политической ситуацией в крае, стремлением к скорейшему закреплению за Россией новых территорий.
Из статей, посвященных восприятию русскими Казахстана и выходивших в разное время, укажем работы B.C. Толочко, И. В. Ерофеевой, Ж.К. Касымбае-ва, Н. Э. Масанова, К. И. Кобландина, которые сосредоточили свое внимание на том, как русские дореволюционные авторы писали об историческом и социально-экономическом развитии Казахстана5. На том, что русские до революции писали по поводу вхождения Казахстана в состав России и русско-казахских отношениях сконцентрировались тот же B.C. Толочко, а также Ж. Макашев и В.Н. Алексеенко6. Т. Беисов попытался проанализировать характер оценок, которые давали казахам русские писатели Т. Г. Шевченко и В. Г. Короленко. Источниковедческий аспект восприятия русскими казахов затронула Е.В. Безви-8 конная .
Особо необходимо отметить статью америкаЕ1ской исследовательницы В. Мартин, посвященную изучению проблемы восприятия казахского обычая под.
5 Ерофеева И. В. Социальные отношения в казахском обществе второй половины XVIIIпервой четверти XIX в. в освещении русских ученых и путешественников // Вестник АН Каз. ССР. 1979. № 12- Ее же. Европейской просвещение XVIII в. и становление научной историографии Казахстана (середина XVIII — первая половина XIX вв.) // Вопросы историографии и источниковедения Казахстана (дореволюционный период). Алма-Ата, 1988. С. 50−86- Ка-сымбаев Ж. К, Масанов Н. Э. Этногенез казахов в освещении русской дворянско-буржуазной и современной историографии советологов // Вопросы истории Казахстана в русской дво-рянско-буржуазной и современной историографии советологов. Тематический сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава вузов Министерства Просвещения Казахской ССР. Алма-Ата, 1985. С. 3−19- Кобландип К. И., Масанов Н. Э., Касымбаев Ж. К. Внутренняя орда в русской дореволюционной историографии // Там же. С. 50−63- Толочко B.C. Вопросы социально-экономического развития Казахстана на страницах журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид» // Исторические науки. Алма-Ата, 1974. Вып. 1.
6 Ачексеенко В. Н. Освещение вопроса «Вхождение Средней Азии и Казахстана в состав России» на страницах журнала «Русский вестник» // Вопросы истории Казахстана в русской дворянско-буржуазной и современной историографии советологов. Алма-Ата, 1985. С. 26−36- Махашев Ж. Проблемы вхождения Казахстана в Россию в дворянско-буржуазной историографии // Проблемы истории русско-казахских взаимосвязей в XVIII — начале XX веков. Алма-Ата, 1980. С. 107−113- Толочко B.C. Проведение в жизнь «Временного положения об управлении в степных областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства» на страницах военной периодической печати // Исторические науки. Сборник статей. Алма-Ата, 1975. Вып. 2- Его же. Дореволюционная периодическая печать о вхождении Казахстана в Россию и русско-казахских отношениях // Проблемы русско-казахских взаимосвязей в XVIII — начале XX вв. Алма-Ата, 1980. С. 114−122.
7 Беисов Т. Шевченко и Короленко о казахском народе // Вестник АН КазССР. 1950. № 4.
8 Безвиконная Е. В. Путевые заметки лекаря омского гарнизонного полка Ф. К. Зибберштейна как источник по реконструкции восприятия российским чиновником представителей казахской аристократии // Степной край Евразии: Историко-культурные взаимодействия и современность: IV Международная научная конференция, посвященная 170-летию со дня рождения Г. Н. Патанина и Ч. Ч. Валиханова: Тезисы докладов и сообщений. Омск, 2005. С. 69−73. названием «барымта» самими казахами, а также русскими9. В. Мартин хорошо показывает механизм влияния субъективных представлений на политику и законодательство и, далее, на то, как менялось понимание смысла и целей барым-ты самими казахами.
Как видим, образ казаха-кочевника и казахской степи в русской общественно-политической мысли является темой исследованной очень мало и лишь фрагментарно: в центре внимания исследователей оказывалась либо определенная группа носителей образа (литераторы, военные, ученые, путешественники, журналисты), либо определенные аспекты этого образа (особенности исторического, социально-политического и экономического развития региона казахской степи, проблема вхождения ее в состав России, русско-казахские отношения, специфика традиционного уклада жизни и хозяйственной деятельности казахов-кочевников). Часто эти два ограничения накладывались друг на друга в рамках исследования одного автора. Однако и в советское и особенно в постсоветское время, появлялись работы, посвященные изучению образов других стран и народов, которые представляют интерес, прежде всего, с точки зрения понимания такого феномена, как образ «Другого».
Так, в исследовании Н. А. Ерофеева, посвященном изучению русских представлений об Англии и англичанах, образ другого народа (или «этническое представление» в терминологии автора) понимается как итог усвоенной информации, результат ее переработки и обобщенный вывод из нее. Здесь, считает Ерофеев, разрозненные факты и черты связываются воедино и преобразуются в нечто цельное10. Интересно также рассуждение Ерофеева о том, что этнические образы-представления, как часть ментальпости порождающего их общества, вбирают в себя многие черты общественной психологии, «мы как бы проецируем на них наши идеи, в том числе представления о самих себе, о наших порядках, сопоставляем и оцениваем, исходя из шкалы ценностей, принятой в нашем.
9 Мартин В. Барымта: Обычай в глазах кочевников, преступление в глазах империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 360−390.
10 Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских. 1825−1853. М., 1982. С. 11. обществе"11. В качестве источника реконструкции образа Ерофеев использует печатное слово, куда включает книги, журнальные и газетные публикации. В отдельной главе автор попытался зафиксировать эволюцию представлений русских об Англии и англичанах в рамках указанного периода. Отметим, что для Ерофеева важно, не столько реконструировать интересующий его образ, сколько вскрыть механизмы его формирования, попытаться выявить факторы, влиявшие на искажения английской действительности в русском сознании.
В работе В. Э. Молодякова, посвященной изучению образа Японии в Европе и России, понятие «образ Японии» трактуется как совокупность представлений о Японии, сложившихся за ее пределами, причем безотносительно к «настоящей Японии», это феномен политической, философской и эстетической 1 мысли, культуры, искусства и массового сознания. Налицо более широкое исследовательское поле по сравнению с работой Ерофеева, который считал образ.
1 ^ чужого народа лишь его словесным портретом. Для Молодякова важно не разоблачить «японский миф» (термин автора), не противопоставить его японской реальности, но изучить причины и формы его бытования в европейском сознании. В соответствии с пониманием образа и заявленной целью Молодяков подбирает источники. Помимо печатного слова он вводит в исследовательский оборот произведения искусства, неопубликованные письма и дневники наиболее влиятельных, по его мнению, авторов. Важно, что Молодяков стремится зафиксировать направление эволюции интересующего его образа, выделяя, соответственно, «миф о живописной Японии» и «миф о желтой опасности», и, конечно, учесть особенности восприятия, характерные для жителей отдельных европейских стран, включая Россию, а также специфику восприятия разных авторов.
Что касается других отечественных исследований образа какой-либо страны, территории, народа в русской общественно-политической мысли, то их авторы изначально не ставили перед собой цель реконструкции образа как це.
11 Ерофеев К А. Указ. соч. С. 9−10.
12 Молодяков В. Э. «Образ Японии» в Европе и России второй половины XIX — начала XX века. М., 1996. С. 6−7.
13 Ерофеев Н. А. Указ. соч. С. 7. лостности, выбирая путь исследования представлений какой-либо определенной группы носителей образа14. Как правило, такой методологический подход обосновывался ключевой ролью именно того комплекса источников, которые рассматривал автор, в формировании образа как феномена общественной мысли в целом15. Одной из наиболее удачных в этой группе исследований, на наш взгляд, является работа Н. Н. Родигиной, посвященная образу Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX — начала XX в.16 Автор этой работы не только исследовала особенности восприятия сибирского региона в рамках различных направлений русской журнальной периодики (консервативного, либерального, народнического и др.), но и уделила особое внимание теоретическим проблемам, связанным с понятием «образ региона» и журнальной прессой как институтом формирования и трансляции общественного мнения. Конструктивистский подход, характерный для работы Н. Н. Родигиной, предполагает понимание, что образ региона — это не просто отражение в общественном мнении представлений о регионе, базирующихся на знаниях о нем, но и продукт коллективного воображаемого, который может сознательно конструироваться заинтересованными интеллектуальными или политическими элитами.
В советской историографии и литературоведении присутствовал интерес к изучению особенностей восточной темы в русской художественной литерату.
17 ре, однако о степени влиятельности этого образа на общественное сознание в целом вопрос не ставился вообще.
14 См., например: Катаева-Мак иней Е. В. Образ Испании в записках русских путешественников XIX в. Автореферат дисс.. канд. филол. наук. М., 1999; Буткова Н. В. Образ Германии и образы немцев в творчестве И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского. Автореферат дисс.. канд. филол. наук. Волгоград, 2001; Кубанев Н. А. Образ Америки в русской литературе: Из истории русско-американских литературных и культурных связей конца XIX — первой половины XX вв. Автореферат дисс.. д-ра культурол. наук. М., 2001; Партаненко Т. В. Образ России во Франции XV — начала XX вв. По материалам мемуарных и дневниковых свидетельств. Автореферат дисс. канд. филос. наук. СПб., 2001; Заиченко О. В. Немецкая публицистика и формирование образа России в общественном мнении Германии в первой половине XIX в. Автореферат диссканд. ист. наук. М., 2004.
15 См., например: Белгородская Л. В. Образ Российской империи в зеркале англоамериканских справочно-эициклоиедических изданий XX в. Красноярск, 2006.
16 Родигина Н. Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX — начала XX в. Новосибирск, 2006.
17 См., например: Юсуфов Р. Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в. М., 1964; Его же. Русский романтизм начала XIX века и национальные культуры.
Значительный вклад в понимание образа «Другого» внесли наработки такой дисциплины, как имагология, которая «ставит своей задачей выявить истинные и ложные представления о жизни других народов, стереотипы и предубеждения, существующие в общественном сознании, их происхождение и развитие, их общественную роль и эстетическую функцию в художественном произведении. Она рассматривает образ другого народа, который складывается не только в литературе, но и других «текстах». Но первостепенным ее предметом является все же литература, ибо из всех феноменов культуры доминирующую роль в формировании национального сознания <.> играла литература (по крайней мере, до середины XX в., до расцвета кино, телевидения и других.
1Я средств массовой коммуникации)". В рамках этого направления работали, например, такие исследователи-филологи, как Г. Гачев, С. В. Гладких, С. В. Оболенская, А. В. Кузьмин и др.19.
Что касается зарубежной историографии, то внимания, прежде всего, заслуживает влиятельная работа американского исследователя палестинского происхождения Э. Сайда «Ориентализм», впервые опубликованная в 1978 г. и переизданная в 1990;е гг.20 Автор этой книги попытался реконструировать представления о Востоке, существовавшие на Западе со времени эпохи Просвещения, и даже более того, проследить судьбу этих представлений в совре.
М., 1970; Шифмаи А. И. Лев Толстой и Восток. М., 91-Лобикова Н. М. Пушкин и Восток. Очерки. М., 1974; Каганович СЛ. Русский романтизм и Восток. Ташкент, 1984; Русская литература и Восток (Особенности художественной ориенталистики XIX — XX вв.). Ташкент, 1988.
1 о.
Хореев В. А. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 22−23.
Гачев Г. Национальные образы мира: Курс лекций. М., 1998; Его же. Национальные образы мира. Кавказ. Интеллектуальные путешествия из России в Грузию, Азербайджан и Армению. М., 2002; Его же. Национальные образы мира. Центральная Азия: Казахстан, Киргизия. Космос ислама (интеллектуальные путешествия). М., 2002; Гладких С. В. Этнические стереотипы как феномен культуры: Автореф. дисс.. канд. филолог, наук. Ставрополь, 2001; Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских. М., 2000; Кузьмин А. В. Инородец в творчестве Н. С. Лескова: проблема изображения и оценки. СПб., 2003.
20 Said E.W. Orientalism. New York, 1979 and 1995 (Сайд Э. В. Ориентализм: Западные концепции Востока. М., 2006). См. также переводы отдельных фрагментов: Сайд Э. В. Ориентализм // Искусство кино. 1995. № 8. С. 22−27- Сайд Э. Ориентализм. Послесловие к изданию 1995 года // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 4. С. 33−48- Сайд Э. Восток путешественников и ученых: между словарной дефиницией и живой мыслью // http://strana-oz.ru. Дата посещения: 24 августа 2005 г. менное время. Основываясь, главным образом, на идеях М. Фуко о дискурсе и неразрывной связи знания и власти, а также на концепции А. Грамши о культурной гегемонии, Сайд выстроил собственную концепцию колониальной практики Запада на Востоке и обозначил ее идеологическое наполнение словом «ориентализм».
Вслед за М. Фуко понимая дискурс как собрание утверждений, объединенных вместе обозначением общего объекта анализа, особыми путями артикуляции знания об этом объекте и определенными связями, особенно регулярно.
21 стью, порядком и систематичностью, Сайд определяет ориентализм как способ Запада изображать Восток, базирующийся на том особом месте, которое занимает Восток в европейском западном опыте. Это «режим дискурса с обеспечивающими его институтами, словарем, ученостью, образами, доктринами, даже колониальной бюрократией и колониальными стилями». Это «стиль мышления, основывающийся на онтологическом и эпистемологическом различии между Востоком и (почти всегда) Западом». Это «западный стиль доминирования, ресруктурирования и властвования над Востоком». Это «корпоративный институт, призванный к тому, чтобы обходиться с Востоком — обходиться, делая некоторые утверждения относительно него, санкционируя взгляды на него, описывая его, обучая его, заселяя его, правя им». Это «разработка не только базовой географической дистинкции (мир состоит из двух неравных половинок, Востока и Запада), но также целого ряда «интересов», которые такими средствами, как научные открытия, филологические реконструкции, психологический анализ, ландшафтные и социологические описания, он не только порождает, но и поддерживает. Причем, особо замечает Сайд, ориентализм как дискурс, «никоим образом не находится в прямых отношениях с обычной политической властью, но производится и существует в неравном обмене с различными видами власти — политической (например, с колониальным или имперским истеблишментом), интеллектуальной (например, с господствующими науками, вроде.
21 Никитин М. Д. Колониальное взаимодействие Запада и Востока: Новые подходы к изучению // История. Культура. Общества: Междисциплинарные подходы. Ч. 1. Философия и востоковедение. М., 2003. С. 520. корпоративной лингвистики или физической антропологии, или одной из современных политических наук), культурной (например, с ортодоксиями и канонами вкуса, текстов, ценностей), моральной (например, с представлениями о том, что «мы» делаем такого, что «они» не могут делать или понимать, как.
МЫ")" .
Исходя из этих определений, нетрудно заметить, насколько широкое поле для исследования определил для себя Сайд, включив в него сферы политики, науки, культуры, искусства, морали. Именно поэтому, в процессе работы над книгой ему пришлось проанализировать большое количество самых разнообразных текстов — политических, юридических, исторических, этнографических и литературных. Однако чтобы не утонуть в массе материала, Сайду все-таки пришлось сделать ряд ограничений. Первое ограничение — хронологическое: Сайд берет отрезок времени с XVIII в., то есть с эпохи Просвещения, до наших дней. Второе ограничение — территориальное, которое, во-первых, предполагает, ограничение круга рассматриваемых западных стран (Сайд анализирует только британский, французский и американский опыт на Востоке), и, во-вторых, ограничение ареала рассматриваемых восточных стран исключительно Ближним Востоком, то есть арабо-исламским миром.
Очень важен заимствованный Саидом у М. Фуко и развитый и конкретизированный в «Ориентализме» тезис о неразрывной связи знания и власти, при которой одно не происходит без другого: знание дает рост власти, но и само производится действиями власти. Ориентализм как дискурс конструирует объект знания, названный Востоком, однако такое производство знания оказалось возможным из-за господства Запада над Востоком. В то же время знание, созданное ориенталистскими текстами, стимулировало и оправдывало расширение власти Запада над Востоком, а успех этого процесса подтверждал необходимость и обоснованность такого знания и создавал расширенные возможности для его будущего производства23.
22 Said Е. W. Orientalism. New York, 1979. P. 1−3,12.
23 Никитин М. Д. Указ. соч. С. 520−521.
Особая роль в формировании комплекса ориенталистских идей, по мнению Сайда, принадлежит эпохе Просвещения с характерным для нее стремлением к систематизации и классификации знания. Причем Восток и восточное в этих схемах, как правило, занимали низшие ступени выстроенных иерархий и неизменно оценивались негативно, с помощью стереотипов о присущей восточным людям жестокости, повышенной чувственности, лени, лживости, иррациональности, а восточным обществам — состоянии упадка, насилия и общего разлада.
Не менее важной идеей Сайда было то, что Запад с помощью ориентализма не только конструировал Восток, но конструировал его именно как своего «Другого», вмещавшего в себя все характеристики, считавшиеся незападными, а, следовательно, негативными. Это достигалось описанием Востока через категории «различия» и «отсутствия», например, прогресса, свободы, разума и других свойственных Европе черт. Образ Востока стал как бы зеркалом, через которое Европа определяла, оправдывала и возвеличивала себя24. В связи с этим целесообразно говорить об огромном значении категории «Восток» для формирования европейской идентичности.
Провокационность теории ориентализма не только привлекла к Сайду и его книге повышенное внимание, но и имела следствием критику в его адрес, одним из последних проявлений которой стала дискуссия, организованная в.
25 * 26.
2000;2002 гг. на страницах журналов «Критика» и «АЬ Imperio». Высоко оценивая теоретические и методологические заслуги Сайда, исследователи сошлись во мнении о возможности различных вариаций предложенной Саидом концепции ориентализма в зависимости от конкретной исторической ситуации.
24 Никитин М. Д. Указ. соч. С. 521.
25 См.: Kritika. 2000. Vol. 1. № 4. Русский перевод дискуссионных статей см. в кн.: Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005.
26 «АЬ Imperio». 2002. № 1. Из других работ об Э. Сайде и его теории ориентализма см.: Никитин М. Д. «Ориентализм» Э. Сайда, теория колониального дискурса и взаимодействие Востока и Запада: К выработке нового понимания проблемы // Новая и новейшая история. Вып. 21. Саратов, 2003; Его же. Колониальное взаимодействие Запада и Востока: Новые подходы к изучению // История. Культура. Общества: Междисциплинарные подходы. Ч. 1. Философия и востоковедение. М., 2003. С. 484−527- Березный JI.A. Постмодернизм и проблемы ориенталистики. Заметки об одной дискуссии синологов США // Восток. 2004. № 2−3.
15 лч ло.
Работа М. Тодоровой, а также переведенная в России книга JT. Вульфа — яркие примеры такого подхода. «Балканизм» М. Тодоровой и полуориентализи-рованная Восточная Европа JI. Вульфа — это и есть вариации ориентализма, выросшие на основе исследования отличного от саидовского конкретно-исторического материала. Рассматривая проблему использования теории ориентализма применительно к российскому имперскому контексту, участники дискуссии сошлись во мнении, что при этом должны быть учтены особенности российского колониального опыта, главным образом, территориальная близость метрополии и ее колонизуемых окраин.
В другой своей работе «Культура и империализм», вышедшей в 1993 г. и посвященной вопросу о взаимосвязи империализма с литературой и искусством, Сайд высказывает важную мысль о том, что «подготовка к строитель.
29 ству империи совершается внутри культуры". «Мы имеем, — пишет Сайд, — с одной стороны, изолированную культурную сферу, где, как считается, возможны различные теоретические спекуляции, а с другой — более низкую политическую сферу, где, как обычно полагают, имеет место борьба реальных интересов. Профессиональным исследователям культуры только одна из этих сфер представляется релевантной, и обычно принято считать, что эти две сферы разделены, между тем как они не только связаны, а представляют собой единое целое"30. Еще в своей книге «Ориентализм» Сайд высказывал идею о том, что изучение империализма и изучение культуры должно быть неразрывным образом связано31, поскольку «идея доминирования возникла не сама по себе, а была выработана многими разными путями внутри культуры метрополии"32. Реализуя заявленные положения, Сайд показывает, например, как «британское владычество было выработано и отрефлексировано в англий.
27 Todorova М. Imagining the Balkans. N.-Y., 1997.
28 Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment. Stanford, 1994 (Вульф JI. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003).
29 Said Е. Culture and Imperialism. London, 1994. P. 10.
30 Ibid. P. 66.
31 Said E. Orientalism. P. 12.
Said E. Culture and Imperialism. P. 131. ской новелле", как на вид аполитичные и не касавшиеся темы Востока писатели XIX — XX вв. своими сочинениями легитимировали колониальную империалистическую политику.
Книга JI. Вульфа «Изобретая Восточную Европу» посвящена истории создания региона Восточной Европы в сознании образованного общества Западной Европы. Восточная Европа для Вульфа — это, прежде всего, продукт воображения западных интеллектуалов, манипуляции с которым позволяли достигать желаемых конкретных политических целей. «Игрив ли или философичен интерес к Восточной Европе, — пишет Вульф, — основан он на экстравагантных фантазиях или добросовестной эрудиции, он, как и „ориентализм“, был стилем интеллектуального обладания, а его конечным продуктом был сплав знания и власти, ситуация интеллектуального превосходства, воспроизводившая отношения господства и подчинения. Как и в „ориентализме“, здесь невозможно провести четкую грань между интеллектуальным „открытием“ и превосходством, с одной стороны, и вполне реальным завоеванием — с другой». Как и Сайд, Вульф вводит в исследовательский оборот довольно широкий круг источников, включая записки и воспоминания путешественников, философские и этнографические сочинения, произведения художественной литературы и изобразительного искусства, картографические материалы. Кроме того, исследовательскому анализу подвергаются политические и др. акции стран Западной Европы в регионе Восточной Европы, а также лексические особенности обращений двух выдающихся западноевропейских философов Вольтера и Ж.-Ж. Руссо к российским и польским правителям. Анализируя представления западноевропейских путешественников, Вульф обращает преимущественное внимание на то, какие эмоции они переживали, пересекая воображаемую границу с Восточной Европой, какие образы и фантазии возникали при этом в их головах и как эти образы и фантазии взаимодействовали с действительностью. Выявляя особенности образа Восточной Европы в произведениях западноевропейских писателей, американский автор обращает внимание на общие черты и характер их.
33 Вульф JI. Указ. соч. С. 40. фантазий по поводу региона. Останавливаясь на вопросе о том, каким образом регион Восточной Европы стал появляться на западноевропейских картах, Вульф стремится выявить связь этого процесса с распространенными в обществе представлениями об этой части Европы. В обращениях Вольтера и Руссо к российским и польским правителям Вульф отмечает преимущественно наставнический, поучительный тон. Отдельную главу Вульф посвящает тому, чтобы показать, каким образом западноевропейское образованное общество ранжировало население Восточной Европы, помещало его в рамки различных схем и классификаций, объясняющих ущербность его нравственной природы.
Идеями Э. Сайда во многом проникнута и работа английского исследователя А. Джерсилда «Ориентализм и империя. Северокавказские горцы и грузинский фронтир. 1845−1917 гг."34. Отмечая, что Россия в качестве империи существенно отличалась от европейских колониальных держав (прежде всего, смежностью со своими колониями), Джерсилд исследует влияние романтизма на российскую колониальную практику на Северном Кавказе и рассматривает эволюцию российской картографии этого региона.
Идея Сайда об определяющем значении образа восточного «Другого» для формирования общеевропейской идентичности была развита в книге норвежского исследователя И. Нойманна «Использование «Другого"35. Влияние образа Турции на формирование идеи Европы Нойманн прослеживает начиная со средневековья (здесь действовала, главным образом религиозная оппозиция «христианство / ислам»), через эпоху Возрождения (Турция приобретает образ врага), эпоху Просвещения (появление оппозиции «цивилизация / варварство»), до наших дней (Турция в образе европейского «больного»). Европейская репрезентация России выступает у Нойманна в образах некультурной и не вполне христианской Московии (XVI и XVII вв.), практически равноправной и даже враждебной Европе державы (XVIII и XIX вв.), советской России межвоенного периода (Россия рассматривалась как «сбившаяся с пути» часть Европы) и по.
34 Jersild A. Orientalism and Empire. North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845−1917. McGill-Queen's University Press. Montreal Kingston-London-Ithaca, 2002.
35 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. слевоенного Советского союза, представлявшего политическую угрозу для Европы.
Из других работ иностранных исследователей можно еще отметить работы М. Ходарковского, С. Лейтон, А. Каппелера, Дж. Слокума, Н. Найта, И. На-хо, Р. Уортмана. М. Ходарковский в своей работе, посвященной исследованию особенностей русского восприятия нехристианских народов Приуралья, Сибири и Центральной Азии в XV — XVIII вв.36, выделяет этапы репрезентации нехристианских народов в России, пытается взглянуть на шерть и ясак глазами русских, с одной стороны, и сибирских туземцев, с другой, выявляет соотношение понятий «христианизация» и «цивилизация». С. Лейтон в своей статье о восприятии русскими романтиками кавказских горцев37 приходит к выводу о важности образа другого народа для формирования собственной национальной идентичности, она показывает, как в целом положительный образ кавказских горцев сменяется в течении XIX в. резко негативным и объясняет этот идеологический поворот потребностью империи подчинить Кавказ. В статье А. Кап.
38 пелера о восприятии русскими мусульманских народов, находим интересные мысли о двух традициях (линиях) в отношениях России к мусульманам — агрессивной и прагматической, которые сосуществовали в истории России, а их соотношение постоянно менялось. В статье Дж. Слокума о смысловой трансформации термина «инородцы» в Российской империи39 выявлены этапы этой трансформации и сделан вывод о ее непосредственной связи с колониальной историей России. Н. Найт в своей статье о российском востоковеде и одновременно чиновнике В.В. Григорьеве40, показывает особенности российского ори.
36 Khodcirkoxsky М. «Ignoble Savage and Unfaithful Subjects»: Constructing Non-Christian Identities in Early Modern Russia // Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700−1917. Indiana University Press, 1997. P. 9−26.
37 layton S. Nineteenth Century Mythologies of Caucasian Savagery // Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700−1917. Indiana University Press, 1997. P. 80−100.
38 Каппелер А. Две традиции в отношениях России к мусульманским народам Российской империи // Отечественная история. 2003. № 2. С. 129−135.
39 Слокум Дж. Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 502−534.
40 Knight N. Grigor’ev in Orenburg, 1851−1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Spring. Vol. 59. No 1. Pp. 74−100.
19 ентализма на примере этой довольно незаурядной личности. Работа японского исследователя И. Нахо о взаимных представлениях друг о друге русских и японцев41 основанна исключительно на фольклорном материале. Особый интерес представляет исследование Р. Уортмана, посвященное манере представительства российских инородцев на церемонии коронации российских императоров42, основная мысль автора — о зависимости этой манеры от господствовавшей модели империи, а также рассуждения о широком распространении националистических настроений в русском обществе с середины XIX в.
Среди работ современных отечественных авторов, связанных с изучением образа какой-либо страны, региона или народа, имевшего место в России, следует отметить исследования А. И. Миллера, А. Эткинда, А. В. Ремнева, В. О. Бобровникова, С. Н. Абашина, во многом отталкивавшихся от идей Э. Сайда. И. Миллер попытался, в частности, показать влияние российского ориентализма на формирование наций в Поволжье43. А. Эткинд в одной из своих работ проводит мысль о народническом уклоне российского ориентализма и, в соответствии с этим, выдвигает тезис о преимущественно внутреннем направлении колонизации в России, ориентированной в основном на собственный народ44. А. В. Ремнев в ряде своих работ размышляет над проблемой применения теории ориентализма к российскому имперскому контексту, рассматривает особенности интеграции в состав России Сибири, Дальнего Востока и казахской степи, используя понятие «география власти» для обозначения специфики восприятия правящими кругами территории своего государства45. В. О. Бобровников в од.
41 Нахо И. Взаимные образы русских и японцев (по фольклорным материалам) // Вестник Евразии. 2004. № 1.
Уортман Р. Символы империи: экзотические народы на церемонии коронации российских императоров // Новая имперская история постсоветского пространства (Библиотека журнала «АЬ Imperio»). Казань, 2004. С. 409−426.
43 Миллер А. И. Российская империя, ориентализм и процессы формирования наций в Поволжье // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 293−406.
44 Эткинд А. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio. 2002. № 1.
45 Ремнев А. В. «Крест и меч»: Владимир Соловьев и Вильгельм II в контексте российского имперского ориентализма // Европа: Международный альманах. Тюмень, 2004. Вып. IV. С. 56−78- Его же. Россия движется на Восток: «Знание-власть» и возможности ориснталистско-го дискурса в имперской истории России // Азиатско-тихоокеанские реалии, перспективы, проекты: XXI век / Под ред. В. Н. Соколова. Владивосток, 2004. (Серия «Научные доклады». ной из своих статей показывает влияние ориентализма на образ кавказских горцев, сложившийся в русской литературе, и далее — на политику России на Кавказе, исследователь приходит к выводу, что российский ориентализм в целом был очень похож на западный, однако имел и свою специфику46. С. Н. Абашин в работе, посвященной жизни и деятельности русского исследователя В.П. На-ливкина, хорошо показывает, каким образом ориенталисткий дискурс может сосуществовать и взаимодействовать с другими дискурсами империи — народническим, социалистическим и др.47.
Объектом диссертационного исследования является образ казаха-кочевника, бытовавший в русской общественно-политической мысли конца.
XVIII — первой половины XIX в. Предметом изучения — содержание образа казаха-кочевника, процесс его трансформации, специфика его бытования в разных слоях русского образованного общества в конце XVIII — первой половине.
XIX в.
Цель работы — выявление и характеристика образа казаха-кочевника, выяснение особенностей его формирования и бытования в разных слоях русского образованного общества в конце XVIII — первой половине XIX в. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
• выявить характерные черты и направление эволюции образа казаха-кочевника и казахской степи у русских путешественников;
• выяснить особенности образа казаха-кочевника и казахской степи в русской художественной литературе;
Вып. 1). С. 240−256- Его же. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIXначала XX веков. Омск, 2004— Его же. Российская империя и ислам в казахской степи (60 -80-е годы XIX века) // Расы и народы. М., 2006. С. 238−277- Его же. Степное генерал-губернаторство в имперской географии власти // Азиатская Россия: люди и структуры империи. К 50-летию со дня рождения профессора А. В. Ремнева. Сборник научных статей. Омск, 2005. С. 163−222.
46 Бобровпиков В. О. Ориентализм в литературе и политике на Северном Кавказе // Азиатская Россия: люди и структуры империи. К 50-летию со дня рождения профессора А.В.
Ремнева. Сборник научных статей. Омск, 2005. С. 23−42.
Абашин С.Н. В. Н. Наливкин: «. будет то, что неизбежно должно бытьи то, что неизбежно должно быть, уже не может быть.». Кризис ориентализма в Российской империи? // Азиатская Россия: люди и структуры империи. К 50-летию со дня рождения профессора А. В. Ремнева. Сборник научных статей. Омск, 2005. С. 43−96.
• определить направление эволюции лексических форм в официальных документах российских властей, обращенных к казахам;
• охарактеризовать ряд управленческих и церемониальных практик, применяемых российской властью по отношению к представителям казахской знати и имевших отношение к процессу встраивания казахской аристократии в российскую имперскую иерархию.
Хронологические рамки. Исследование охватывает хронологический промежуток с конца XVIII до середины XIX в. Нижняя граница указанного хронологического периода обусловлена началом активной фазы формирования образа казаха-кочевника в русской общественной мысли, что явилось следствием повышения интереса к казахской степи со стороны русской, главным образом, художественной и публицистической литературы. Верхняя граница хронологического периода связана с завершением в основном процесса политико-административного включения казахской степи в состав Российской империи после введения в действие положения «Об управлении в Уральской, Тургай-ской, Акмолинской и Семипалатинской областях» 1868 г. С этого времени казахи окончательно перестали быть «чужими» для представителей российского образованного общества и, превратившись в «своих», стали восприниматься в общем ряду с другими инородцами в составе Российской империи. Второй рубеж хронологического периода обусловлен также началом перемен в идеологических настроениях русского образованного общества. Активное развитие национальной и цивилизаторской идей с 30−40-х гг. XIX в. привело к тому, что казахи часто становились объектом разного рода спекуляций на националистической почве, русификаторских проектов и инициатив. Хронологические рамки пришлось несколько расширить в третьей главе, где рассматриваются особенности бытования образа казаха-кочевника в лексике и управленческих практиках имперских властей. Это было необходимо, поскольку взаимодействие чиновников с казахами началось раньше, чем они стали объектом внимания российского общества. Это взаимодействие берет свое начало в XVI в., однако активные и систематические контакты имперских властей с казахами фиксируются с 30-х гг. XVIII в., когда хан Младшего казахского жуза Абулхаир принял подданство России.
Методологическая основа диссертации. Вслед за Э. Саидом мы будем понимать образ региона и населяющих его людей не только как результат их отражения в общественном мнении, но и как часть сложносоставного дискурса, характеризующегося наличием устойчивых форм высказываний, утверждений, а также типичных моделей поведения. Образ казаха-кочевника включает в себя совокупность представлений не только о казахах, занимающихся кочевым скотоводством, но и о казахской степи, поскольку последняя, являясь местом их постоянного жительства, воспринималась, как правило, в неразрывной связи с казахами, а казахи в неразрывной связи с ней. Под русской общественно-политической мыслью понимаются, прежде всего, представления и суждения, характерные для русского образованного общества, включая представителей его политической элиты.
Важно иметь в виду, что процесс формирования и бытования образа в общественно-политической мысли не может обойтись без работы воображения, особенно на начальных этапах складывания образа, когда об объекте представлений еще практически ничего не известно. Однако воображение это функционирует далеко не всегда стихийно, обычно оно работает в рамках имеющихся в обществе потребностей, будь то потребность национальной или какой-либо иной самоидентификации, или же чисто политическая потребность завоевания или присоединения той или иной территории. Не исключено также в ряде случаев сознательное конструирование того или иного образа заинтересованными и влиятельными представителями общества.
При подборе источников, решающее значение имело то, что в конце XVIII — первой половине XIX в. на формирование общественно-политической мысли влияние оказывали главным образом литература художественного и публицистического характера, в том числе опубликованные записки и воспоминания путешественников. Так же необходимо иметь в виду определенную зависимость русской общественно-политической мысли рассматриваемого периода от общеевропейских идей и представлений, транслировавшихся на русское образованное общество через европейские книги и журналы.
Понимание образа казаха-кочевника как интердискурсивного образования предполагает необходимость учитывать его непосредственные взаимосвязи со многими сферами жизнедеятельности породившего его общества, среди которых политика, наука, литература, искусство и др. Однако максимально полное выявление этих взаимосвязей требует проработки громадного массива источников самого разного характера. Поэтому в своем исследовании мы посчитали возможным и даже необходимым сделать некоторые ограничения исследовательского поля, сосредоточив внимание на четырех аспектах восприятия русскими казахов и казахской степи — их репрезентации в записках и воспоминаниях русских путешественников, в русской художественной литературе, манере российских властей общаться с ними и поступать с ними в рамках некоторых управленческих и церемониальных практик.
При работе с текстами, понимаемыми нами в соответствии с принципами дискурсного анализа предельно широко (когда имеется ввиду не только письменный текст, но и устное высказывание и даже манера поведения и др.), главное внимание было уделено тому, как и почему казахи представали в их рамках в том или ином свете. Не менее важно было выявить связи каждого конкретного текста с другими текстами внутри определенной группы, жанра и культуры в целом, поскольку именно это позволяет судить о распространенности и обусловленности тех или иных представлений, моделей поведения. В целях выявления эволюции изучаемого образа, связей этой эволюции с идеологическими изменениями в русском обществе использовался историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод применялся там, где необходимы были сравнения русского образа и русской политики в отношении казахов с представлениями и политикой русских в отношении других степных народов — ногайцев, калмыков, башкир.
Источниковая база диссертации. Использованные в исследовании источники по типу и информативным возможностям можно разделить на следующие группы:
1. Научные, научно-популярные и публицистические произведения, написанные авторами, побывавшими в казахской степи. Эта группа источников позволяет реконструировать представления о казахах российских авторов, которые имели опыт непосредственного восприятия атмосферы казахской степи в ее различных областях, наблюдения за жизнью кочевников и, часто, общения с ними. Подобные произведения позволяют судить о том, как русские путешественники переживали границу России с казахской степью, а также рубеж между казахской степью и территорией среднеазиатских ханств, какие эпитеты и сравнения преимущественно использовались ими в отношении природно-климатических особенностей казахской степи, внешнего облика и культурного развития ее населения. Особый интерес здесь представляют произведения, авторы которых совершили переезд через всю казахскую степь с пересечением русско-казахской и казахско-среднеазиатской границ и затем проделали путь обратно48, поскольку у таких путешественников была возможность делать сравнения природно-климатических особенностей и населения разных областей центральнои среднеазиатского регионов. Необходимость первоначального анализа именно этой группы источников обусловлена большой степенью влиятельности литературы путешествий на общественное мнение в данный исторический период.
2. Художественные произведения на казахскую тему прозаического и поэтического характера. Источники этой группы наиболее насыщены в плане эпитетов, метафор, ярких образов. Вообще художественная литература способна оказать очень большое воздействие на широкие круги общества. Однако анализ художественного произведения требует учета целого ряда факторов, вклю.
См., например: Рынков Н. П. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в киргиз-кайсацкой степи в 1771 г. СПб., 1772- Кайдалов Е. С. Караван-записки во время похода в Бухарин) российского каравана под воинским прикрытием, в 1824 и 1825 годах, веденные начальником оного каравана над купечеством Евграфом Кайдаловым. Ч. 1−3. М., 18 271 828- Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским степям. Алма-Ата, 1966; Небольсин П. И. Рассказы проезжего. СПб., 1854- Макшеев А. И. Путешествия по Киргизским степям и Туркестанскому краю. СПб., 1896- Гейне А. К. Дневник 1865 г. Путешествие по киргизским степям // Гейне А. К. Собр. литер, трудов. Т. 1. СПб., 1897- Гейне А. К. Дневник 1866 года. Путешествие в Туркестан // Там же. Т. 2. СПб., 1898- Верещагин В. В. От Оренбурга до Ташкента. 1867−1868 // Всемирный путешественник. 1874. № 5.
25 чая особенности жизни и творчества автора произведения, специфику того или иного художественного жанра, степень влияния данного произведения на общественное мнение 49. Так, несомненно, что на поэму Н. Муравьева «Киргизский пленник"50 большое влияние оказало произведение А. С. Пушкина «Кавказский пленник». Также как и роман Ф. В. Булгарина «Иван Иванович Выжигин», поэма Муравьева написана в рамках романтической художественной традиции, для которой характерны воспевание «дикости» (патриархальности) и нагнетание чувства опасности. В то же время в произведениях на казахскую тему В.А. Ушакова51, В.И. Даля52, Д.И. Минаева53 и И.И. Железнова54 встречаем более конкретные и реалистичные образы, однако с тенденцией к негативу и сравнениям в пользу русских и русского образа жизни. Определенные затруднения вызывает то, что о некоторых авторах интересующих нас произведений (Н. Муравьев, В. А. Ушаков, Д.И. Минаев) мы практически ничего не знаем, поэтому об истоках возникших у них художественных замыслов приходилось только догадываться.
3. Делопроизводственная документация, нормативные документы и законодательные акты, куда мы включаем указы, грамоты, рескрипты, инструкции, записки, донесения, доклады, отчеты, проекты, письма и др. Эта группа источников является необходимым дополнением первой группы и позволяет наиболее полно реконструировать представления о казахах, бытовавшие у представителей российской власти, причем, как центрального, так и местного уровня. При этом большим подспорьем послужили для нас опубликованные делопроизводственные документы, помещенные в различных сборниках55. При.
49 О специфике художественной литературы и художественного образа см. подробнее во введении к Главе 2.
50 Муравьев Н. Киргизский пленник. Повесть в стихах. М., 1828.
51 Ушаков В. А. Киргиз-Кайсак. Повесть. М., 1830.
Прежде всего, повести «Бикей и Мауляна» и «Майна».
53 Минаев Д. И. Дума на Киргиз-Кайсацкой степи // Библиотека для чтения. 1840. Т. 43. С. 811.
54 Железное И. И. БашкирцыВасилий СтруняшевКартины казацкой жизни // Железнов И. И. Полное собрание сочинений. Т. 1−3. СПб., 1910.
55 См., например: Бекмаханова Н. Е., Зафирова М. А. Хрестоматия по истории Казахстана. Алматы, 1992; Из истории казахов / Сост. Е. Аккошкаров. Алматы, 1997; Казахско-русские отношения в XVI — XVIII вв. Сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1961; Казахско.
26 анализе этой группы источников основное внимание было обращено не только на то, что и как писали о казахах чиновники, но и на то, как они предлагали не основании усвоенного образа поступать с ними. Это позволило зафиксировать i документах, исходящих от российской стороны и адресованных казахам, постепенное нарастание предписательных ноток, и в российских документах в целом — усиление самоуверенности чиновников и пафоса хозяина в казахской степи. Официальные документы также являются очень ценным источников информации относительно использовавшихся русскими в отношении казахоь церемониальных практик.
4. Картографические источники позволили соотнести представления с русско-казахской границе русских путешественников с ее фактической локализацией и визуальным отображением. Кроме того, топографическая плотност! карты региона казахской степи в разные периоды рассматриваемого отрезке времени может выступать в качестве показателя насыщенности и конкретность русского образа этого региона и его жителей в тот или иной период времени Так, если на картах Российской империи XVIII в. казахская степь представлял* собой преимущественно белое пятно с обозначением только крупных рек и гор, а ее обобщенное название звучало как «Степь кочующих киргизов (или киргис-кайсаков)"56, то в XIX в. ее топографическая освоенность постепенно возрастала. К середине 60-х гг. XIX в. она уже была буквально испещрена всевозможными обозначениями и четко делилась на две смежные части: Область оренеп бургских и Область сибирских киргизов. русские отношения в XVIII — XIX вв. (1771−11 867): Сборник документов и материалов. Ал ма-Ата, 1964; Материалы по истории Казахской ССР (1785−1828). Т. 4. М., 1940; Материаль по истории политического строя Казахстана. Т. 1. Алма-Ата, 1960; Прошлое Казахстана i источниках и материалах / Под ред. С. Д. Асфендиярова и П. А. Кунте. Алматы, 1997; Сулей менов Б.С., Басин В. Я. Казахстан в составе России в XVIII — начале XX века. Алма-Ата, 1981 (Приложение).
56 См.: Географические карты и атласы различных частей России. Рукописные и гравированные, иностранные и русские. XVIII в. // ОР РНБ. Эрм., 232- Карта генеральная Оренбургской губернии и смежных с ней мест. 1755 г. //http://kraeved.opck.org. Дата посещения: 6 марта 2003 г.- Российский атлас из 44 карг состоящий и на 42 наместничества Империю разделяющий. СПб., 1792. е-ч.
См.: Карта Киргизской степи Оренбургского ведомства (Приложение к кн.: Мейер JI.JI. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб., 1865) — Карта Области Сибирских киргизо! (Приложение к кн.: Н. И. Красовский. Область Сибирских киргизов. СПб., 1868) или перепе.
5. Произведения изобразительного искусства наиболее наглядно отражают представления о казахах в российском обществе. В плане насыщенности изобразительные образы можно сравнить с образами из художественных произведений. Интересно, что в XVIII в. казахи изображались преимущественно в виде всадников, а в XIX в. диапазон изображений казахов существенно расширяется: появляются образы разных социальных категорий казахов (представителей знати, нищих, женщин-казашек и др.), вместе с возрастанием интереса к этнографическим деталям возрастает и точность их воспроизведения.
Помимо опубликованных источников в работе использованы документы архивов Российской Федерации: г. Москвы (Российский государственный военно-исторический архив), г. Санкт-Петербурга (Российский государственный исторический архив59), г. Омска (Государственный архив Омской области60), а также картографические материалы отдела рукописей Российской национальной библиотеки.
Научная новизна. В диссертации впервые реконструирован образ казаха-кочевника, имевший место в русской общественно-политической мысли конца XVIII — первой половины XIX в. Специальному исследованию были подвергнуты представления о казахах и казахской степи русских путешественников, художественные произведения российских авторов, так или иначе затрагивающих казахские сюжеты, эволюция лексических форм обращения российских властей к казахам, а также церемониальные практики, использовавшиеся российскими властями в отношении казахов. В научный оборот вводится ряд новых источников, которые позволили довольно полно реконструировать предчатка этих карт в кн.: Сыздыкова Е. С. Российские военные и Казахстан: (Вопросы социально-политической и экономической истории Казахстана XVIIIXIX вв. в трудах офицеров Генерального штаба России). М., 2005) — Карта среднеазиатских владений России с прилегающими территориями Российской империи (Приложение к кн.: Галкин М. Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1868).
58 В РГВИА был использован Ф. 400. Главный штаб и подведомственные ему учреждения.
59 В РГИА были использованы Ф. 853. В. В. Григорьев. Ф. 1264.1 Сибирский комитетФ. 1265. II Сибирский комитетФ. 1291. Земский отдел МВДФ. 1409. Собственная е.и.в. канцелярия, а также коллекция печатных записок РГИА.
60 В ГАОО были использованы Ф. 2. Сибирский генерал-губернаторФ. 3. Главное управление Западной СибириФ. 6. Штаб Отдельного Сибирского корпусаФ. 86. ЗападноСибирский отдел Российского географического обществаФ. 198. Коллекция картографических документовФ. 366. Г. Е. Катанаев. ставления русских о казахах и казахской степи, а также по-новому взглянуть на мотивы политики российских властей в регионе.
Практическая значимость работы определяется тем, что ее материалы могут быть использованы для создания обобщающих работ по истории русско-казахских отношений, а также для разработки учебных курсов по отечественной истории, истории международных отношений, для составления специальных курсов и написания специальных исследований по истории Казахстана в составе Российской империи и истории имперского управления степными регионами. Методология работы может быть использована для изучения других народов, входивших в состав Российской империи.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования были представлены на Третьей научной конференции «Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность» (Омск, 2003), Пятой региональной научно-практической конференции «Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории» (Омск, 2004), научной конференции «Проблемы этнического сепаратизма и регионализма в Центральной Азии и Сибири: история и современность» (Барнаул, 2004), Четвертой международной научной конференции, посвященной 170-летию со дня рождения Г. Н. Потанина и Ч. Ч. Валиханова «Степной край Евразии: Историко-культурные взаимодействия и современность» (Омск, 2005). Большое значение в методологическом плане имело участие автора в «Школе молодого автора», организованной редакцией научного журнала «Вестник Евразии» в 2005 г., и публикация статьи в этом журнале. Часть работы выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию, проект, А 04−1.2−339.
Содержание диссертации нашло отражение в 11 публикациях, в том числе восьми статьях, две статьи помещены в научных журналах, рекомендуемых ВАК для публикации основных положений кандидатских и докторских диссертаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Итак, согласно проведенному исследованию, формирование образа казаха-кочевника в русской общественно-политической мысли в конце XVIII — первой половине XIX в. можно разделить на два основных этапа, каждый из которых имел свои особенности.
В XVIII — начале XIX в. казахская степь воспринималась русскими наблюдателями преимущественно как неведомое, чужое и опасное пространство, населенное враждебными казахами-разбойниками, которые нападают на путников исключительно ради наживы. Причем, ключевым понятием в этом ряду было понятие «неведомость», т. е. неизвестность, поскольку и чуждость, и враждебность казахской степи в этот период были обусловлены, прежде всего, отсутствием у русских более или менее точных представлений как о природно-климатических особенностях региона, так и о его кочевом населении. Кроме того, начало вступления на территорию казахской степи всегда ассоциировалось для русских путешественников с пересечением ими административной границы с казахской степью, соответствовавшей Оренбургской и Сибирской линиям русских укреплений. Именно после преодоления этой границы путешественников неотвязно начинали преследовать тревожные ощущения. Воспринимать эту границу помогала ее тесная привязка к местному рельефу, преимущественно к руслам рек.
С 20-х гг. XIX в. казахская степь в глазах русских наблюдателей постепенно начала утрачивать статус неизвестного края. Это было связано с заметным увеличением количества публикаций о ней, в том числе и специальных работ об этом регионе и его населении. Тем не менее, степь казахов-кочевников по-прежнему воспринималась путешественниками в качестве чужого и опасного пространства, населенного дикими казахами-разбойниками. Анализ семантического наполнения понятия «дикость» в записках и воспоминаниях русских путешественников позволяет утверждать, что в конце XVIII — 30-х гг. XIX в. характеристика казахов как дикарей предполагала две основные составляющие. С одной стороны, казахов называли дикими за то, что они были разбойниками.
215 хищниками"), враждебно настроенными по отношению к русским, с другой стороны, за то, что они были необразованны («невежественны») в глазах русских. Мнение о дикости казахов-кочевников дополнялось представлениями об отсутствии у них государственности, письменного законодательства, развитых политических институтов, оживленной ремесленной и торговой деятельности, бытовой неустроенности кочевого образа жизни, якобы свойственных казахам неопрятности и чрезмерном суеверии. Такой образ казахов имел следствием то, что русские наблюдатели не были склонны причислять казахов к цивилизованным народам и относили их к варварской ступени развития человеческого общества. Эта позиция в отношении казахов вполне соответствовала представлениям о диких и варварских народах, свойственных философии европейского Просвещения и влиятельным конструкциям эволюционизма.
Романтические репрезентации казахской степи и казахов-кочевников в русской художественной литературе 20−30-х гг. XIX в. в целом совпадали с их образом у русских путешественников, имевшим место в конце XVIII — начале XIX в. В произведениях писателей-романтиков образ казахской степи также пропитан семантикой чужого и опасного пространства, а населяющие его кочевники метафорически соотносятся с образом диких разбойников, нападающих на всякого путника ради наживы. Кроме того, сентенции о дикости казахов русские авторы дополняли утверждениями о якобы присущей казахам жестокости, и демонстрировали это на примере их манеры обращаться с невольниками.
Интересно, что в рассмотренных романтических произведениях казахская тема оказывается композиционно связанной с темой рабства. Дело в том, что тема рабства, как хорошо показал в своей книге J1. Вульф, традиционно пронизывала восточные сюжеты европейской литературы. Подчеркивая склонность азиатов к рабовладению, европейские писатели противопоставляли им свое, как они считали, свободное общество. Особенно показателен в этом плане роман Ф. В. Булгарина «Иван Иванович Выжигин», в котором тема рабства пронизывает все восточные сюжеты — казахский, среднеазиатский и турецкий.
Пафос превосходства, выражавшийся в литературе путешествий в оценочной характеристике казахского общества как варварского, невежественного,.
216 у писателей-романтиков проявлялся в акцентировании превосходства русского героя над казахами. У Н. Муравьева это находит отражение в подчеркивании физического превосходства русских казаков над казахами, демонстрации моральной власти русского казака Федора над юной казашкой Баяной, что приводит в последствии к ее полному подчинению через крещение и замужество. У Ф. В. Булгарина превосходство русского героя Ивана Выжигина заложено в большей степени его благородства и великодушия по сравнению с казахским султаном Арсаланом, а в турецком сюжете произведения — даже в большей ловкости Ивана.
Начало второго периода формирования образа казаха-кочевника в русской общественно-политической мысли падает на 30−40-е гг. XIX в. С этого времени казахи постепенно перестают восприниматься в качестве враждебных русским. Правда их все еще называли дикарями, однако эта характеристика указывала лишь на их необразованность («невежественность») в глазах русских наблюдателей. Вместе с тем, оценка уровня развития казахов стала вплотную связываться русскими путешественниками с тем, насколько кочевники усвоили элементы русской культуры. Цивилизация казахов стала казаться возможной только при условии их обрусения. В связи с этим обозначилась тенденция к иерархичному восприятию казахской степи и ее населения. Если прилинейные казахи получали однозначно положительную оценку за усвоение начал русской общественной жизни, то дальние кочевники все еще подвергались критике за сохранение патриархальных, традиционных устоев.
Реалистические образы казахской степи и казахов-кочевников, впервые появившиеся в русской художественной литературе в 30-х гг. XIX в., отличались от романтических большей подробностью и насыщенностью, а оценочные характеристики еще больше сблизились с оценками, которые давали казахам русские путешественники. В произведениях русских писателей-реалистов край казахов-кочевников предстает обычно в качестве однообразного и тоскливого, безжизненного и бесплодного, безбрежного и необозримого пространства. Население же казахской степи рисуется в образе грубых, невежественных и жестоких дикарей, как правило, враждебно настроенных по отношению к русским.
А если и случались счастливые исключения из этого правила, то всем своим положительным содержанием эти герои были, в конечном счете, обязаны интенсивному русскому влиянию через образование на русских началах или просто близкое общение с русскими. Особенно показателен в этом плане образ Бикея — главного героя повести В. И. Даля «Бикей и Мауляна». Автор повести специально подчеркивал те качества характера и мировоззрения своего казахского героя, которые роднили его с русскими. Понятно, что эти качества, в ряду которых смелость, бойкий ум, самодостаточность, способность любить как раз и составили, по замыслу автора, позитивную сторону внутреннего мира Бикея. В «Думе на Киргиз-кайсацкой степи» Д. И. Минаева приоритет русской цивилизации реализуется в увязывании будущего казахской степи исключительно с перспективой ее освоения русскими переселенцами. Как и у русских путешественников, в русской художественной литературе с середины 30−40-х гг. XIX в., возможность благополучия и прогрессивного развития казахской степи и казахов-кочевников напрямую связывалась с необходимостью их обрусения.
Эти же два этапа формирования образа казаха-кочевника можно заметить в лексических и управленческих практиках, использовавшихся российскими властями в отношении казахов в XVIII — 60-х гг. XIX в. Эволюция этих практик была обусловлена главным образом мнением имперских чиновников по поводу того, насколько территория казахской степи и населяющее ее кочевое население было интегрировано в тот или иной момент времени в состав России. В тоже время присутствовал и момент ускорения российскими властями процесса их интеграции в состав империи на основе уже отлаженной схемы взаимодействия с кочевниками окраинных регионов империи. С другой стороны, значительное влияние на политику российских властей в регионе оказывали идеологические настроения в российском обществе. На начальном этапе подчинения казахов это была ориентация преимущественно на идеалы Просвещения. С 30−40-х гг. XIX в., когда в российском образованном обществе постепенно набирает силу националистические настроения, появляются попытки не столько приобщить кочевников к общеевропейским культурным ценностям, сколько развить в них верноподданнические чувства к России, преклонение перед российскими властями и вообще всем русским через водворение «русской гражданственности».
О том, что русские в XVIII в. ориентировались на заранее заданную схему взаимоотношений с кочевниками, говорит характер переговоров с казахским ханом Абулхаиром в начале 30-х гг. XVIII в., во время которых на него было оказано давление с целью добиться согласия выплаты российской стороне ясака и выдачи аманатов, а также практика присяги. В целом принятие казахов в подданство России было преподнесено им как акт высочайшей милости и благосклонного соизволения российской императрицы.
Эволюция лексических форм, использовавшихся российскими властями в отношении казахов заключалась в сокращении обязательств российской стороны в выдаваемых кочевникам грамотах, нарастании попечительных и повелительных ноток в обращениях русских к представителям казахской знати, использовании все более суровых санкций в случае невыполнения казахами распоряжений российских властей вплоть до тюремного заключения и ссылки в Сибирь, появлении новых типов документов, обращенных к казахам (вначале это были указ и патент, позже — приказ, предписание, инструкция, циркулярное письмо и др.), привлечении кочевников к общероссийским мероприятиям, например, таким, как сбор средств на нужды войны.
Трансформация лексических форм логично дополнялась появлением новых управленческих практик — сначала косвенного, а потом прямого вмешательства во внутренние дела казахских жузов, включая попытки оказать влияние на выборы того или иного хана, разжигание противоречий и конфликтов в казахском обществе, практики утверждения или отстранения казахского хана, назначения ему жалования, разного рода преобразования казахских административно-правовых институтов. Закономерным заключением такой политики стало разделение в 1868 г. территории Младшего и Среднего казахских жузов на области и уезды в соответствии с общероссийской административной практикой и полная русификация высшего и среднего звеньев управления регионом. Представители казахского самоуправления на волостном и аульном уровнях рассматривались русскими уже как обычные чиновники, находившиеся в полном распоряжении вышестоящих русских властей.
Просвещенческий настрой российских властей по отношению к казахам впервые обозначился в 80-е гг. XVIII в., во второй период правления «просвещенной императрицы» Екатерины II (до этого времени было лишь стремление покрепче привязать казахов к России). С этого времени имперская политика в казахской степи стала приобретать окраску попечительской заботы о своих «дикарях» с характерной установкой на их охранение и просвещение. Это нашло свое выражение в таких инициативах российских властей в регионе, как ликвидация ханской власти в Младшем казахском жузе, учреждение Оренбургского Пограничного суда и расправ, административное разделение Младшего казахского жуза на три части, увеличение степени вмешательства в ханские выборы вплоть до публичного заявления о желательности того или иного кандидата. Именно в это время на имя Екатерины II стали поступать предложения о приведении казахов к оседлости, приучении их к кошению сена, земледелию, более совершенному судопроизводству и правильной торговле, а также об открытии больницы и школы для казахов.
В «Уставе о сибирских киргизах» 1822 г. просвещенческий настрой российских властей по отношению к казахам нашел свое выражение во введении в казахской степи уголовного судопроизводства на основе российских законов и закреплении практики поощрения земледелия среди казахов. Довольно отчетливо этот настрой отразился в прокламации, данной западно-сибирским генерал-губернатором П. М. Капцевичем казахам в 1824 г. в связи с введением Устава в действие. Просвещенческий настрой, который проявился в этом документе, прежде всего, в стремлении ликвидировать «вкоренившиеся варварские обычаи», водворить благоустройство, а также доставить казахам возможность пользоваться «безопасным и ненарушимым владением собственностью», дополнялся здесь попечительскими нотками. Последний аспект проявился выражением заботы о благоустройстве, спокойствии и благоденствии казахского народа.
К процессу встраивания казахской знати в российскую имперскую иерархию имела непосредственное отношение практика церемониального взаимодействия российских властей с казахами. Речь идет, прежде всего, о церемонии принятия присяги казахского хана, а затем и старших султанов окружных приказов, и практике поездок представителей казахской знати в российские столицы.
Если в самом начале местом проведения церемонии принятия присяги казахского хана была его собственная ставка, а так называемые «знаки милости», включавшие в себя саблю, соболью шубу и шапку из черно-бурой лисицы, передавались хану лично в руки, то впоследствии эта церемония приобрела ряд новых особенностей. Уже в конце 40-х гг. XVIII в. она трансформировалась в церемонию конфирмации (утверждения) избранного хана. Кроме того, ее стали устраивать сразу же после ханских выборов, что говорит о значительно возросшей к этому времени уверенности российских властей в проведении желаемой ими кандидатуры. Обычной практикой стало присутствие на церемонии большого количества русских войск, которые в антураже постоянно производимых пушечных выстрелов, барабанного боя и грома литавр должны были акцентировать внимание кочевников на величии и могуществе Российской империи и российских властей. Эффект торжественности акта конфирмации дополнялся помпезным вручением новоизбранному хану грамоты и патента, а также возложением (а не вручением, как раньше) на него «знаков милости». В 20-х гг. XIX в. многие черты церемонии конфирмации казахского хана были унаследованы церемонией выборов и утверждения в должности старших султанов окружных приказов Среднего казахского жуза. Эволюция этой практики заключалась в еще большем усилении акцента, сделанного на величии и могуществе Российской империи, в частности, за счет привлечения российской государственной символики — российского государственного герба и портрета российского императора.
В плане эволюции образа казаха-кочевника, имевшего место у российских властей, не менее показательна практика поездок казахской знати в российские столицы. В XIX в. это, прежде всего, практика присутствия представителей казахской знати на коронациях российских императоров, а также их поездки в российские столицы с экскурсионными целями.
Практика экскурсионных поездок казахской знати в российские столицы появилась в середине 40-х гг. XIX в. Интересно, что, задумывая эту практику, имперские власти ставили перед собой цель развить в кочевниках стремление к улучшению степного хозяйства на началах земледелия и промышленности. В то же время ставилась задача внушения азиатским путешественникам мысли о величии и могуществе Российской империи. Однако к середине 50-х гг. XIX в. практика поездок казахской знати в российские столицы уже имела этот воспитательный аспект в качестве превалирующего. Все увиденное казахами в Санкт-Петербурге и Москве должно было стать проводником одной главной идеи — о величии, могуществе и богатстве России. Наряду с русификацией регионального управления и особой манерой организации церемониальных мероприятий, поездки казахской знати в российские столицы должны были способствовать более тесной интеграции казахской степи в имперское пространство России, тогда как просвещенческие проекты XVIII — начала XIX в. преследовали во многом лишь идеальную цель поднятия казахов на более высокий уровень развития.