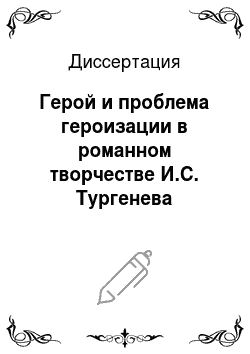В 1911 году выйдет в свет книга, которой с ее знаменательным заглавием — «Героический характер русской литературы» — суждено будет сыграть методологическую роль для «художественно-учительного» направления в советском литературоведении. Тезис С. А. Венгерова, автора этой работы, о героическом своеобразии русской литературы станет для этого направления одним из основополагающих.
Русская литература, как писал С. А. Венгеров, «никогда не замыкалась в сферу чисто художественных интересов и всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительское слово». Для русских писателей характерен беззаветный героизм, отказ от классовых привилегий, «самозаклание», и, соответственно, произведения, которые они создают, учат тому, что «. на каждом человеке лежит обязанность так или иначе искоренять зло мира. надо насаждать правду, надо жертвовать собою для общего блага или вообще для высшей идеи, пошло отдаваться личному счастью». Соответственно и «галерея созданных новейшею русскою литературой типов. сводится к различного рода классовому или личному самоотречению и самопожертвованию. Смотря по среде, это самоотречение принимает либо общественные формы, либо носит характер личного подвига.» [42- 88 — 89].
Разумеется, в советскую эпоху такой подход к литературе предлагал 1 увидеть у всех крупных ее героев так или иначе выраженное соответствие социалистической идеологии. Тургеневские персонажи тоже были удостоены быть причисленными к тем, кто внес достойный вклад в общее героическое дело. Меркам социалистического героического идеала объявлялись соответствующими, хотя и с оговорками, прежде всего такие тургеневские персонажи, как Рудин, Инсаров и Базаров.
Сформировавшийся на базе культурно-исторического метода1 (ярким представителем которого и был С.А. Венгеров) социально-политический подход предлагал рассматривать литературу с точки зрения ее вписанности в конкретно-историческое время с его классовыми столкновениями и идеологическим противостоянием, причем рассматривать, разумеется, не отстра-ненно, а следуя принципу партийности. Присущая этому принципу тенденциозность позволяла, к примеру, слово «нигилист» легко сделать полным синонимом слова «революционер».
Большое внимание советское литературоведение уделяло проблеме типизации в творчестве Тургенева, которая также обсуждалась в перспективе идей социалистического реализма, указывавшего на неслучайность и историческую прогрессивность возникновения таких героев, как Рудин или Базаров. (См., к примеру, Цейтлин А. Г. Роман И.С.Тургенева «Рудин» и др.).
В социально-политическом разрезе и с партийным уклоном обсуждались и тургеневские герои, и тургеневские темы. Если речь шла о теме поколения, то ведущей нитью этого обсуждения становилась мысль о противоборстве ретроградных и передовых сил (о некоторых выходящих за пределы такой методологии работах подробнее говорится в третьей главе диссертации). Ср., к примеру показательное суждение Г. А. Бялого: «Отцы» и «дети» — это не просто люди разных поколений и сторонники разных взглядов, это политические противники" [38- 32], или вывод, сделанный Г. Г. Розенблат: «Базарову противостоят не только. люди старшего поколения, но и многие из молодого поколения, например Аркадий, Одинцова, ее сестра Катя. К лагерю же передовой молодежи относится, в сущности, один только Базаров» [152;
9].
В монографии об «Отцах и детях» В. Ю. Троицкого «Книга поколений» тургеневские романы выстраиваются ступенчатым образом: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860) — эти три тургеневских ро.
1 В духе этого метода были написаны и посвященные литературному освещению (в том числе и на материале тургеневских произведений) русских общественно-психологических типов русской интеллигенции работы Д.Н. Овсянико-Куликовского («История русской интеллигенции») и Иванова-Разумника («История русской общественной мысли»). мана рассматриваются как три шага к самому значительному произведению писателя — книге «Отцы и дети». Такой иерархии соответствуют и тургеневские герои. С точки зрения героического идеала, как полагает В. Ю. Троицкий, Базаров находится на самой высокой ступени. Рудин на нее не поднимается потому, что не может противостоять старому миру: «Его речи. воспламеняли. Но мог ли он, Дмитрий Рудин, противостоять старому миру? Рудин пробуждал сознание, чувство, но вряд ли он мог указать дорогу новому поколению. Он был слишком встревожен, чтобы быть рассудительно-трезвым в оценке времени и в поисках новых путей» [180- 10].
Лаврецкий стоит повыше Рудина потому, что «его одухотворяет не стремление к доблести, а желание быть полезным народу» [180- 11]. Правда, у этого героя есть и существенный недостаток: «Однако открытый и прямой взгляд Лаврецкого на многие стороны мужицкой жизни и судьбу народа оказался практически бесплодным» [180- 11]. Инсаров занимает место еще повыше, но не может оказаться на главном: Инсаров — болгарин, его судьба не связана с Россией. И только лишь в «Отцах и детях», резюмирует В. Ю. Троицкий, появляются «реальные черты нового социально-психологического типа, возникшего в действительности и заявляющего о себе довольно-таки решительно. Этой книге. было суждено стать книгой поколений» [180- 12].
В подобном ключе выстраивается, к примеру, и логика работы Г. Э. Винниковой «Тургенев и Россия». Одна из задач, которую ставит перед собой автор, состоит в том, чтобы показать условия и предпосылки для возникновения в творчестве Тургенева героя нового типа. С точки зрения Г. Э. Винниковой (впрочем, эта мысль представляется по-своему справедливой), Лаврецкого «можно рассматривать как одного из предшественников героев нового типа. Все его качества, «не только резко отличают Лаврецкого от других «лишних людей», но и связывают его с новыми» [46- 153].
На аналогичном основании выстраивает типологию тургеневских героев Г. Б. Курляндская. Она делит их на «романтиков» и «практиков», замечая, однако, что характеристики эти иногда накладываются друг на друга.
Так, «Рудин — типичный представитель дворянской интеллигенции 1840-х годов, погруженной в германскую поэзию и германский романтический и философский мир. Но тургеневский романтик не удовлетворился созерцательным постижением прекрасного, ставил перед собой задачу активного участия в процессах общественной жизни» [92- 22]. Впрочем, как полагает Г. Б. Курляндская, желание действовать вступает в противоречие с натурой созерцателя, поэтому в итоге Тургенев в лице Рудина показал крушение романтического отношения к жизни.
Лаврецкий же, согласно Г. Б. Курляндской, — новый вариант дворянского просветителя, более гармонично объединяющего в себя эстетическое переживание красоты с нравственно-практическими запросами: «Эпохальный тип дворянского просветителя, сочетающий в себе романтическую настроенность с непреодолимой тягой к реальной практической жизни, переживает заметную эволюцию, меняясь в соответствии с фазами общественной истории России 1840 — 1870-х годов» [92- 25].
Конечно, в советскую эпоху было и другое литературоведение, и оно искало иные пути для понимания литературы в целом и творчества Тургенева в частности. В этой связи нельзя не сказать о работе Ю. М. Лотмана «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия». Эта статья представляла такой взгляд на тургеневский роман, который заставлял за злободневным социально-политическим его слоем (тоже, разумеется, присутствующим) увидеть другие, более значимые, планы: архетипический и космический.
Архетипический план раскрывает в новом старое или, вернее, вечное. Типы современности оказываются лишь актуализациями вечных характеров, уже созданных великими гениями искусства. Злободневное оказывается лишь кажимостью, а вечное — сущностью. И если в первом случае сюжет развивается как отношение персонажей между собой, то во втором — как отношение персонажей к их архетипам, текста — к тому, что стоит за ним". С точки зрения космического плана «оба предшествующих бессмысленны.
Своим присутствием он «отменяет» их. Реализуется он как смерть. В тексте его носитель — конец" [100- 343 — 344].
О не отвечающей нормам поверхностного историзма «многослойно-сти» тургеневских произведений говорил еще ранее в своих статьях о Тургеневе и Ю. В. Манн: «Ибо историзм — сложное понятие. Оно подобно корневищу могучего дерева, и если одни его корешки стелются в поверхностных слоях, то другие уходят в глубокие слои почвы. Собственно, тайна жизненности больших произведений всегда состоит в их «многослойности» [103- 106]. И это касается в первую очередь их главных героев.
Так, в тургеневском Базарове Ю. В. Манн увидел такой глубинный слой, который позволил ученому высказаться об этом тургеневском герое как о фигуре вселенского масштаба: «Базарову выпала доля пережить начальную стадию нового и, вероятно, самого мучительного вида отпадения — отпадения от мира, в котором уже нет Бога» [103- 118].
В научной литературе собственно героический аспект в романном творчество Тургенева рассматривался, как правило, в системах координат, где точками отсчета становились две разнополюсные категории — жанр и человек.
В жанровой перспективе исследователей привлекал к себе тургеневский роман, который, с их точки зрения, был наделен новаторскими чертами. Первой в списке важной для нашего исследования работ, в которой проблема романного жанра и проблема героического начала оказались в тесном между собой сопряжении, должна быть названа статья JI.B. Пумпянского «Романы Тургенева и роман „Накануне“ (Историко-литературный очерк)». По сути, эта давняя статья Пумпянского остается и до сих пор единственной работой, в которой проблема романного жанра и проблема героического начала в творчестве Тургенева оказались в тесном и непосредственном между собой сопряжении. И об этом прежде всего свидетельствует то определение, которое ученый дал тургеневскому роману: «Роман „Накануне“, как и все тургеневские романы, принадлежит к особой разновидности этого жанра, которую вернее всего было бы назвать „героическим романом“» [143- 381].
Как полагает Л. В. Пумпянский, отличительной особенностью этого типа романа, имеющего и европейскую традицию, является следующее обстоятельство: «В героическом романе совершается непрерывный суд над лицом, — не над поступками, а над лицом, так что поступки имеют лишь симптоматическое значение. Вопрос идет не о качестве отдельных действий, а об общей социальной качественности героя». При этом Пумпянский считает необходимым особо подчеркнуть, что слово «герой» следует понимать не в «похвальном», а в формально-терминологическом смысле: «Ведь герой в похвальном смысле этого слова есть тот, кто победоносно выдерживает суд жизни над человекомгерой в техническом смысле этого слова есть тот, кто вообще подвергает себя неизвестности этого суда» [143- 381].
Правда, несмотря на категоричность, с которой Пумпянский отказывается от понятия героичности в «похвальном» значении, тем не менее, это значение в его рассуждениях все равно присутствует. Ведь герой, который подвергает себя неизвестности суда не в формально-техническом смысле, а в конкретике своего романного бытия, не может не обрести героического ореола хотя бы потому, что далеко не каждый на такое испытание способен. Это должен быть персонаж, наделенный так или иначе выраженной исключительностью. Так что объективно из рассуждений Пумпянского следует, что герой в «техническом» смысле непременно должен обладать и героическими чертами в «похвальном» смысле.
Эти смыслы сопрягаются еще более тогда, когда Пумпянский определяет особенность тургеневского романа в том, что статус его героя не до конца определен даже и в «техническом» смысле. «Ведь вся особенность тургеневского романа состоит в том, что это не столько роман о герое, как роман о том, является ли герой действительным героем. Если оказывается, как чаще всего у Тургенева, что нет, то весь роман как бы сам себя отрицает в конце, признает отрицательность достигнутого им результата и покидает своего героя „в минуту злую для него. надолго, навсегда“. Перед нами не роман суда над героем как законченным лицом, занявшим определенную, хотя бы неверную, жизненную позицию, а скорее поиски героя и, в каждом отдельном случае, отдельный эпизод в истории этих поисков» [143- 382].
Вытекающее из этих рассуждений еще одно, уточненное, определение героического романа содержит совершенно осязаемое отнюдь не техническое значение. «Только такой роман мы зовем героическим, потому что только в нем проблема героя подавляет все остальное и превращает всех второстепенных лиц, весь бытовой, исторический и психологический материал, даже все события — в жизненный и литературный арьерплан. Итак, героический роман в тесном смысле слова есть роман искомого героя» [143- 383].
Герой, что тоже принципиально важно для Пумпянского, у Тургенева определяется с позиции его социальной востребованности: «Все без исключения романы Тургенева (с присоединением тех его рассказов и повестей, которые явно родственны романам, как „Гамлет Щигровского уезда“, „Дневник лишнего человека“, отчасти „Вешние воды“ и др.) суть романы общественной деятельности, конечно — в самом широком объеме этого понятия, разумея под ним социальную продуктивность человека. Вот почему вместо традиционных полюсов добрый — злой, добродетельный — порочный, положительный — отрицательный, в романах Тургенева (и вообще в чистом героическом романе) полярность инаяпродуктивный — непродуктивный („лишний“ — на неточном разговорном языке). Отсюда видно, что героический роман (т. е. согласно вышесказанному, роман о том, является ли герой действительным героем) может быть с таким же правом назван романом социальной продуктивности» [143- 384].
Некоторые наблюдаемые у Пумпянского неувязки и поправки в определении героя и героического связаны еще и с тем, что ученый рассматривает роман и с учетом исторической поэтики, согласно которой этот жанр не может и не должен оперировать такими категориями, как герой и героическое.
Герой принадлежит эпическому миру. Мир эпопеи — место обитания героя — характеризуется М. М. Бахтиным как мир недосягаемого героического прошлого: «начал» и «вершин» национальной истории, отцов и родоначальников, «первых» и «лучших» [24- 246].
Такой, условно говоря, героический Герой пребывает в полном соответствии со своим миром: «Он завершен на высоком героическом уровне, но он завершен и безнадежно готов, он весь здесь, от начала до конца, он совпадает с самим собой, абсолютно равен себе самому». «Он стал всем, чем он мог быть, и он мог быть только тем, чем он стал» [24- 276].
Отношение автора к недосягаемому для него героическому прошлому и героическому герою может быть только благоговейным отношением потомка. Мир эпического героического прошлого «можно только благоговейно принимать, но к нему нельзя прикасаться, он вне района изменяющей и переосмысливающей человеческой активности» [24- 260]. Иметь возможность быть не просто певцом-сказителем, а творцом, имеющим свою собст венную ценностную позицию, автор обретает тогда, как полагает Бахтин, когда он получает возможность изображать событие на одном ценностно-временном уровне с самим собою и со своими современниками, опираясь и на свой опыт, и на свой вымысел.
В истории культуры обретение автором таких прав знаменует, по Бахтину, совершение радикального переворота, а в мегаистории литературных.
— Г" жанров — «переход из эпического мира в мир романный». В романном мире герой уже не может быть героическим героем [24- 262], а настоящее времягероическим, однако и то, и другое может быть подвергнуто со стороны автора героизации [24- 256 — 257].
Акт героизации, как его обрисовывает Бахтин, тесно сопряжен с «манипуляциями» временем и временной перспективой. У Бахтина выявляются.
2 Для того чтобы не возникало недоразумений и двусмысленностей в дальнейшем, слово герой в «похвальном», «героическом» значении будет писаться с заглавной буквы. три возможных типа героизации: героизация прошлого, героизация героя и героизация современности.
Согласно этой типологии, тургеневская попытка героизации была нацелена на героя и, как это видно из лекций Бахтина по истории русской литературы, не была удачной. Вот, к примеру, что было сказано Бахтиным по поводу Инсарова, героя романа Тургенева «Накануне»: «Это цельный, сильный деятельный человек. Но он ограничен, и эта ограниченность художественно выдвинута на первый план. У Инсарова фантастическая преданность маленькой Болгарии и полное равнодушие к тому, что не имеет отношения к его делу. Цельность здесь куплена ценой ограниченности, узости. Но в результате и Инсаров оказывается накануне: дела своего он не осуществляетон умирает».
Соотнося эти суждения с теми, которые были высказаны Бахтиным по поводу основной лирической темы романа, можно понять, в чем ему видится причина, обрекшая на провал попытку героизации Инсарова: она — в том, что Тургенев не сумел укоренить своего героя в настоящем времени: «Вся жизнь передвинута в героическое будущее, неопределенное и туманное, а настоящее — маята» [23- Т. 2- 220].
Неудачной для Тургенева, с точки зрения Бахтина, была и попытка ге-роизовать Базарова. Базаров «сильный человек, в нем русские непочатые силы. Но с героем, в котором автор увидел силу и которого хочет героизовать, он не может справиться». Не может справиться по двум причинам.
Во-первых, Тургенев занял по отношению к своему герою двойственную позицию («Перед Базаровым все пасуют, пасует, виляет и хочет польстить сам Тургенев, но вместе с тем и ненавидит его»), а, во-вторых, не смог овладеть им: «.существуют произведения, в которых автор не может овладеть своим героем: герой действует сам. Это объясняется тем, что мысль, которую автор вложил в своего героя, начинает логически развиваться, и автор I становится ее рабом» [23- Т. 2- 220 — 221]. В том случае, если герой завлабевает автором, «автор не может найти убедительной и устойчивой ценностной точки опоры вне героя» [20- 21].
В зоне контакта с незавершенной действительностью перед автором с неизбежностью встают проблема границ человека и непосредственно из нее вытекающая проблема перестроения образа. Стремление к их разрешению с необходимостью настраивает автора на то, чтобы искать «подлинного человека не в нем, а вне его: в творчестве, в делах, в том, что он видит и слышит» [23- Т. 5- 138]. Вступление в контакт с незавершенной действительностью провоцирует автора и на то, чтобы искать и другой способ героизации.
Как представляется мысль, о новом способе героизации или лучше сказать о поисках нового способа героизации героя имеет самое непосредственное отношение к Тургеневу, и потому для нашей работы она обрела значение одной из важнейших методологических опор.
Другой аспект рассмотрения героической темы в современной отечественной научной литературе был задан В. М. Марковичем (в книге «Человек в романах Тургенева»), который за точку отсчета взял не культуру и жанр, а тургеневского человека и родовую сущность тургеневского романа.
Для Марковича «тургеневский герой-идеолог — не воспитанник соответствующей нравственно-философской культуры, а ее творец. тип культуры, с которым связан в романе главный герой, не предшествует его личности, воздействуя на нее извне. Не она его формирует, а он ее — отсюда возможность его внутренней свободы по отношению к ней» [107- 96].
Относящийся к «высшей категории» тургеневский герой, — это «эпохальный человек в самом высоком смысле этого слова. Через него реализуются высшие возможности эпохи, через него входят в мир творческие импульсы прогресса» [107- 105 — 106]. Даже свойства его характера непосредственно историчны: они придают определенную окраску важнейшим явлениям современной культуры.
К таковым, к примеру, могут быть отнесены и «человеческие слабости» Рудина. «Рудин, свободный от своих недостатков, не имел бы своих достоинств: его героическая самоотверженность, его неослабевающий и неистребимый энтузиазм совершенно очевидно связаны с отвлеченностью его ума, с его непрактичностью, с постоянным отрывом от реальности, с неспособностью к повседневному терпеливому труду. И так же очевидно — с неспособностью любить, быть счастливым, страдать обычными человеческими муками, вообще жить настоящей, полнокровной жизнью» [107- 30].
Как ни различны тургеневские герои «высшей категории», их сближает особая выделенность их сюжетной роли и общность целеполагания. «Жизненная цель тургеневских героев и героинь не имеет позитивных оснований вне их собственных личностей. Цель задана герою его внутренними стремлениями и потребностями, все обоснования, идущие извне, явно „вторичны“». И в продолжение этой мысли: «То, ради чего живут эти люди, отъединяет их от всего, что происходит в окружающем их социальном мире, от всего, что возможно в его рамках. Даже когда герой или героиня сами пытаются как-то согласовать или хотя бы соразмерить свою цель с наличными формами общественной жизни, у них ничего не получается. И, как показывает Тургенев, ничего не может получиться» [107- 106].
Фатальное «ничего не может получиться» и придает трагический ореол этим ни от кого и ни от чего не зависящим, довлеющим самим себе тургеневским фигурам. И именно эта трагичность делает тургеневского человека героической фигурой, а тургеневский роман — романом, который достигает масштаба трагедии.
Мысль о трагическом начале в романах Тургенева получила развитие в монографии В. М. Марковича «Тургенев и русский реалистический роман XIX века» и прежде всего в главе «Между эпосом и трагедией» (к чему подробнее мы еще вернемся в третьей главе диссертации).
Актуальность настоящей работы определяется ее включенностью в современный проект по исследованию характерологии русской литературы. Методологическим основанием для данной работы послужили, прежде всего, такие написанные A.A. Фаустовым и C.B. Савинковым работы, как «Очерки по характерологии русской литературы» и «Аспекты русской литературной характерологии».
Новизна настоящей работы заключается в том, что в ней героическая тема в романах Тургенева рассматривается в нескольких взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектах. Во-первых, она рассматривается как отвечающая духу времени, нацеленному на переосмысление таких категорий, как «герой» и «героическое».
Критическая полемика, развернувшаяся вокруг этой темы и именно в связи с романами Тургенева, — яркое тому свидетельство. Камнем преткновения для литературной критики стал вопрос о том, насколько созданные Тургеневым герои могут претендовать на звание героя. Мнения на этот счет разделились. Проблема меры героического и способа его оценки разделила спорящих на тех, кто признавал в главных героях Тургенева подлинно героических личностей (или личностей, стремящих стать таковыми), и тех, кто категорически отрицал это. Подробно ход этой полемики освещается в I главе диссертации «Герой и героическое в философско-эстетической рефлексии тургеневской эпохи и критическая рецепция творчества Тургенева в 1850 -1870-е годы».
Во-вторых, новизна предлагаемой работы состоит в том, что подверженный героизации в романах Тургенева герой рассматривается с учетом историко-литературной перспективы.
Герой нашего времени" — это заглавие лермонтовского романа сыграло в истории русской литературы, можно сказать, пролонгирующую роль. Оно стало формульно выраженным ориентиром для всего литературного движения XIX века. Слово «герой» у Лермонтова наделено двояким значением — типическим и героическим: Печорин представляется и в качестве героя со значением — «типичный представитель»), и в качестве героя, который, обладая всеми необходимыми для героической личности задатками — необъятными сипами, тем не менее, не смог состояться как Герой. Так или иначе вся дальнейшая литература будет говорить о герое с учетом лермонтовского опыта: как о герое — представителе своего времени и как о герое, который не смог состояться как Герой.
Одновременно, однако, «послелермонтовская» литература будет ис кать способы и средства для того, чтобы восстановить Героя в его правах и воплотить подлинного, безо всякой иронии, Героя своего времени. Особая заслуга в претворении этой задачи в жизнь принадлежит, безусловно, Тургеневу и его времени — 50 — 70-м годам, для которого тема героизации героя стала звучать чрезвычайно актуально.
В-третьих, героизация героя в романах Тургенева рассматривается с точки зрения собственно тургеневской сюжетики и характерологии. Причем специфику данной работы составляет и присутствующий в ней динамический аспект, учитывающий тенденции, приведшие к трансформациям героической парадигмы в творчестве самого Тургенева.
Таким образом, материалом исследования настоящей работы является творчество И. С. Тургенева и связанные с проблемой героического литературно-критические и отчасти философско-эстетические тексты современников писателяобъектом диссертации — прежде всего те из романов Тургенева, которые, по классификации Л. В. Пумпянского, относятся к «культурно-героическому» типу («Рудин», «Накануне», «Отцы и дети»), а предметомхарактер героя и логика героизации в тургеневских романах.
Соответственно, цель диссертации заключается в раскрытии «героической» характерологии Тургенева и в освещении проблемы героизации в романном творчестве писателя, взятом в литературно-критическом горизонте эпохи.
Движением к этой цели определяются основные задачи работы:
1) Очертить контуры проблематики взгляда на Героя и героическое в тургеневскую эпоху, особенно применительно к истолкованию романного творчества писателя в литературной критике.
2) Выявить онтологическую сопряженность Героя и судьбы в романах Тургенева.
3) Проследить сои противопоставления Героя и «лишнего человека» в тургеневской картине мира.
4) Соотнести характер тургеневского Героя и образно-смысловой комплекс «любовь — красота — смерть».
5) Обозначить место тургеневского Героя в формации и динамике поколений.
В работе были использованы такие методы исследования, как сравнительно-исторический, структурно-типологический и мотивный.
Теоретическое значение исследования состоит в применении к изучению творчества отдельного писателя последовательного теоретически обоснованного характерологического анализа с учетом историко-литературной перспективы.
Практическое значение работы. Полученные при изучении тургеневской героической характерологии наблюдения и результаты могут быть использованы при изучении вузовского курса истории литературы XIX века, в спецкурсах и спецсеминарах, посвященных творчеству Тургенева, при изучении творчества писателя в образовательных учреждениях различного уровня.
Положения, выносимые на защиту:
1) Переосмысление Героя, происходящее в тургеневскую эпоху (прежде всего в связи с пониманием персонажей тургеневских романов), происходит по двум основным линиям: во-первых, Герой перестает репрезентировать некую целостность (народ или поколение), во-вторых, действительно героической оказывается не жизнь героя, а его смерть.
2) То, что современниками Тургенева воспринималось по преимуществу как неудавшаяся попытка создать характер Героя, для писателя имело и другое измерение: несостоявшаяся героизация означала на деле обнаружение новой субстанции героического.
3) Тургеневского Героя (и в этом писатель следует традиционному, ар-хетипическому взгляду на него) констируирует избранность судьбою.
4) Любовь оказывается для тургеневского Героя таким испытанием, которое ставит под сомнение подлинность всеобщего, к которому он был обращен (служение общей идее для Рудина или освобождение Болгарии для Инсарова).
5) Тургеневский Герой находит себя, приобщаясь к иному модусу сверхличного, отрицающему возложенную героем на себя героическую миссию, — приобщаясь к любви и к открываемой благодаря ей красоте.
6) Герой и «лишний человек» у Тургенева оказываются двумя ликами одной и той же фигуры, которую отличает отмеченность судьбою и исклю-ченность из целого жизни. Если «лишнего человека» смерть только избавляет от его отторженности и «сверхштатности», то Герою она дает возможность примириться со сверхличным и в этом уничтожении и расширении границ своей самости обрести себя.
7) Тургеневскому Герою свойственна «вывихнутость», невключенность в свое поколение и выпадение из органического хода времени, не позволяющих ему сделаться истинным «героем времени».
8) Динамика героического характера в тургеневских романах заключается в том, что Герой постепенно вытесняется и замещается противостоящими ему «негероическими», «обыкновенными» персонажами, которые парадоксально принимают на себя под конец его роль.
Апробация работы. Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета и кафедры русской литературы Воронежского государственного университета.
Основные положения исследования докладывались на конференциях различного уровня: Международной конференции «Эйхенбаумовские чтения» (Воронеж, 2008, 2010), итоговых научных сессиях кафедры истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета (2008 — 2010), Межвузовском семинаре, посвященном 150-летию со дня рождения А. П. Чехова и 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого (Воронеж 2010).
По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей, в том числе 3 — в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для кандидатских исследований.
Структура диссертационной работы. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка литературы, включающего 208 наименований.
Заключение
.
В Заключении — жанре, требующем подведения итогов, — мы хотели бы придать полученным результатам более систематический вид. С этой целью обозначим несколько вытекающих из нашей работы принципиальных положений.
Прежде всего, следует отметить, что острота восприятия тургеневских романов, прежде всего, была обусловлена тем, что Тургенев затрагивал в них не просто важную, а, можно сказать, животрепещущую для его времени тему «героя времени». Развернувшаяся вокруг романов Тургенева полемика главной точкой приложения своих критических сил сделала вопрос о том, насколько созданные Тургеневым герои могут претендовать на звание Героя. То, что современниками Тургенева воспринималось по преимуществу как неудавшаяся попытка создать характер Героя, для писателя имело и другое измерение: несостоявшаяся героизация означала на деле обнаружение новой субстанции героического.
В тургеневскую эпоху переосмысление Героя (в том числе в связи с пониманием персонажей тургеневских романов) происходит по двум основным линиям. Во-первых, Герой перестает репрезентировать некую целостность (народ или поколение), во-вторых, действительно героической оказывается не жизнь героя, а его смерть.
В связи с этим следует сказать об одном парадоксе: герои «культурно-героических» романов Тургенева как будто бы являются «антигероями» (в отличие от Лаврецкого — не реализовавшего себя как Героя, от Литвиновавообще не Героя, и от Нежданова — Героя ложного). Персонажи эти, казалось бы, не обладают никакими истинными «героическими» чертами: они не идеализированы и слишком наполнены человеческим содержимым для того, чтобы быть героями в традиционном смысле этого слова. И, тем не менее, именно эти персонажи становятся в романном мире «героическим центром» и приковывают к себе интерес от первого момента до последнего.
Это происходит отчасти и потому, что тургеневский Герой вписывается в архетипическую героическую линию уже тем, что оказывается под пристальным вниманием судьбы. В первую очередь она дает о себе знать тогда, когда заставляет героя пройти испытание любовью, действительно оказывающееся для тургеневского Героя судьбоносным. Оно развенчивает его как Героя, поскольку Герой под воздействием любви утрачивает свою связь с тем всеобщим, к которому был обращен изначально (служение общей идее для Рудина или освобождение Болгарии для Инсарова).
Однако любовь предоставляет тургеневскому Герою шанс приобщиться и к иному модусу сверхличного, и в этом приобщении вновь обрести героические очертания, но на другой основе. Таким другим и подлинным всеобщим, к которому тургеневский Герой приобщается посредством любви, является красота — важнейший для всего творчества Тургенева смыслообраз. Тому из тургеневских героев, кому открывается запредельная красота, открывается и возможность выйти за пределы самого себя, а тем самым и потерять себя, и обрести.
Поэтому и Рудин, и Базаров, и Инсаров могут быть наделены именем Героя еще и потому, что каждый из них по-своему переступает черту, которую не переступают другие и за которой царят любовь и красота в их абсолютном выражении. За этой чертой их ждет гибель, разрушение формы, а в другой перспективе — не гибель и не разрушениеа акт их приятия всеобщим, для которого — смерть лишь мгновение, а жизнь вечная и бесконечная.
В части диссертации, посвященной «лишнему человеку», сделана попытка разобраться в том, как связаны и как разобщены между собой в творчестве Тургенева его «культурно-героический» Герой и характер «лишнего человека». В результате выяснилось, что Герой и «лишний человек» у Тургенева оказываются двумя ликами одной и той же фигуры, которую отличает отмеченность судьбою и исключенность из целого жизни. Принципиальное же различие состоит в том, что в противоположность «лишнему человеку», которому только благодаря смерти удается избавиться от своей отторженности и «сверхштатности», Герой соприкасается со смертью иначе: смерть дает ему возможность примириться со сверхличным и в этом уничтожении и расширении границ своей самости обрести себя.
В главе, посвященной поиску соответствий между Героем и поколением, подробно исследуется один из базовых для творчества Тургенева мотивов — мотив «вывихнутости». Мотив этот берет свое начало в самом общем представлении Тургенева о жизни как о болезни. С одной стороны, присущая тургеневскому Герою «вывихнутость» отсекает ему возможность, не выпасть из органического хода, времени, включиться в свое поколение и сделаться, истинным «героем времени». С другой стороны, эта же «вывихнутость» предоставляет тургеневскому герою быть приобщенным к метафизическому измерению, а значит, прозревать и те горизонты, которые закрыты для тех, кто обретается в пространстве временного, конечного и достижимого.
Общая же тенденция развития героической темы у Тургенева от «Ру-дина» к «Нови» — постепенное вытеснение «культурно-героического» Героя не-героем. В «Нови» этот процесс достигает логического предела: героем времени оказывается не тот, кто как будто бы наделен всеми правами на то, чтобы стать Героем, а тот, у которого как будто бы нет на это никаких правне отвечающийпринципу исключительности Нежданов, а человек из массы Соломин.
Исследование характерологического плана романного творчества Тургенева может быть вписано и в общий кругозор восприятия писателя. В России слава Тургенева, при всей ее незыблемости, знала свои подъемы и спады. Еще при жизни он оказался в тени Достоевского и, особенно, Льва Толстого, а два последних тургеневских романа были восприняты в основном не слишком одобрительно — и в художественном, и в идеологическом смысле. Тургенев как живописатель общественных типов и настроений не успевал за эпохой, и эпоха ему этого не простила. 5.
Реабилитирован" Тургенев будет лишь символистами, которые создали свойхотя и менее масштабный по сравнению, к примеру, с гоголевским или лермонтовским — тургеневский миф [134]. На щит были подняты прежде всего «таинственные» повести Тургенева — вроде «Клары Милич» и «Песни торжествующей любви». И такое предпочтение в наиболее заостренной форме выразилось позднее в несправедливом, но по-своему проницательном и блестящем размышлении Георгия Адамовича в его «Комментариях», отрывок из которых (с некоторыми купюрами) стоит привести:
Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем вместе с их общественными заслугами. <.> Тургенев оттого и остался холодным писателем, что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того, вероятно, не сознавая <.> Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собою, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он стать <.> Надо было бы иначе искусству служить, писать о Кларе Милич, то есть не о ней именно, а в этом плане, без параллелей между эпохами и поколениями. Но поздно, «кладу перо», как издевался ослепший от ненависти Достоевский, «мерси, мерси», страшно, смерть идет, никто не может помочь, полное одиночество и холод вокруг." [6- 161 -163].
Затем этот цикл в восприятии Тургенева повторится еще раз, на иномлишенном былого накала — уровне. Импульс, данный символистами, в советское время быстро сойдет на нет. Тургенев превратится в составную часть академического и школьного антиквариата. И хотя читать его еще долго не перестанут, он во многом разделит участь Фенимора Купера и Вальтера Скотта, которые из писателей, в пушкинскую пору ценившихся чуть не наравне с Шекспиром, станут авторами для детского и юношеского возраста. И только в последние десятилетия — как реакция на все это — вновь будет открыт Тургенев метафизический, «странный», если воспользоваться определением из заглавия одной из самых интересных работ подобного рода — монографии В. Н. Топорова «Странный Тургенев» (1998).
Думается, что такое смещение от Тургенева, писателя, представляющего проблемы эпохально-исторического значение, к Тургеневу «странному», мистическому", «нероманному» — не совсем справедливо. И в «эпохальном», «романном» Тургеневе, безусловно, есть вещи не менее странные и загадочные, чем в его таинственных повестях. Однако для того, чтобы вещи эти увидеть и открыть, нужно попытаться посмотреть на то, что кажется хрестоматийно-привычным (в том числе и на героическую тему), новым, «ост-раненным» взором. Настоящая диссертация и представляет собой одну из таких попыток.
124 }.