Ева и джиоконда
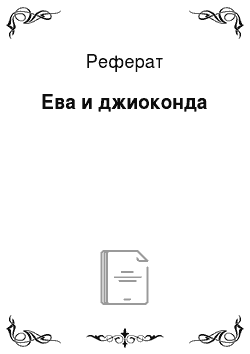
Исходной точкой художественной критики должно быть определение сущности данного рода поэзии, и надо признаться, в этом отношении царит теперь полный хаос. В старое доброе время различали три основных разновидности: эпос, лирику и драму. В новое время эпос давно уже умер и погребен, и место его заняли роман, повесть и новелла. В драматические формы вопреки всем правилам вторгнулась лирика… Читать ещё >
Ева и джиоконда (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Среди писателей-модернистов, — у нас их обыкновенно называют декадентами, — которыми все больше и больше начинает интересоваться русская читающая публика, выдающееся место занял в последнее время польский беллетрист Станислав Пшибышевский. Из немногих произведений его, переведенных на русский язык, особенно повезло драме «Снег», вышедшей в нескольких переводах и обошедшей чуть не все доступные новым веяниям сцены. Болезненно чуткая душа, оригинальный взгляд на жизнь, крупный художественный талант — все это захватывало читателя, очаровывало его, а потому не удивительно, что польская драма нашего автора была встречена с восторгом и приобрела популярность у публики.
Но критика не может ограничиться одними субъективными впечатлениями: ее задача произвести объективную оценку данного художественного произведения, отнести его к накопленным сокровищам человеческого творчества и указать место среди них. Всякое художественное — истинно художественное — произведение представляет некоторую сумму творческой энергии, аккумулированной в определенной форме и способной в будущем служить источником эстетических эмоций, выполнять ту функцию в эстетическом и этическом воспитании общества, которая выпадает на долю искусства. Поэтому относительно нового художественного произведения мы должны выяснить, является ли оно действительно вкладом в сокровищницу человеческого духа, то есть стоит ли оно на должной художественной высоте, и если да, то действительно ли обогащает эту сокровищницу, то есть дает ли что-нибудь новое, или если не новое, то в новом освещении, в новой форме, — одним словом, нечто способное вызвать новый ряд художественных представлений, новый комплекс эстетических эмоций. Если да, то мы должны приветствовать этот вклад, как ценное приобретение; если же нет, если новое произведение является лишь повторением, подражанием, пережевыванием старого, или даже худшим выражением уже созданного, — тогда мы должны отвергнуть такой дар и указать ему надлежащее место — среди суррогатов искусства. Истинно художественное произведение обладает большой живучестью и силой внушения. Они переживают все мимолетные настроения и веяния данной исторической минуты и «сквозь тьму веков» покоряют своей силой грядущие поколения. Но такие произведения редки, и их замещают обыкновенно бесчисленные суррогаты. При недостатке эстетического, а нередко даже и общего, образования нашего общества задача критики выделять жемчужные зерна из массы суррогатов и отсылать читателя, слушателя, зрителя от преходящего, суррогатного к вечному и подлинному.
Великий поэт-лирик, — говорит профессор Овсянико-Куликовский1, — не меньше великого художника образов, не меньше великого мыслителя и ученого является аккумулятором (психической) силы, трата которой по мелочам образует сущность психической жизни в обширном смысле — обыденной, частной, общественной, политической и т. д. И не только великий художник, но и всякий истинный художник является таким аккумулятором, ибо разница между ними — между Пушкиным и Чеховым, например — только количественная. И эта роль аккумуляторов психической силы, источников «благотворного, освежающего, живописного» действия на душу побуждает к строго критическому отношению, к отделению плевел от питательного зерна, к очищению этих источников.
Таким образом, чтобы оценить данное художественное произведение, нам необходимо приложить к нему обе мерки: во-первых, отвечает ли оно требованиям художественности, то есть является ли оно вообще истинно художественным произведением и, во-вторых, дает ли оно что-нибудь новое и высшее, и что именно нового, чем обогащает оно литературную сокровищницу. С этих двух точек зрения нам и придется оценить «Снег» Пшибышевского.
Исходной точкой художественной критики должно быть определение сущности данного рода поэзии, и надо признаться, в этом отношении царит теперь полный хаос. В старое доброе время различали три основных разновидности: эпос, лирику и драму. В новое время эпос давно уже умер и погребен, и место его заняли роман, повесть и новелла. В драматические формы вопреки всем правилам вторгнулась лирика (Метерлинк, Чехов), появились драмы без действия — contradictio in adjecto[1][2], — так называемые драматические сцены, картины и пр. (Горький). Ввиду этого хаоса и полного крушения старых рамок поэтического творчества — крушения, заметим, знаменующего сильное развитие поэзии, а не анархию — критике приходится апеллировать к какому-нибудь принципу. И этим принципом, на наш взгляд, является определение по сущности, независимо от формы. Как ни перепутались взгляды и понятия о родах и формах поэзии, у критики осталось нечто более прочное, ибо зависящее от способности эстетического переживания — именно формы эстетического восприятия. И этих форм мы знаем три: образы, настроения, типы, которым соответствуют повествовательная поэзия, лирика, драма. В каком бы сочетании ни находились эти элементарные формы в данном произведении, доминирующая среди них всегда определит род поэзии. И внешняя драматическая форма не помешает нам отнести пьесы Метерлинка к лирике, лирический флер в пьесах Чехова не изменит их характера драм, дающих резко выраженные типы. Подходя с этим мерилом к «Снегу», мы должны констатировать, что это произведение никоим образом нельзя отнести к лирическим, как, например, «Аглавену и Селисетти», — кстати говоря, очень родственную ей. По всей концепции пьесы, по желанию воплотить общечеловеческие черты («обнаженную душу») в реальные общественные типы «Снег» Пшибышевского представляет несомненное драматическое произведение. И это определение вместе с тем указывает, где кроются существенные недостатки пьесы. Как только мы перейдем к оценке изображенных в ней типов, пред нами сразу же предстанут вся слабость и неудовлетворительность ее. Но, чтобы рельефнее подчеркнуть эту сторону вопроса, мы сравним «Снег» с другой ранней пьесой автора, представляющей действительно художественное произведение, именно с драмой «Для счастья». Фабула и драматический конфликт обеих пьес до мелочей те же, но в то время как в раннем произведении выведены живые, типичные люди и развязка проведена с высокохудожественным, можно сказать, даже беспощадным реализмом, — так в позднейшем произведении все подернуто символическим туманом, живые люди превращены в силуэты, драматический момент [так] смягчен и подслащен, чтобы не шокировал нервы эстетических гурманов, и вся пьеса написана в том мертвенном тоне школы «вырождения», для которой посиневшие трупы и кровавые лужи представляются лишь интересными красочными пятнами на данном фоне.
В пьесе «Для счастья» мы имели eine alte Geschichte1, которая вечно neu bleibt[3][4]. Карстен любил Грету и жил с ней два года. После этого он встретил Ольгу — grande coquette[5] — и увлекся ею. И ради Ольги он бросил Грету и даже стал уверять свою новую возлюбленную и самого себя, что Греты он никогда не любил. Но Грета из тех натур, которых любовь пробуждается только раз в жизни — и на всю жизнь. Одиночество после жизни с Карстеном для нее смерть, и она лишает себя жизни. В этой драме троих есть еще и четвертый — Бек. Он — бывший возлюбленный Ольги, жаждущий отомстить ей и любящий Грету. Всеми силами старается он расстроить связь Карстена с Ольгой, но когда это ему не удается, он отравляет эту связь призраком мертвой Греты. Эту простенькую повседневную историю, в которой фигурируют живые, обыденные люди, автор сумел развить в высокохудожественное произведение. Но, видно, впоследствии оно перестало удовлетворять его. Эволюция автора от художника к философу мистико-сексуального направления убила, по-видимому, в нем здоровое художественное чутье и заставила переработать прежнюю тему уже в духе новых взглядов. И эта переработка дала художественно несостоятельный продукт.
Из живой, глубокой натуры, какой была Грета, — натуры страдающей, борющейся, колеблющейся между жаждой счастья и чувством гордости, — получилась Бронка, бесцветное, сентиментальное существо с овечьей покорной психологией. Бронка не способна бороться за счастье, она может только приносить себя в жертву и, даже уходя от жизни, старается не тревожить покой и счастье своего мужа с Евой. Не менее безжизненным и сентиментальным стал и прежний Бек, превратившийся в Казимира и утративший вместе с переменой общественного положения и свои характерные черты живого человека. Получился какой-то рыцарь печального образа. Но самую резкую и отрицательную эволюцию проделали остальные два персонажа: Карстен и Ольга. Автор поставил их на ходули и придал им какой-то таинственный демонический облик, выбросив из них при этом все реальное жизненное содержание. Получились две схематические фигуры — Тадеуш и Ева. К этим фигурам следует присмотреться: «Ты рожден для борьбы, ты мечтал быть вождем, создать новые миры, останавливаться только затем, чтобы среди трупов и дымящихся развалин, сняв с головы шлем, отереть знойное чело». Такой эффектной фразой характеризует Тадеуша Ева. Но о какой борьбе идет речь, какие миры призван он создавать, вождем каких сил следует ему быть, — об этом мы ни слова не узнали. «Ты последний из великого, прекрасного рода конквистадоров, которым тесен глупый угол, называемый Европой». И это тоже не более как эффектная фраза. Не говоря уже о том, что исторические конквистадоры были далеко не велики и не прекрасны и во всяком случае много глупее угла, «называемого Европой», притом руководились не какой-то тоской по идеалу, а просто аппетитом к американскому золоту и рабам, — помимо всего этого опять возникает вопрос, что же завоевывал он, герой «Снега»? К сожалению, из всей пьесы мы узнаем только, что он некогда «завоевал» довольно неприступное сердце Евы, да кроме того, что в момент рассказа он «охотится, ездит по соседям, торгуется с евреями о ценах на хлеб» и торгуется, по-видимому, прекрасно, как настоящий современный «конквистадор», судя по тому, что немощный брат поручает ему приведение в порядок его дел. Занятия, как видите, самые мирные и самые мещанские, во всяком случае довольно далеко отстоящие от «завоевания новых миров». Вся напыщенная характеристика, данная автором герою, не подтверждается никакими деяниями его ни в течение самой пьесы, ни в предшествующей жизни, поскольку она явствует из пьесы. Автор просто хочет, чтобы ему на слово поверили, что Тадеуш — это сильная, прекрасная личность, временно остановившаяся «среди трупов и дымящихся развалин», чтобы «отереть знойное чело». И такой прием убеждения мы должны безусловно отвергнуть, как нехудожественный, и самый тип признать бессодержательным схематическим построением. Наибольший интерес пробудила в русской публике, поскольку нам удалось заметить, Ева. Вечно тоскующая по идеалу, эта публика усмотрела в Еве символическое воплощение такой тоски; вечно страдающая от слабости и дряблости, она увидела в ней сильную личность. Эти две функции Евы нам и придется разобрать. Что такое Ева в нашей драме? «Была ли та женщина (именно Ева) зла, легкомысленна? — спрашивает Казимир. — Нет, напротив! Она только утратила способность жить. Она терзала себя и других, ею овладевала какая-то безумная жажда уничтожения». Такова она была в прежний период любви Тадеуша. И любовь эта была больная. «Ах, как я страдал!» — восклицает он, вспоминая это время. Но в нашей драме ее роль другая. «При тебе пробуждается тоска и желания, до того незнакомые, — говорит ей Бронка, — ты можешь приковать и увлечь за собой человека, даже и не подозревая, что он идет вслед за тобой, и он идет, не зная, куда увлечет его твое очарование». Итак, Ева пробуждает в людях тоску, но каков же смысл этой тоски? Есть тоска — и тоска. Есть тоска, глубокая и плодотворная, вызываемая отсутствием известных элементов, необходимых для гармонического развития человека. Эта тоска возвышает и облагораживает личность, она представляет бессознательное стремление к этому недостающему лучшему, стремление, всегда способное перейти в сознательный акт, подвигнуть человека на борьбу. Но есть другая тоска, — тоска от пресыщения, тоска бесплодная. Одаренные всеми благами земными, пресыщенные материальными и духовными дарами культуры, люди, неспособные к альтруистическим порывам, легко поддаются специфической тоске по бесплотным и бесплодным призракам идеализма. За мишурной идеалистической оболочкой этой тоски скрывается самая прозаическая жажда новых ощущений, новых более утонченных наслаждений. И этим видом тоски одержима наша героиня. Весьма характерен в этом отношении следующий диалог, характерен и для нее и для нашего конквистадора-Тадеуша.
Тадеуш. Гм… Ты так уверена, что я создан завоевателем новых миров? Зачем?
Ева. Чтобы сделать жизнь красивой (чью жизнь и для кого красивой? — Ю. А.1) и быть красивым.
Тадеуш. А если я не сумею завоевать их?
Ева. Так пади — ив этом своя красота.
Тадеуш. А если это все пустая трата сил? Бессмысленное уничтожение себя и всего окружающего?
Ева. И в этом красота. Человек, рвущийся куда-то и жаждущий чего-то, хотя бы и недостижимой цели, — все же прекрасен.
Тадеуш. А если он ничего не жаждет, кроме покоя, тихого уголка, теплого камина?
Ева. Это хорошо для Казимира.
Тадеуш. А для меня?
Ева (с улыбкой смотрит на него долгим взором). Для тебя? Я, только , — одна я…
Вот на что сводится тоска и пробуждение тоски нашей героини. «Нужно прежде всего море усмирить, — говорит она, — разрыть горы, нужно пройти через горнило всех мук и наслаждений, чтобы новый мир открылся взору».
И в конце концов этим «новым миром» оказывается «я, только я, — одна я», и цель, недостижимая на первый взгляд для человека, рвущегося куда-то, жаждущего чего-то, оказывается очень близкой и очень достижимой. Трагедия тоски свелась к обычному любовному конфликту, с той лишь разницей, что герои встали на ходули и начали говорить высокопарным языком героических трагедий.
Ева обманула русского читателя. Вместо тоски пробуждающейся личности, рвущейся из пут всезасасывающего мещанства, она дала тоску того самого мещанства, — только мещанства, возлежащего на верхах культуры, пресыщенного и скучающего. Но и в другом отношении она обманула читателя. Она хотела сыграть перед ним роль сильной личности, роль резко выраженной индивидуальности, а оказалась и здесь вороной в павлиньих перьях.
Вот послушайте ее откровенное признание:
Тадеуш. Почему же ты оттолкнула меня, когда я все слагал у твоих ног, когда я мог с тобою и при тебе завоевать те новые миры, о которых ты теперь говоришь? Зачем ты меня оттолкнула?
Ева. Потому что ты не сумел стать моим господином.
Это весьма ценное признание. Оно выдвигает из глубины души нашей героини на свет божий те рабские, мещанские черты, против которых борется пробуждающееся самосознание современной женщины.
«Заветным желанием вашей жизни было связать и увлечь человека, который с неугасимой тоской слепо следовал за вами?» — спрашивает ее Казимир, и она категорически утверждает: «Да». В этих двух последних цитатах весь смысл и содержание характера Евы. Увлечь человека, которого она любит, и… стать его рабой. Скажите, какая мещанка влагает меньший смысл в свое крохотное существование? Отбросьте все декорации, бутафорию, ходули, пышные фразы, демонические улыбки, — и вы получите старую, как мир, легенду женского сердца, только пересказанную хуже, чем это делали другие, чем это сделал сам автор в драме «Для счастья».
А между тем новое время создало тип новой женщины, сильной, гордой своим человеческим достоинством, чуждой мещанства. Этот тип способен служить не «господину», а тем идеалам, которые дороги и ей и любимому ею человеку, способен даже свою любовь подчинить этому идеалу и принести и ее, и себя ему в жертвы. Для противопоставления Еве мы укажем на один тип, очень интересный и высокохудожественный тип, где автор сумел воплотить в живом человеке целый ряд отвлеченных психологических черт нарождающейся женщины-человека. Мы имеем в виду тип Джиоконды в драме того же названия Г. д’Аннунцио.
Скульптор Луччио Сеттала женат на прекраснейшей женщине Сильвии, типа Бронки или, точнее, Греты. «Это неоценимо высокая душа, перед которой я падаю ниц и благоговею», — говорит о ней муж.
Но, увы, он художник и «не лепит душ». Он встречает Джиоконду, образец пластической красоты. «Когда она предстала предо мной, — говорит он, — я увидел пред собой все глыбы мрамора, заключенные в самых далеких каменоломнях, и в них я хотел бы заключить каждый жест ее». Художник и идеальная натурщица естественно сближаются, и любовь причудливо переплетается со служением искусству. Из этой связи возникает шедевр — статуя Сфинкса, вызывающая всеобщие восторги и удивление. Однако семейная драма, ставшая душевной драмой Люччио, терзает его, и, не находя выхода, он пытается покончить самоубийством. Самоотверженный уход жены спасает ему жизнь, и, возрожденный, он думает сначала, что исцелился от прежней страсти. Однако пробуждающаяся потребность творчества идет рука об руку с тоской по Джиоконде, сотруднице в творчестве и побудительнице к творчеству. И несмотря на все отчаянные попытки Сильвии, кончающиеся для нее трагически, он, возвращаясь к работе, возвращается и к Джиоконде. «Я, — говорит Джиоконда, — была горячо любима и возвышенной любовью. Я не принизила, — нет, я вдохновила могучую жизнь». «Когда он (Люччио) входил сюда (в мастерскую), где я ждала его, как ждут творящее божество, он перерождался. Пред своей работой он снова обретал силу, радость, веру. Да, лихорадочное возбуждение горело в его крови, поддерживаемое мною (и в этом вся моя гордость); но в огне этого возбуждения он выковал свою лучшую работу». «Во мне нет ничего безжалостного, — возражает она на упрек жены Люччио, — но я сама подчинена силе, которая, быть может, безжалостна». «Природа послала меня ему навстречу, чтобы нести ему весть и служить ему. Если б он теперь вошел, он мог бы начать свою прерванную работу, которая уже оживала под его пальцами». Вы видите, что здесь человек служит человеку не как раб господину, а как жрец «творящему божеству». Здесь перед вами не служба, а служение, служение идеалу, и в этом служении и художник и натурщица одинаково велики, одинаково свободны, одинаково горды. А вот смотрите, как любит Джиоконда и как умеет она свое чувство отдать на служение той же идее. «Находясь под запретом, вдали и в одиночестве (когда Люччио лежал больной после попытки самоубийства), я могла только всей силой моей воли собрать и влить все мое страдание в одну мольбу. Моя вера была равна вашей (то есть жены Люччио); несомненно, она сливалась с вашей в борьбе со смертью. Последней творческой искре, родившейся из его гения, из божественного пламени, горевшего в нем, я не дала потухнуть, — я поддерживала ее живой с религиозной и непрерывной бдительностью». И в то время как Люччио возвращался к жизни под нежным прикосновением «прекрасных рук» Сильвии, Джиоконда, далекая и страдающая от этой дали, прилагала все старания и усилия, чтобы сохранить и спасти от гибели новую работу, начатую им перед смертью. Лишенная возможности помочь творцу, она оберегала его творение, руководимая своей любовью и верой в свое призвание. И потому вполне понятно, что, когда Сильвия, пробуя спасти свое счастье, ложно заявляет ей, что Люччио ее забыл и прекращает с ней всякие отношения, Джиоконда с негодованием обрушивается не столько на обманутую любовь, сколько на обманутую веру в гений художника. «Теперь он уничтожен, его дело кончено, он — бесполезная тряпка. О, теперь я понимаю! Бедный он, бедный! Почему он лучше не помер, чем пережить свою душу?» И в порыве возмущения она пытается не отомстить ему, как сделала бы любая мещанка, а уничтожить ту начатую работу, которую он мог создать только с ней и только благодаря ей. И эта идейная последовательность чувства, даже в минуту сильного возбуждения, указывает на глубокое проникновение этой идеей всей психики Джиоконды, на действительную силу и величие ее души. И такой тип новой женщины, хотя несколько чужд нам по конкретному содержанию — наша жизнь не позволяет нам роскоши служения искусству, — тем не менее очень близок и дорог нам по своему основному настроению, по высокой степени человеческого самосознания и самоуважения, по отсутствию пошлых мещанских элементов. Если нам нужно художественное воплощение женщины-человека и искреннего, действительного отношения к идеалу, то такое воплощение мы скорее найдем в живой, реальной личности Джиоконды, чем в туманном символе Евы, в которой за шумихой трескучих фраз кроется самое обыденное тяготение одного пола к другому. Некоторые черты нашей общественной жизни создают особую складку в психологии, в силу которой такие чувства, как тоска по идеалу, грезы о лучшей жизни и т. п., находят легко отклик в наших душах. Но непростительная доверчивость и неразборчивость заставляет нас нередко принимать без проверки за выражение наших чувств формально сходные чувства, особенно если последние преподносятся под красивой (что еще не означает художественной) оболочкой. Хороша картина мягкого пушистого снега, пригревающего сироты-семена и охраняющего их от гибели. Но раскопайте этот снег, выньте семя — и вы сплошь да рядом увидите, что не питательный злак вырастет из него, а сорная трава или бесплодный злак.