Роль творца в произведениях Пушкина
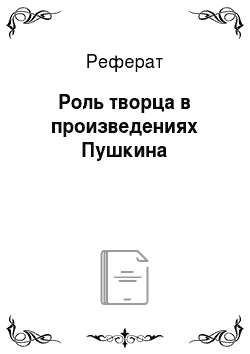
Но уже следующая строфа вносит в торжественный творческий облик удачи с основанием города и берега сомнение: «Да умирится же с тобой и побежденная стихия…». Таким образом, возобновляется первоначальный прообраз стихийной водяной шири как потенциальной силы, которая может стать угрозой городу и из скрытой превратиться в явную и действенную силу. И эта сила начинает выступать как настоящий… Читать ещё >
Роль творца в произведениях Пушкина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Вопрос о творческой удаче / неудаче открывается в русской литературе на разных уровнях в связи с образом творца и его деятельности. На первый взгляд кажется, что образ творца в «Медном всаднике» Пушкина и его удача не подлежат никакому сомнению. Среди лесов и болот Петру I удалось построить город. На основе этого творческого поступка А. С. Пушкин создал всемирно известную поэму, и нет сомнений, что поэт достиг творческого успеха: читателей текст «Медного всадника» постоянно интересует, они постоянно ищут и находят новые значения, которые придают целостному смыслу все новые и новые оттенки.
Роль творца в петербургской повести А. С. Пушкина, с одной стороны, является торжеством успешного творческого подвига, но, с другой стороны, автор вносит в образ великолепного творца сомнения. Поэма с первых строк связана с концепцией действительности как пограничного явления. Действие помещено в дихотомное природное пространство, где все лежит на стыке разных сущностей стихий, прежде всего воды и суши. Перспектива «на берегу» составляет характеристическую черту повести. Берег начала повести представляет собой подвижную линию, которая свободно движется в согласии с движением водной стихии. Но все изменилось с появлением властного шага Петра I как существенного импульса к преобразованию веками установленного порядка действительности, к основанию твердой черты берега и города. Берег творца представляет собой край другого рода, другой сущности. Петр I представляет собой конец одного образа местности, стихийноестественного, и начала другого, искусственного, сделанного человеком, твердого, земного. Первые образы характеризуются словами: широко река неслася, бедный челн, одиноко, чернели избы, приют убогого чухонца, лес, туман, спрятанное солнце.
Контрастом к этим горизонтально распространенным значениям выступают следующие строки вертикальности задуманного города. Первоначальное равновесие свободно движущейся водной стихии противопоставлено твердой творческой идее задуманного будущего.
Следующая часть композиционного времени продвинула сюжет на сто лет вперед от вступительного прообраза. Широкая горизонталь пустынных волн превратилась в вертикаль нового града, который из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво. Контраст бывших неведомых вод, печального пасынка природы, и юного града несомненно показан в пользу новой действительности — ее башен, дворцов, кораблей, богатой пристани. Этот вид поддерживает и признание рассказчика в любви к городу. В апострофе «Люблю тебя, Петра творение» заключается торжество творца и его творческая удача.
Но уже следующая строфа вносит в торжественный творческий облик удачи с основанием города и берега сомнение: «Да умирится же с тобой и побежденная стихия…». Таким образом, возобновляется первоначальный прообраз стихийной водяной шири как потенциальной силы, которая может стать угрозой городу и из скрытой превратиться в явную и действенную силу. И эта сила начинает выступать как настоящий противовес искусственной суши города. Итак, с самого начала повесть основана на разного рода двуполюсности — берега и воды, неподвижности фундамента города и подвижной стихии, горизонтали и вертикали, тьмы и света, бедности и богатства, соблюдения данности и мечты об изменении уравновешенного состояния, действительности и мечты, того, что было его лет назад, и того, что есть, «его» (мысль, мыслитель, творец) как предвидения будущего и «его» (город) как осуществления мысли, творческого успеха, результата властной думы, силы неведомого стихийного и силы ведомого целеустремления, торжества творческой удачи и постепенного усиления сомнений в однозначности творческой удачи. Мнимая гармония первоначальной стихии нарушена вторжением чужой силы, которая победила.
Возник город в его несомненно положительном виде, с красотой которого совпадает и личный тон рассказчика, и его трактовка, но торжество творца нарушено потенциальной угрозой стихийных сил.
После ночного наводнения прегражденная Нева затопила город, и вдруг все опустело. Созданные человеком-творцом границы разбиты и преодолены — и Нева преграждается другими, стихийными, границами. Таким образом, как бы возвращаются первые строчки повести, и горизонталь водного принципа опять начинает царствовать, вид торжества гворца и творческой удачи поколеблен.
Первоначальное естественное горизонтальное равновесие стихийного, водного и земного принципов приобретает в течение повести противовес в расширенном значении земного принципа — града, который, будучи построен в мире подвижного принципа (Ногою твердой стать при море…), преодолевает своим вертикальным стремлением водяную первооснову. Прообраз подвижного принципа всеохватывающего равновесия нарушен вторжением земного, твердого противовеса. Сила стихийности побеждена, преграждена, но остается ее потенциальная энергия, на угрозу которой указывает рассказчик. Наводнение является результатом приведенной скрытой, но потенциально присутствующей силы. Таким образом, стихийная сила вдруг берет верх над земным творением и его красотой. Через стихию просвечивает не только водный принцип (реки, моря), но и принцип воды, которая приходит сверху — с неба.
«Водный» принцип начинает царствовать и в вертикали, которая до сих пор была исключительно пространством города. Через водную вертикаль просвечивает Небесное, Божие, и наводнение связывается с Божьим гневом, со стихией Божией. Таким образом, повесть начинает выходить за рамки антиномии водного — земного и превращается в антиномию земного — небесного, Божьего. Связаны понятия «стихия» и «Божий», всевышний Творец, «создавший все сущее из Небытия и объявший Своим знанием все во Вселенной». Таким образом, посредством водяной стихии противопоставлен земному творческому замыслу, творческой силе и творческому результату и сам Творец.
Наряду со стихией наводнения выделяется еще один аспект творца. Персонифицированный образ Невы сравнивается со зверем, аллитерацией котлом клокоча и клубясь подчеркнута динамичность движения и его непредсказуемость. Аллитерацией подчеркнуты не только согласные звуки, но и значения слов, которые приобретают звуковую окраску. Первичное значение слов обрастает новыми значениями и их ассоциациями. Сценичность (образ движется как бы прямо перед глазами) водного зрелища и его сиюминутный оживленный драматизм приобретают характер символа, через который просвечивают и ассоциируются новые значения. Перед глазами движется художественный мир, который интересен не историческим фактом наводнения, а прежде всего его литературностью — тем, что придает простому пересказу исторического факта статус художественности, статус художественного произведения.
На вопрос, что происходит перед глазами, нельзя ответить просто словом «наводнение». Происходит что-то слитное, движущееся, антиномное, все чередуется, перетекает, все меняется и амбивалентно просвечивает. Действительность интерпретируется художественным образом. Субъективное видение сливается с возможным объективным импульсом, и в креативном акте образуется новая действительность — художественная. Движущееся перед глазами зрелище основано на спонтанности, динамичности, апостериорности (не заранее придуманного), семантической амбивалентности (одновременно «да» и «нет»), двойственности1, которые создают представление эстетического восприятия целостности.
Таким образом, Божьему творческому принципу противопоставлена творческая сила Петра I, и все это можно увидеть только сквозь художественную творческую образность Пушкина. Свободное пространство движения воды и границы земли преграждено творческим поступком Петра I — и красота города оправдывает творческий шаг как творческую удачу. Но порыв водяной стихии ставит творческую удачу под сомнение, и приходит творец, художник, который созерцает красоту города как результат творческого шага и, одновременно, воспроизведением исторической сцены вызывает сомнение. Художественный образ ставит вопрос не только человеку как управляющему творцу, но также человеку как составной части земного движения.
Наводнение разрушило границу между Евгением и стихией. Когда Евгений сидит на скульптуре льва, он непосредственно чувствует ветер и дождь. Рядом с ним в первый раз возникает и вертикаль — «словно горы», «вставали волны». Но вертикаль в этом случае не связана с властной мечтой преобразования, наоборот, перспективой Евгения созданная творцом действительность ставится под сомнение, и ставятся под сомнение дела человеческие вообще, их смысл, целеустремленность, оптимизм, оправданность: Он это видит? Иль вся наша / И жизнь ничто, как сон пустой, / Насмешка неба над землей? Образ жизни как насмешки Всевышнего над делами человеческими просвечивает больным сознанием Евгения, сквозь которое вся доныне движущая двуполюсность сливается в одно нерасчлененное целое.
Человек, выбитый из своей колеи, потерял равновесие сознательного ума и хаоса, сна и бреда, грезы и яви. Евгений стал бесцельно бродить по городу. Связь с миром была утрачена: Он скоро свету / стал чужд. Окончательно были утрачены границы, берег: И так он свой несчастный век / Влачил, ни зверь, ни человек, / Ни то ни се, ни житель света, / Ни призрак мертвый… Он стал составной частью стихии, между ним и околодвижущейся стихией нет границ. Он стал частью стихийного. Бывшее является постоянным состоянием его души. Смятение мысли не различает между живым и неживым. Вертикаль до сих пор была связана с первоначальной оппозицией «он — стихия», с высотой башен города. В конце повести вертикаль олицетворилась в Медном всаднике: Кто неподвижно возвышался / Во мраке медною главой, / Того, чей волей роковой / Под морем город основался… / Ужасен он в окрестноймгле / Какая дума на челе / Какая сила в нем сокрыта!
Антиномия творца, творческой удачи — и человека как образца творческой неудачи слита в одно художественное целое, в котором сквозь властную думу творца и удачу просвечивает совершенный его антипод — трагедия творческой неудачи человекатворца, который не смог предвидеть последствий своих поступков. Творческая удача просвечивает неудачей, как лицо Петра I просвечивает здесь лицом Евгения. В приведенной антиномии выступают на первый план не отдельные протагонисты, а воссоздаются существенные отношения противоположных смысловых полюсов и их действий, которые и представляют собой художественную концепцию, не заранее придуманную, а постоянно рождающуюся, возникающую, меняющуюся, способную вызвать игру смысла. В этом и заключается суть художественного стремления Пушкина — вызвать ситуацию «на берегу» и посмотреть на действительность как на пограничное явление между творческой удачей и неудачей. Сквозь ситуацию «на берегу» одновременно просвечивает «да» и «нет», творческая удача и неудача. Таким образом в повести «Медный всадник» встретились три творца — Бог, который установил мировой порядок, творец земной оппозиции Петр I, который «отгородил стихию искусственным берегом и противопоставил стихийному принципу принцип упорядоченности ума, и творец-художник, который воссоздает образ города как пограничного явления, в котором встречается антиномия творческой удачи и неудачи как явления, в котором одновременно действуют «да» и «нет». Если усматривать в художественном мире поэмы «Медный всадник» треугольник взаимно просвечивающих значений Бога-творца, творца-человека и творца-художника, то с точки зрения творческой удачи/неудачи была создана на основе приведенной неоднозначности и многозначности эстетическая ситуация, смысловой потенциал которой способен воссоздать сложность человеческой творческой деятельности, его вершины и сомнения в пространстве необъятной космической стихии.
Если в повести «Медный всадник» авторитету деятельности Петра I была противопоставлена неограниченная природная стихия, то творцу и творческому усилию Ивана Петровича Белкина было противопоставлено его собственное произведение как пародия.
Творческое усилие Ивана Петровича Белкина как бы повторяло широко известные жанры романтической или сентиментальной литературы. Как творец он стремится выполнить то, что от него ожидается, — создать-пересказать привлекательную повесть с мотивами таинственного приключения, смутной тайны, туманной сцены, загадки, написанную в духе литературных схем то сентиментализма, то романтизма. Но его усилие честно стремится как можно лучше выполнить ожидаемую эстетическую норму, выполнить эстетический идеал, который читатель ожидает. Читательские ожидания были удачно выполнены, и произведение Ивана Петровича можно считать творческим успехом. Были созданы привлекательные повести с огромным чительским откликом. Но вводное вступительное слово как бы от редактора вносит в цикл повестей совсем другой взгляд. Дана вступительная характеристика И. П. Белкина, который показан не как творец, а как интеллектуально ограниченный писец, который дословно, без таланта переписывает услышанные истории в духе общеизвестных литературных норм. С одной стороны, своим пересказом он повторяет услышанное, становится его аккуратным посредником, с другой стороны, услышанное совпадает с его представлениями о литературе и о литературных приемах, и, если бы нс было предисловия, в этом духе бы это прочитал и читатель. Но читатель встречается с рассказчиком, мнимым редактором, и начинает воспринимать белкинскую ситуацию по-другому: с одной стороны, редактор выступает с откровенными утверждениями насчет создания повестей, с другой стороны, чувствуется, что он как-то притворяется, что за наглядной маской серьезности скрывается другое лицо. С одной стороны, он оправдывает ожидания читателя, с другой стороны, разворачивается параллельный план, который ставит общеожидаемые и всеобщеизвестные схемы и нормы под сомнение. Белкин как бы пишет свои повести, а редактор как бы всерьез повторяет дух их серьезности. Но в повторе (редакторском введении) редактор намеренно делает очевидные логические ошибки, которые начинают вызывать недоумение, недоверие, сомнения в подчеркиваемой серьезности повествования. Эта очевидно подчеркиваемая серьезность, которая повторяет белкинский дух прямолинейного человека с интеллектуально и эстетически ограниченным авторским замыслом, вызывает комический эффект: редактор настолько подчеркивает серьезность, что все становится комическим. Своим комментарием он пародирует серьезное «лицо» белкинского текста. Таким образом, на первый план начинает выступать не раскрытие тайны повести, а ответы на вопросы о настоящем лице и замысле рассказчика2.
С этой точки зрения на первый план выступает не то, чему уделяется центральное внимание (например, загадка о бывшей истории Сильвио или о его возможных будущих решениях), парадоксально большое внимание уделяется графу, который своим поступком осмеял нормы дворянской и офицерской жизни, которые Сильвио с такой непоколебимой и упрямой серьезностью стремится соблюдать. Таким образом, ключевым поступком, например, в повести «Выстрел» является не «ответ» Сильвио, а поступок графа, который можно считать насмешкой над всем традиционным и ожидаемым. Смешными являются, наоборот, сила, серьезность, жизненная задача, излишество сил, упорство концентрируемых сил, которые протипоставлены шутке, смеху, насмешливости. «Ответ» Сильвио как-то своим избыточным накоплением сил не соответствует первоначальному импульсу.
Таким образом, творец Белкин достиг своей творческой удачи в смысле повторения услышанного, воссоздания ожидаемых литературных схем, но эти литературные нормы были почти незаметно повторены еще один раз якобы серьезным комментарием редактора, который, повторяя серьезно выглядевший текст, разработал параллельный эстетический план пародии, на основе которого подверг сомнению трактовку ограниченного авторского замысла Ивана Петровича Белкина и его серьезности и осмеял защиту серьезности от смеха. С точки зрения Пушкина, текст достигает того, чего достигла и поэма «Медный всадник». Он поставил под сомнение ожидаемые результаты (в данном случае серьезность Белкина). Текст с ограниченным эстетическим авторским замыслом порождает параллельный пародийный фон, и сквозь каждый образ повестей просвечивает одновременно его возможный пародийный пандан — парная противоположность, пародийный образ, который его своим значением дополняет, когда одновременно в значении сохраняются оба равноценных аспекта значения. Творческий успех «Повестей Белкина» был включен в новый эстетический контекст творческим видением Пушкина.
Кажется, что после Пушкина появилось много героев, которые считают свое поведение своеобразным творческим поступком в диалоге с общепринятыми нормами. После А. С. Пушкина можно найти много вариаций этой темы в русской литературе XIX— XX вв. Есть творческая удача Черткова в «Портрете» Н. В. Гоголя и его падение как художника, можно заметить новые шаги в неизвестность господина Голядкина в «Двойнике» Достоевского, героя «Записок из подполья», или попытку Раскольникова взять в свои мнимо «сверхчеловеческие» руки судьбы других людей и вступить в диалог с пространством, принадлежащим только Божьему провидению. Герой «Красного цветка» В. Гаршина стремится своим поступком и уничтожением символа крови исключить мировое зло. Творческой удачей «Д 503» Е. Замятина как строителя космического интеграла мог бы казаться его личный технический успех и работа для Единого Государства Мы и его Благодетеля. Творческая задача инженера была осуществлена, но оказалось, что настоящая удача или неудача складываются для человека как-то иначе, в каком-то другом плане. Своеобразие героев-творцов Булгакова, Платонова или Пастернака представляет самые высокие достижения этой темы в эстетике русской литературы и предполагает детальный анализ. Но, можно сказать, что в случае книги Мастера о Понтии Пилате или стихов доктора Живаго представлено высшее художественное достижение эстетики приведенной темы и диалог на самом высоком духовном уровне.