Возвышенное и искусство
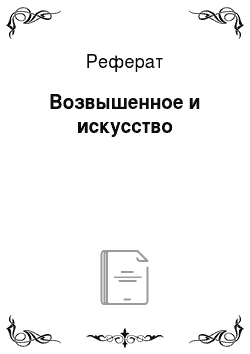
Мы выявили отношение возвышенного чувства к структуре субъекта, понимаемого как удостоверяющее и созидающее начало мира, и можем соотнести возвышенный опыт с понятием гения в эстетическом смысле, как того, кто извлекает образы из себя и дает искусству правила, в то же время не совершая ничего преднамеренного или рационально продуманного. По сути, можно сказать, что он извлекает образы и правила… Читать ещё >
Возвышенное и искусство (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мы выявили отношение возвышенного чувства к структуре субъекта, понимаемого как удостоверяющее и созидающее начало мира, и можем соотнести возвышенный опыт с понятием гения в эстетическом смысле, как того, кто извлекает образы из себя и дает искусству правила, в то же время не совершая ничего преднамеренного или рационально продуманного. По сути, можно сказать, что он извлекает образы и правила из ничего, как некий Бог в первичном акте творения. Этот субъект-творец пребывает в возвышенном состоянии, ибо обнаруживает в себе нечто бесконечное, другим обозначением которого может стать отсутствие любых конечных форм, любого оформленного бытия, т. е. ничто, смерть всех конечных форм. Смерть здесь оказывается источником любой жизни, которая превращается в итоге свободного творческого акта в художественное произведение субъекта. Теперь нам нужно внимательно рассмотреть отношение понятия возвышенного к самому этому итогу, т. е. к искусству или к жизни, понятой как искусство.
Как уже упоминалось, Кант, анализируя понятие возвышенного, относит это чувство исключительно к столкновению с предметами природы в ее абсолютной величине или абсолютной мощи. Однако далее мы видели, что возвышенное чувство вызывается также идеями и явлениями человеческого мира. Кроме того, нам следует помнить, что сам Кант, скорее всего, с большей частью перечисленных им «возвышенных» предметов, как то: бушующие океаны, извергающиеся вулканы, величественные горные пейзажи и т. п. — исходя из его биографии, должен был сталкиваться исключительно через посредство изображений, литературных или художественных.
Чем объяснить это ограничение на распространение понятия возвышенного в сферу искусства? Возможно предположение, связанное с характером искусства, известного Канту, т. е. искусства XVIII в., изящного искусства секуляризированной аристократии, что искусство всегда есть создание законченной формы (а значит, само определение чувства возвышенного как относящегося к бесформенному не дает нам распространить его на искусство). Подобное представление об искусстве является ограниченным и разрушается наступающей эпохой романтизма. Однако собственные высказывания Канта настолько отчетливо указывают на начала романтизма, что, как можно предположить, ограничение применимости понятия возвышенного к искусству определяется чем-то другим. Кстати, последующие концепции, затрагивающие вопрос о возвышенном, по мере превращения эстетики в философию искусства естественным образом связывали возвышенное также с художественным опытом.
Однако кантовское ограничение дает нам понять нечто существенное об искусстве и новом понимании искусства, сложившемся со времен романтизма. Кант, рассуждая относительно условий возникновения возвышенного чувства, говорит, что вызывающий его мощный или величественный предмет должен находиться на безопасном расстоянии. При уменьшении этого расстояния любое эстетическое суждение, будь то суждение о прекрасном или о возвышенном, исчезает, вытесняясь животным страхом.
Представления о «безопасном расстоянии» весьма субъективны, и кто-то может испугаться изображения, а кто-то будет чувствовать силы к эстетическому восторгу, находясь в гуще событий, например в утлой лодке, плывущей по бурному океану. Однако важно, что сам этот страх происходит из свойства, присущего только природе, но не искусству: из ощущения реальности происходящего. Другими словами, предмет, который вызывает в нас возвышенные чувства, является реальностью, а не иллюзией. В то же время, как мы помним, чувство прекрасного существует только на уровне иллюзорности. Тем не менее в случае с возвышенным (возможно, потому оно и не есть для Канта чистое эстетическое суждение) ощущение реальности практически необходимо: если это реальность не самого предмета, то хотя бы той идеи разума, с которой мы соотносим его созерцание.
Что касается искусства, то последнее легко может вызывать возвышенные чувства, поскольку мы воспринимаем в нем изображение предмета, который и в реальности вызывает возвышенные чувства. Безусловно, потребность в изображении предмета как возвышенного не может не влиять на формы искусства, ведь оно должно изобразить предмет так, чтобы он намекнул на бесформенное и вызвал в душе отсылку к идее бесконечности, при этом само искусство как таковое не перестает быть законченной формой.
В отношении к возвышенному искусство задает безопасное расстояние, с которого мы можем созерцать ужасающий предмет. Но делает ли это само искусство источником возвышенного чувства? Ведь как художественная форма и эстетический объект искусство — не реальность, но иллюзия. Мы чувствуем себя в безопасности, пока понимаем, что созерцаемое жуткое есть вымысел, и пребываем в некоем оцепенении; Сартр называет его «воображающей позицией сознания», которая подобна сну или фантазму. Если бы мы утратили эстетическую отстраненность и восприняли бы происходящее как реальность, то граница между воображаемым и реальным стерлась бы и мы бы испытали подлинный ужас, но в этот момент мы уже не воспринимали бы созерцаемое как искусство (см., например, рис. 10.1).
Вопрос в том, возможно ли такое искусство, которое, именно воспринимаясь как искусство и именно тем, что оно есть искусство, сообщает нам возвышенное чувство, т. е. искусство, являющееся бесформенным?
Шопенгауэр, описывая систему искусств исходя из оснований своей концепции, утверждает, что все искусства дают чувство освобождения и покоя, переводя нас на ту самую сновидческую позицию созерцания, потому что отсылают не к воле, но к чистым представлениям как первичным объективациям воли, противопоставленным самой воле как закону мотивации и желания. Это прекрасные искусства. Однако из всех искусств он выделяет одно и ставит его особняком — музыка. Ее он связывает с действием категории возвышенного. Встречаясь с возвышенным, мы сталкиваемся с ужасающей реальностью, с реальностью воли. Музыка, являя собой, по Шопенгауэру, возвышенное искусство, не усыпляет нас, дабы мы безвольно созерцали прекрасные образы, но держит в постоянном, мучительном осознании воли в самой ее сути (а сутью ее является неутолимость желания). Шопенгауэр говорит, что музыка, как и весь мир, является воплощенной волей, но именно в музыке воля достигает осознания своего страдания и неудовлетворенности.

Рис. 10.1. Эжен Делакруа (1798—1863). Ладья Данте (Данте и Вергилий в Аду). 1822.
Итак, музыка выражает волю, но она является возвышенной именно постольку, поскольку воля предстает в страдании, в осознании; она может быть охвачена как целое и тем самым преодолена. Лишь сознательная душа испытывает подлинно эстетически возвышенное чувство, слушая музыку. Для души, неспособной к такому рефлексивному устранению, музыка является силой поглощающей, как поглощает ее и воля. Подчинение музыке есть то же, что подчинение воле. Музыка завораживает, вводит в транс, вбирает в неосознанный темный поток желаний. Она и есть желание. В этом смысле по отношению к музыке трудно сохранить «безопасное расстояние», словно по отношению к наркотическому веществу, стирающему сознание и погружающему в некую реальность, которая ощущается более реально, чем вся наша повседневная хорошо структурированная и условная реальность. Музыка как возвышенное может существовать лишь в узком эстетическом зазоре, создаваемом ее мелодической структурой. Мелодия, исполненная от начала до конца, есть «история освещенной сознанием воли», и именно это делает музыку возвышающей, превращает в средство познания. Другими словами, в мелодической музыке, музыке оформленной, осознанной, мы достигаем баланса между ужасом воли как «вещи-в-себе», реальности мира, и нашей способностью охватить ее сознательным взглядом. Здесь, по сути, оформленносгь и есть возвышение; мелодия развертывается в субъекте как нахождение бесконечной идеи в себе, т. е. как процесс рефлексии, составляющий историю его становления.
Эту мысль еще более отчетливо формулирует Фридрих Ницше в работе «Рождение трагедии из духа музыки» (1872, переиздана в 1886 под заголовком «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм»), также указывая на опасность погружения в оргию дионисийского экстаза без надежды на пробуждение. Ницше называет это свойственным «варварскому сознанию», которое захвачено реальностью и неспособно к эстетическому суждению. Рефлексивное сознание обретает ценность и глубину именно в возвышенном состоянии, где осуществляется столкновение «двух богов», Аполлона и Диониса. Аполлон есть начало порядка, рационального постижения, красоты и гармонии форм, а по сути — сновидческой иллюзии, первой из которых выступает, по Ницше, сама воспринимаемая нами как прекрасный космос эмпирическая реальность в совокупности своих слаженных законов. Дионис же опьянением срывает все формы, сметает их, погружая в хаос, который есть реальность жизни против иллюзии порядка, что для любой индивидуальной формы есть разрушение и смерть.
Однако именно возвышение, дарованное рефлексией, способствует спасению жизни, красоты, порядка форм от разрушительной силы хаоса. Все эти формы признаются теперь иллюзорными, условными, временными, но в этом новом, постигшем хаотичную реальность жизни и в то же время способном к порождению упорядочивающих структур сознании они утверждаются как достойные своего краткого, временного существования в качестве прекрасных иллюзий. Это новое утверждение и есть искусство, спаситель жизни, утвердитель бренного. В то же время такое искусство содержит в себе осознанность бренности, составляющую в нем трагический элемент. Это трагическое искусство есть порождение трагического мышления, которое только и может быть сверхчеловеческим, или утверждающим абсолютную ценность действия, не имеющего, кроме него самого, никакого иного смысла. Такое искусство в подлинном смысле является возвышенным, хотя Ницше видит проявление этого спасительного принципа и в трагедии, и в комедии:
«Здесь, в этой величайшей опасности для воли, приближается, как спасающая волшебница, сведущая в целебных чарах, — искусство; оно одно способно обратить эти вызывающие отвращение мысли об ужасе и нелепости существования в представления, с которыми еще можно жить; таковы представления о возвышенном как художественном преодолении ужасного и о комическом как художественном освобождении от отвращения, вызываемого нелепым. Сатирический хор дифирамба есть спасительное деяние греческого искусства; о срединный мир этих спутников Диониса разбивались описанные выше припадки угнетенного душевного состояния»[1].
Таким образом, мы можем заключить, что форма искусства здесь может быть носителем возвышенного чувства, ибо в ней присутствует сама суть субъективности, а самосознание субъекта-творца осуществляется непосредственно в акте искусства, а не в эстетической рефлексии над ним.
Поскольку носителем возвышенного является именно музыка ввиду характерных свойств ее построения и воздействия, то неудивительна мысль философа культуры и автора знаменитой книги «Закат Европы» (1918— 1922) Освальда Шпенглера (1880—1936) о том, что как раз в музыке находит воплощение европейская «фаустовская» душа. Неудивительно и то, что создание системы мелодической музыки, выражающей чувства, — тонально-гармонической музыкальной системы, — музыки как светского искусства, притом искусства авторского в подлинном смысле художественного творчества, принадлежит также Европе Нового времени. В этом смысле музыка будет не одним из искусств, но выражением особенности восприятия всей эпохи, или предельным выражением специфически эстетического восприятия.
Будучи чуждой каким-либо представлениям или образам, выступая только как временное искусство, музыка близка к представлению о бесформенном, находится в постоянном ускользании от ухватывающего ее воображения, разворачиваясь как история (хотя в конечном счете сознание может охватить ее как мелодическую конструкцию в целом). Музыка, таким образом, является бесформенной, сохраняя при этом прекрасную завершенность, которая и есть кульминация возвышенного состояния. Э го делает сам способ восприятия, зафиксированный Ницше как диссонанс мировых начал, переводящий внимание с содержания на форму искусства как на осуществление бесконечного рефлексивного акта, исторически развертывающимся, подвижным, направленным, или, можно сказать, полностью сводимым к погоне за невыразимым или непредставимым.
С такой точки зрения с критикой подобного способа восприятия и подобной формы искусства выступает Ж. Ф. Лиотар, различая эстетику «модерна» и «постмодерна» в рамках изначальной констатации того, что вся современная эстетика и есть эстетика возвышенного, а значит, имеет отношение к непредставимому. Вот эта погоня, временное развертывание, фиксируемое в музыке и ставшее особо значимым в эпоху модерна, приводит к разрушению всех возможных форм, опрокидыванию их в ничто: прекрасного изображения — в какой-нибудь черный квадрат или пустой холст, музыки — в паузу, как, например, в знаменитом произведении для вольного состава исполнителей «4'33» «(1952) Джона Кейджа, запись которого сводится к паузе длиной в 4 минуты и 33 секунды по метроному.
Цитата, Но словам Лиотара, эстетика модерна выступает как «ностальгическая; она допускает указание на непредставимое лишь как на какое-то отсутствующее содержание, в то время как форма благодаря своей устойчивости и узнаваемости продолжает предлагать читателю или зрителю повод для утешения и удовольствия. Но чувства эти не составляют подлинного возвышенного чувства, которое есть некое сокровенное сочетание удовольствия и боли: удовольствия от того, что разум превосходит всякое представление, и страдания от того, что воображение или чувственность не в силах соответствовать понятию»[2].
В беге, временном развертывании отчетливо прослеживается расхождение между красотой формы и непредставимостью содержания. Произведение искусства должно удержаться на этой грани, дабы, по словам Ницше, мир мог быть оправдан как эстетический феномен (а только как таковой он и может быть оправдан, согласно Ницше). Такое искусство, в которое опрокидывается погоня за непредставимым, его блокировка, торможение, некий «бесконечный тупик», уже не может быть бегом, расслаивающим форму и содержание, прекрасные образы и бесконечность их творческого источника, словно явления и «вещи-в-себе». Здесь модерн прерывается и начинается постмодерн:
«Постмодерном окажется то, что внутри модерна указывает на непредставимое в самом представлении; что отказывается от утешения хороших форм, от консенсуса вкуса, который позволил бы сообща испытать ностальгию, но невозможному; что находится в непрестанном поиске новых представлений — не для того чтобы насладиться ими, но для того, чтобы дать лучше почувствовать, что имеется и нечто непредставимое»[3].
Непредставимость перемещается в представление, тем самым одновременно создавая и разрушая его. Она возникает в нем как разрыв, в котором, однако, не просвечивает более никакой тайной сути, даже если эта тайная суть — сам субъект в его радикальной негативности. Субъект терпит крах как точка схождения внесубъективных структур, которые тем не менее только через это схождение начинают действовать. Неиредставимость переносится из глубинного плана «вещей-в-себе» в поверхностный план, становясь парадоксальным отсутствующим элементом, «поломкой» структуры, благодаря которой она и приходит в действие, но которая одновременно и пресекает возможность действия. Возвышенное в описываемом Лиотаром постмодернистском искусстве есть явственно проступающее в нем ощущение, что искусство не является чем-то возможным, а именно его невозможность и составляет самую суть искусства. Такое искусство уже лишено способности обладать прекрасной формой. Вся его форма состоит в том, чтобы не быть формой искусства, так что зритель вынужден отрицать его как искусство. Однако такое отрицание осуществляется именно исходя из того, что предмет воспринимается как искусство.
Здесь можно сослаться на инсталляции в стиле ready made, которые, как уже говорилось, создаются в качестве искусства как бы искривленным пространством музея, требуют особой организации пространства для своего существования и преобразуют все, попадающее в это пространство, так что все теряет свои привычные характеристики. Но не надо понимать это пространство неким мистическим образом как онтологически иное. По сути, оно создается парадоксом восприятия: качество искусства предметы здесь приобретают посредством обнаружения того, что они искусством не являются. Именно этот диссонанс отношения к искусству, в который простые вещи, названные произведениями, вступают, создает тот сбой, разрыв, который оказывается непредставимым внутри самого представления.

Рис. 10.2. Казимир Северинович Малевич (1878—1935). Черный
квадрат. 1915
Обнаружить в этих вещах специфические черты искусства, особости, отделенности от мира обычных вещей, как, например, некую особую, неповторимую, «гениальную» черноту «Квадрата» Малевича (рис. 10.2), означает разрушить их в качестве искусства.