Вопрос о смердах
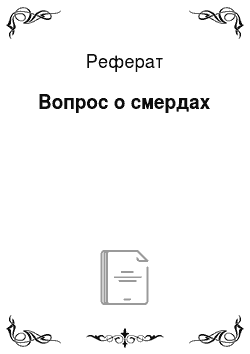
Толкование В. И. Сергеевича насилует текст. 123-я статья ясно говорит о жене, что она не участница в наследстве мужа: «а задница ей мужня не надобъ», но предоставляет ей иные права: «на ню часть дати (Кар.: „а у своихъ дЪтей взять часть“), а что на ню мужь възложить (възложилъ) тому же есть госпожа». Часть, взятая у детей, и полученное от мужа стоят отдельно от «задници мужней», не входя… Читать ещё >
Вопрос о смердах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Сложный и спорный вопрос о древнерусских смердах неотделим от общей темы этого очерка, посвященного характеристике сил, на которые опиралось личное и не зависящее от вечевой общины положение и влияние князя в земле-княжении. Выше уже приходилось касаться некоторых данных относительно смердов[1][2]. Не повторяя того, что там отмечено, остановлюсь прежде всего на толковании статей Русской Правды о наследстве смердов.
Надписание этих статей— 117-й и 118-й — Пространной Правды в разных списках различно. Одно, «о задницЪхъ», может быть отнесено ко всем следующим статьям, трактующим о наследстве, другие, «аже умреть смердъ», «о смердьи статкЪ», «о смердьи задници», выделяют тему ближайшего текста двух статей. А гласит он так: «Аже смердъ умреть (без дЪти, безажю), то задницю князю (то князю задница); аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на нЪ; аже будуть за мужемь, то не даяти части имъ».
В этом тексте М. Ф. Владимирский-Буданов видит ргт1е- %ит осВоэит [печальное преимущество] в порядке наследования смердов, отличающее его от того, какой существовал для бояр и «людей»[3].
В. И. Сергеевич, предпочитая и тут чтение списка Дубенского («аще смердъ умреть безажю, то князю задница»), признает это положение общим правилом о судьбе выморочных имуществ, отрицая связь между ним и следующими словами о «части», даваемой дочери[4].
Оба мнения имеют предшественников. Общим законом о выморочности считал статью о смердах П. П. Цитович[5] из личной зависимости смердов выводил права князя на их наследство В. Н. Никольский[6]
Существенные различия встречаются в понимании не только взаимного отношения наших статей и широты их значения, но и самого их смысла. Идет ли речь при «безатщине» смерда об отсутствии у него сыновей или детей обоего пола? Что такое «часть» незамужней дочери?
Рассматривая статью о дочерней части как независимую от условий выморочности, В. И. Сергеевич признает ее противоречащей ст. 125: «аже будеть сестра въ дому, то той задницЪ не имати, но отдадять ю за мужь братья, како си могуть». Противоречие в том, что ст. 125 отрицает за дочерью право на часть в наследстве, а 118-я, по мнению В. И. Сергеевича, вводит «византийское начало», назначая дочери часть, равную части братьев, подобно тому как ст. 123 говорит о части жены, равной, по тому же толкованию, части детей.
Толкование В. И. Сергеевича насилует текст. 123-я статья ясно говорит о жене, что она не участница в наследстве мужа: «а задница ей мужня не надобъ», но предоставляет ей иные права: «на ню часть дати (Кар.: „а у своихъ дЪтей взять часть“), а что на ню мужь възложить (възложилъ) тому же есть госпожа». Часть, взятая у детей, и полученное от мужа[7] стоят отдельно от «задници мужней», не входя в ее состав. То же надо сказать и о дочерней части, следуя правильному приему В. И. Сергеевича, сопоставляющего ст. 118 и 123 для выяснения, что тут разумеет Русская Правда под «частью». Добавлю, что в том же значении употребляет это слово ст. 122, говоря, что наследство идет «всЪмъ дЪтемъ, а на самого часть дати по души». Часть — не доля законных наследников, а выдел из имущества известных средств для специальной цели: наделения вдовы, дочери или вклада на помин души. Размер ее не определен в Русской Правде; вероятно, он и не был безусловно определен обычным правом: «како си могуть» ст. 125 равносильно этому понятию «часть даяти на нЪ», «на ню часть дати»[8]. В Русской Правде нет тут противоречия, ее составитель понимал, что пишет, разумея под «частью» дочери или матери-вдовы долю движимого имущества, выделяемую им из общей массы наследства, переходящего либо к князю как выморочное, либо к сыновьям-наследникам.
Такое толкование делает неизбежным признание имущества смерда выморочным при отсутствии у него сына. Этому не противоречат даже те списки, которые говорят: «аще смердъ умреть без дЪти», так как продолжают: «аще будуть дщери». Тут шероховатость терминологии легко объясняется, если принять мнение В. И. Сергеевича, что «безъ дЪти» явилось толкованием устарелого древнейшего чтения «безажю».
При таком понимании статей о смердьем наследстве перед нами встает аналогия их со статьями о наследстве бояр-дружинников. Но там право князя на безатщину княжого мужа представлялось естественным объяснить из особенностей всего строя дружинных отношений, выросших из такого исторического корня, как княжой двор — огнище. Но как могло возникнуть право князя на безатщину смерда, умершего без сына-наследника?
В. И. Сергеевич дает простой ответ. Речь, по его мнению, идет о смерде как подданном, смерде в широком смысле слова и о праве князя на всякое имущество, оказавшееся выморочным в земле-княжении. Это заимствованное византийское право, именно то, какое формулировано в Эклоге: «si defuncti ne uxor quidem extat, tunc Universum ejus patrimonium veluti cujus nullus extat heres, fisco infertur» ["если у покойного нет жены, тогда вся его собственность передается фиску, как будто нет никакого наследника"]. Но если тут заимствование из Эклоги, то весьма свободное. Эклога выморочным признает имущество, на которое «nullus extat heres» ["нет никакого наследника"], а под наследниками, о которых речь идет непосредственно выше, разумеет не только нисходящее потомство, а кровных родственников вообще, при отсутствии которых допускает переход к вдове половины наследства, обращая другую половину в пользу фиска [9][10] а если и жены нет, то все наследство идет фиску. Что же взяла Русская Правда из Эклоги? Только самое понятие «fisco infertur» ["передается фиску"], отождествив фиск, «царское сокровище» славянского текста, с князем? Да и текст Эклоги, который мог быть под руками русских книжников, дает не то, что давал оригинал: «аще ли не жены будетъ умершему, и тогда все имение его или апостольская церковь или царское сокровище или людский соньмъ да прииметъ». По этому тексту не всякое выморочное имущество шло в казну, рядом с князем стоят церковь и еще «людский соньмъ», введенные славянским переводчиком, видимо не знавшим общего права князя на выморочные имущества. Славянская Эклога не могла подсказать князьям русским притязания на такие наследства-безатщины, и едва ли есть повод искать в статьях о них византийского начала.
Отклоняя византийское заимствование, которое само по себе ничего бы не объяснило в данной черте — не текста, а правового быта, остаемся перед открытым вопросом о происхождении княжого права на выморочное наследие смерда и отношении этого права к порядкам выморочности имуществ боярских или изгойских.
Объяснить происхождение этого права значит найти те отношения, которыми обусловлен переход имущества при отсутствии кровных наследников к князю. Первый вопрос, который следует поставить: могут ли быть указаны такие отношения князя к населению, на выморочные имущества коего он имеет право, которые сами по себе объяснят возникновение этого права? Только отрицательный результат подобных разысканий даст основание предполагать в этом праве искусственное учреждение, например заимствование со стороны.
«Право наследства, — читаем у М. Ф. Владимирского-Буданова[11], — возникает не из искусственного измышления, а коренится в совладении лиц, живущих в одном доме с наследодателем, разделявшим вместе труды приобретения имущества и право пользования им». Таков, действительно, исторический корень права наследства в частных имуществах, семейных: общность огнища и хозяйства. Но таков же, как мы видели, один из исторических корней права вождя дружины на наследство дружинника-огнищанина; его же можно отметить в праве князя или церкви на наследство вольноотпущенника-изгоя: принадлежность последнего к чужому хозяйству. Но таков лишь один из корней, на которых вырастает право о выморочных имуществах. Другим является защита.
Древние кровные союзы не только семейные и трудовые общины; они также союзы защиты. И возникновение права наследства связано не только с общностью дома, труда, хлеба и имения; оно связано также с правом и обязанностью взаимной защиты. Эту последнюю черту встречаем и в западном и в русском средневековом праве. Связь права наследования с местью за убитого, с правом получать за него виру известна по варварским правдам[12]. То же находим и в литовско-русском праве, где права на наследство и на годовщину подчинены одним и тем же нормам[13]. Представление об этой связи, столь естественной в организации каждого огнища, в том числе и княжого, пополняет существенной чертой характеристику как дружинных отношений, так и положения людей зависимых, в которых начала бытовой связи неотделимы от охраны и защиты по отношению к третьим лицам и общинам.
Гирке[14] сделал попытку объяснить возвращение выморочного имущества роду-племени (Sippe) помимо предположений о доисторическом родовом хозяйстве как следствие защиты и опеки племенного союза над отдельными членами, признавая, однако, и другой момент: уничтожение обособленного владения с превращением той семейной общины, ради которой оно существовало[15]. Между теми же двумя моментами — началом защиты и опеки или верховного права на территорию — колеблются объяснения права князя на земельные выморочные имущества. В этом вопросе о выморочных землях наиболее распространенным можно назвать мнение, что право на них князя выросло из презумпции, что ему принадлежит вся территория. Рихард Шрёдер[16] так объясняет ограничение франкским правом наследования салических земель, переходивших при отсутствии мужского потомства к королю: к тому же выводу пришли историки чешского права Челяковский[17] и Калоузек[18]. Теорию эту, соблазнительную по простоте и ясности, нелегко, однако, согласовать с фактом, что, например, в германском праве королю шли земли выморочные, лишь оставшиеся после крупных владельцев, военного класса, а крестьянские переходили к соседской общине[19]. Одно это обстоятельство должно бы заставить исследователей искать объяснения изучаемого явления на ином пути: не в отношениях князя к территории, а в отношениях его к тому разряду владельцев и имуществ, какие имеет в виду княжое право на выморочные имущества, притом не только земельные, но прежде всего движимые (статки).
Еще труднее приложить эту теорию к русским древностям. У нас нет основания даже предположительно говорить о воззрении на древнерусского князя как на владельца всей земли в X—XII вв. К тому же Русская Правда именно относительно смерда говорит не о земле, а о «статках» выморочных. И ответа на свой вопрос можем искать лишь в положении смерда по отношению к князю.
Лешков, Никольский, Цитович смотрели на смердов как на «людей князя», стоящих в особой, частноправовой зависимости от него. Никольский сопоставил их с прониарами сербскими и кметами польского права, проводя, с другой стороны, аналогию между древнерусскими боярами и властелями Душанова «Законника». Цитович, отмечая аналогичные черты в положении относительно князя бояр-дружинников и смердов, видит в последних изорников-наймитов княжого хозяйства, состоящих в особой защите князя и связанных с ним условиями своего экономического быта 310. В. И. Сергеевич считает смерда Русской Правды подданным в широком и общем смысле слова, а Владимирский-Буданов занял среднее положение, признавая, что «в княжествах, при тогдашнем смещении частного права с государственным» «земли общинные считались государственными и смерды, населявшие их, были смердами князя» зм.
В наших источниках нет никаких указаний на то, чтобы в древней Руси общинные земли считались государственными; нет основания вводить эти понятия в характеристику древнерусского быта. Если мы позднее встречаем «смешение частного права с государственным» и представление о «земле великого князя», на которой только пожни и пахоты населения, то задача историка — найти в древнем периоде явления, обусловившие и подготовившие эти позднейшие понятия и отношения. Переносить на всю древнюю Русь наблюдения, получаемые от времен удельного строя или порядков новгородских, псковских, времен расцвета своеобразного уклада жизни севернорусских народоправств, не значит разрешить эту задачу. И прежде всего нет у нас оснований строить объяснение положения смерда на отношениях поземельных. С одной стороны, свидетельства о смердах не говорят о том, чтобы они сидели на княжой земле, с другой — свидетельства о княжих дворах и селах, грамоты о даровании земель духовенству не указывают смердов на землях княжеских. Не в поземельных, а в отношениях властной опеки зависимости, с одной стороны, и повинностей — с другой, корень нашего вопроса.
- 3.0 «Имущества смерда и князя представляют какую-то слитость, или по крайней мере на некоторые вещи князя ложится такой характер, как будто они находятся в обладании смерда». Цитович разумеет прежде всего статью о княжом и смердьем коне, сопоставляя эту 9-ю статью Правды Ярославичей («.. а за княжь конь, иже с пятномъ, 3 гривны, а за смердий 2 гривнЪ» и т. д.) с 72-й статьей Пространной Правды («. .аже у господина ролейный закупъ, а погубить воиский (свойский, воиньский) конь, то не платити ему»), и полагает, что оба коня ст. 9 — княжие, быть может боевой и рабочий, и, во всяком случае, они оба — в одном стаде, «одинаково находились в пределах княжеского двора, дома, хозяйства»
- 3.1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор. С. 37. Предполагая «тогдашнее смешение частного права с государственным», Буданов примыкает, по-видимому, к мнению о древнем князе как собственнике всей земли?
Разрешение его представляет трудности почти непреодолимые. Вопросу о древнерусских смердах суждено, по-видимому, оставаться крайне спорным — надолго, быть может навсегда. Причина тому в скудости данных, какими располагаем: несколько случайных упоминаний в летописи да тексты Русской Правды. Позднейшие источники почти ничего не дают: они сводятся к редкому упоминанию о смердах в грамотах западнорусских, столь же исключительному, как встреча с термином «смерд» на польской почве — в Силезии, в земле краковской. Богаче впечатления, какие имеем от новгородских и псковских смердов (о них речь была выше).
Из совокупности данных ясно одно: смерды — сельское население, земледельческое, противополагаемое горожанам 312.
Кроме того, это термин, вымирающий на наших глазах. Поздние пережитки терминологии, еще знающей его, дают ему то же значение. В Западной Руси «это название, по-видимому, прилагалось только в массе рядового тяглого крестьянства и не простиралось на высшие разряды „ремесленных“ крестьян, людей вольных, служивших с своих земель военную службу наряду с слугами и юридически им равноправных»3,э. На польской почве встречаем изредка смердов в составе зависимого сельского населения, раздаваемого вместе с землей церковным учреждениям зм.
Разногласия научной литературы в определении положения древнерусских смердов зависят прежде всего от недостаточности данных, притом отрывочных и разбросанных по времени на несколько столетий. Эволюция этого положения и смысла самого термина остается скрытой. А между тем то, что дают нам источники, едва ли может быть понято, помимо предположения, что в них отразился процесс разложения первоначальных отношений[20][21]
или, по крайней мере, ряд коренных изменений в их складе. Указание на первоначальный строй этих отношений вижу в том положении смердов новгородских и псковских, какое сохранилось в существенных чертах до падения вольности Новгорода и Пскова. Это строй властвования городского центра над сельским, а первоначально и пригородским населением земли-волости. Городская власть налагает на это население ряд повинностей, собирает с него дань. Власть эта — власть князя. На севере она постепенно падает, обращаясь из самостоятельной власти в орган вечевой общины. Но если княжой суд над населением стал на севере земским, а повинности, как, например, городовое и мостовое дело, функцией земского управления, то даже здесь князь сохраняет право на дань смердов и ближайшую обязанность «блюсти смердов». Эволюция политического быта новгородского подорвала для князя возможность опереть на власти своей над сельским населением политическую силу, которая была бы независимой от городской общины, и новгородцы ревниво следили за тем, чтобы эта власть не выродилась в личную зависимость, чтобы смерды новгородские не стали «людьми князя».
На юге отношения должны были сложиться иначе: тут центральная власть в земле-волости была и осталась княжой. Вече главного города и городские власти, которые также остались княжими, не стояли во главе управления всей земли. Киев, Чернигов и другие «стольные» города никогда не управляли пригородами и волостями так, как управлял своими владениями господин Великий Новгород. И то особое, ближайшее отношение к управлению смердами, какое отчасти сохранилось за князем даже на новгородском севере, получило на юге особое развитие и приняло особый характер, нашедший свое выражение в Правде Ярославичей и в сохраненных Пространной Правдой правилах о статках и безатщине смерда.
Так ставится для меня вопрос о положении смердов в Южной Руси. Но выяснить его сколько-нибудь детально не позволяют скудные данные. Нет у нас сколько-нибудь наглядных сведений о шедшей князю дани; рассказ летописи о том, как Ян Вышатич в 1071 г. пришел на Белозерье, «дань емлюще», от князя Святослава Ярославича, едва ли не единственное конкретное на нее указание, если не считать княжих грамот, дающих церковным учреждениям волости «съ данью и съ вирами и съ продажами» или «десятину отъ даний и отъ виръ и отъ продажь, что входить въ княжь дворъ всего». Притом тут речь не о смердах с их специфическою данью князю. Смыслу этих свидетельств наиболее отвечает пояснение В. И. Сергеевича: «В памятниках встречается. .. слово „дань“, и некоторые исследователи думают, что везде под ним разумеется поземельная подать, т. е. один из видов прямых налогов; в действительности, однако, под данью разумеются всевозможные подати: все, что отдается в пользу князя, называлось данью» .
Не более знаем о том, насколько падало на смердов военное дело. Собранные выше сведения об участии смердов в военных действиях показывают, как мало осталось в «княжеской» Руси от доисторических всенародных племенных ополчений. По мере развития конницы уходили в прошлое походы в ладьях, падало значение пеших ополчений. Основа древнерусской военной силы XII—XIII вв. — конные полки дружины и воев, а смерды-пешьцы сидят в осаде, в походах же играют обычно роль передовых отрядов в бою да обозного люда. И конь смерда, идущий под дружинника либо под городского воя, важнее для княжой военной силы, чем сам смерд. Само по себе это явление должно свидетельствовать о начале крупной дифференциации в среде населения, подобно той, какая, предположительно, привела в Польше к возникновению класса влодык и в Западной Руси разряда слуг — панцирных, доспешных, путных и т. д. Но на исторические корни подобной дифференциации в Киевской Руси наши источники не дают никаких указаний, кроме упомянутых косвенных намеков[22][23]. Наконец, на городовое дело и мостовую повинность указывают ст. 126 и 127 Пространной Правды — об «уроцЪхъ» городнику и мостнику да новгородские аналогии.
Насколько положение князя относительно повинностей населения было на юге иное, чем в Новгороде XII—XIII вв., показывает известный летописный рассказ об установлении ловчего в Берестье. Раздраженный крамолой берестьян князь Мстислав Данилович спросил бояр своих: «Есть ли ловчии здЪ?» Они же отвечали: «Нетуть, господине, изъ вЪка». А Мстислав сказал: «Язъ пакъ уставливаю на нЬ ловчее за ихъ коромолу, абы ми не зрЪти на ихъ кровь», и уставил «ловчее на Берестьаны и в вЪкы»: с каждого ста — медом и хлебом, льном, овсом и рожью, овцами и курами, а с горожан — 4 гривны кун[24]. Князь устанавливает чисто «дворцовую» повинность на содержание «ловчаго пути» своего взамен заслуженной, по его мнению, берестьянами кровавой расправы. И речь идет тут не о смердах, а о горожанах берестейских и пригородных сотных людях: эти последние, надо полагать, — смерды, а Берестье князь трактует постарому как пригород. Правда, известие это позднее и свидетельствует, быть может, не столько о старине, сколько о выраставшем на ее почве новом, вотчинном укладе княжого властвования. Но оно, во всяком случае, бросает некоторый свет на условия, в каких развивалась княжая власть в Южной Руси.
Главный источник для заключений о положении смерда — Пра вда Ярославичей и некоторые статьи Правды Пространной. Прежде всего два слова о первом из этих памятников. Его заглавие «Правда уставлена Руськой земли егда ся совокупилъ Изяславъ, Всеволодъ, Святославъ» и т. д. исследователи относят довольно единодушно только к первым четырем статьям. Не понимаю почему. Вся Правда носит однородный характер в самом существенном содержании: это Правда княжая. Она говорит, во-первых, о вирах княжих мужей (огнищанина, ездового, тиуна, конюха старого) и пенях, идущих князю, за княжих старост (сельского и ратайного), за рядовича, смерда, холопа, кормилицу-рабу и кормиличича (ст. 1—8); далее говорит о продажах княжих по 12 гривен, 3 гривны, 30 резан и 60 резан — за разные преступления (ст. 12, 14, 15, 16, 22), о процентах с княжого судебного дохода в церковную десятину и княжим чиновникам, а также о корме вирнику и уроке мостнику (23—25). Это составляет 16 статей из 25. Остальные 9 распределяются на группы: 1) 11, 17, 18, 19, 20 касаются процессуальных правил, причем четыре из них (17—20) регулируют самоуправство в пользу суда княжого, 11 выдает свое случайное появление в данном тексте, повторяя 4-ю статью Древнейшей Правды, притом оборвав изложение, идущее там дальше в двух следующих статьях; 2) три статьи, 9, 13 и 21, определяют «уроки» за украденное имущество, причем в двух на первом месте стоит княжое имущество: его конь, его борть, а остальные уроки о скоте (ст. 9) названы в Пространной Правде (ст. 56) «уроци смердомъ, оже платять князю продажю».
Остается вне естественной связи ст. 10, подобно 11-й не дающая, по-видимому, полного текста[25]. Устраняя эти две сомнительные статьи, получаем такую постановку вопроса о содержании Правды Ярославичей: она вообще говорит о княжих доходах, но причем тут смерд и «уроци смердомъ»? Нет основания разрубать это затруднение пояснением, что в данном случае перед нами смерд в «широком» смысле слова. Напротив, место, какое смерды занимают в Правде Ярославичей, — ценное пояснение к обязанности новгородского князя «блюсти смердов». Это особое княжое блюденье сказывается в 14-й статье, где за «муку» смерда без княжого слова (по-латыни сказали бы: они in verbo regis) назначена пеня в 3 гривны, княжого мужа — 12 гривен (причем, по ст. 103 Пространной Правды, вознаграждение потерпевшему огнищанину и смерду одно и то же — гривна кун), а также в установлении княжим уставом «уроков», платимых за кражу скота у смерда[26].
Рядом с княжим «блюдением» смердов стоит пеня за убийство смерда, равная пене за княжого холопа, 5 гривен. Статья эта вызывает большие недоумения. В. И. Сергеевич, указывая, что за изгоя определена вира в 40 гривен, считает недопустимым, чтобы меньше изымалось за свободного смерда. На вопрос этот можно ответить действительно лишь тем или иным предположением. Можно принять во внимание, что за смерда платилась надо полагать, головщина, за изгоя же, по крайней мере первоначально, годовщины взимать было некому. Но этим вопрос не разрешился бы; едва ли разрешается он и протестом Н. А. Максимейка против «предвзятой мысли, что за всякого свободного человека платился штраф в 40 гривен» 32°. Быть может, всего естественнее предположить, что 5 гривен — это «урок», уплачиваемый сверх виры[27][28][29]. Как бы то ни было, существенным остается факт взыскания за смерда такого же вознаграждения князю, как за холопскую рабочую силу[30] Как ни естественным может представиться делаемое отсюда заключение, что смерд — рабочая сила княжого хозяйства и, стало быть, сидит на княжой земле (или на «общинной», считавшейся «государственной», что «при тогдашнем смешении частного права с государственным» вело к признанию смердов «смердами князя»), однако полагаю, что оно несколько поспешно и, так сказать, упреждает историческую эволюцию. Хозяйственную связь смердов с княжим двором осторожнее представлять себе основанной не на поземельных отношениях, а на системе повинностей, которыми они тянули к княжому хозяйству и которая стала источником и исходным пунктом позднейшего «окняжения» их земли.
По изложенному представлению об отношениях между князем и смердами эта часть населения входит в состав тех элементов, из которых слагалось особое «княжое общество», социальный организм особого уклада, служивший опорой самостоятельному положению древнерусского князя в земле-княжении. В этой связи становится понятным и право князя на выморочное имущество смерда, принципиально тождественное с его правом на наследство дружинника-огнищанина или изгоя.
- [1] Рядом с изгоями в упомянутой грамоте Ростислава Мстиславича находим ещеодну категорию зависимых людей: бортника, «капустника съ женою ^ съдътьми», которого князь дает епископу вместес огородом, «тетеревника съ женоюи съ дЪтьми». Не подлежит спору, что это люди не свободные. Но отождествитьих попросту с холопами мешают их специальные обязанности. Было бы правильнее причислить их к одной социальной группе с изгоями как людей, состоящихв личной зависимости и работающих на чужое хозяйство, но под условиемопределенных только повинностей.
- [2] См. выше.
- [3] Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор. С. 480.
- [4] Сергеевич В. Лекции. С. 546: «Это статья особая, и нет ни малейшего поводасливать ее с предшествующей». Однако «повод» дан словами «у него» и параллелизмом статей 117—118, 119—120.
- [5] Цитович П. П. Исходные моменты в истории русского права наследования. Харьков, 1870. У Цитовича это мнение стоит рядом с воззрением на смердовкак на княжих изорников или наймитов, людей, зависимых от князя как хозяина.
- [6] Никольский В. Н. О началах наследования по древнерусскому праву. М., 1859.
- [7] Эти черты Русской Правды считают по существу тождественными с следующими положениями «Польской Правды XIII в.» — ст. XXII: «Так же (раньшеречь шла о рыцарском наследстве — см. выше), если умрет крестьянин, не имеясына, его господин берет его имущество, но должен он дать женщине ее подушки
- [8] и ее покрывала и вещь, называемую депгсге, на чем спят, и некоторуюмилость надо ей оказать из имущества, то есть дать ей корову, или две-три, или больше (Л. или что-либо из другого скота, чем бы она себя содержала»; вдова может оставаться при сыне-наследнике. но если она пойдет вторичнозамуж, то сын дает ей названные вещи, а «милость» для него не обязательна:".. .хочет ли он ей дать что-либо другое — это в его воле". Русская Правдаидет дальше, признавая право вдовы получить часть от детей сверх того, что она получила от мужа, если она остается сидеть на мужнем дворес детьми (ст. 132—133); это последнее положение предполагает, по-видимому, случай раздела имущества (частичного), нс уничтожающего, житья водном дворе (ер.: Владимирский-Буданов М. Ф. Христоматия. Вып. 1.С. 73, примеч. 137; С. 75, примеч. 147, 148). О дочерях «Польская Правда"говорит: „. .оставил ли муж дочерей, их должен наделить, кто берет егонаследство, сын ли его или господин“. Ср. постановления Литовского статуса1529 г. о вдовьей части — раздел IV, ст. 2—5; о дочерней — ст. 8. т В последнем случае дочь подучает часть лишь при выходе замуж, по ст. 125, или при разделе. Замечу еще, что равенство прав в наследстве дочерейс сыновьями плохо согласуется с выключением из него дочерей замужних.
- [9] П. 8 титула XVIII: „.. .quod si nulli etiam propinqui sunt, at uxor defunctisuperest: in semissem totius ilia patrimonii succ? d?t, altero semisse fisco infe-rendo“ [».. .если же у покойного нет никаких близких, но супруга жива, пустьона наследует половину той собственности, другую половину должно передатьфиску>); затем идет п. 9, приведенный выше.
- [10] Печатной Кормчей, гл. 49, царя Леона и Константина
- [11] Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор. С. 481.
- [12] По Салической Правде (титул 60), кто отрекается от родства, теряет faida, compositio и hereditas [право на вражду, виру и наследство], которую fiscusadquirat [приобретает казна]. ПоТюрингской Правде, право мести, вергельди земля переходят к одному и тому же родственнику, и т. д.
- [13] Статут 1529 г., артикул 13, раздел VII.
- [14] Gierke О. Erbrecht und Vicinenrecht.
- [15] «Das Sonderrecht hatte mit dem Hausstande selbst, f? r den es da war, sein Endeerreicht» («Особое право достигло своего конца с самой семейной общиной, для которой оно существовало"].
- [16] Schr? der R. Die Franken und ihr Recht //ZSSR. GA. 1894. Bd. 15.
- [17] Celakowsky Jar. Pr? vo odumertne v Cechach. Praha. 1882.
- [18] Kalousek J. О start? eskem pr? ve odumertnem na statcieh svobodnych vCechach i na Morave. Praha, 1894. Челяковский указывает на различиесудеб выморочных недвижимостей по городскому и земскому праву. В земском праве они идут князю, „как вождю народного племении господину земли, которому принадлежали все незаселенные или покинутые имения“; в праве городском наследование боковых родственников, даже дальних, и возможность завещательных распоряжений, а в XIII иXIV вв. — распространение привилегий на переход выморочных имуществ впользу городов; шляхта чешская лишь постепенно добивается в XIV ст. расширения своего права наследования. Калоузек устанавливает, противПалацкого и Воцеля, что право князя как „верховного дедича чешскойземли“ на выморочные земли назависимо от „выслуг“ и распространения ленного права, и относит его возникновение ко времени объединенияЧехии в руках одного князя; соединив в своих руках власть всех племенныхкнязей, чешский князь явился, по мнению Калоузека, преемником правана земли, которое ранее, вероятно, принадлежало отдельным племенам или ихвождям. Для Польши см.: Piekosinski Fr. Ludnosc wiesniacza w Polsce —"князь — собственник земли во всем государстве»; Balzer О. Historia ustrojuPolski — «князь есть частный собственник всей не занятой населениемземли».
- [19] Cp.: Schr? der R. Die Franken; Gierke О. Erbrecht und Vicinenrecht;Brunner H. Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. 1. S. 281.
- [20] 3.2 Предположение, что слово «смерд» употребляется иногда в более широкомсмысле «для обозначения всего населения, за исключением одних князей"(Сергеевич В. Русские юридические древности. T. 1. С. 178) или „обнимая всенаселение, кроме духовенства и бояр“ (Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор.С. 36), вызвано стремлением толковать статьи Русской Правды, упоминающиео смердах, как общие нормы для всего населения, притом не все, а те, которыене укладываются в построенное данным исследователем представление о положении смердов „в тесном смысле слова“. Ср. также замечания Н. А. Макси-мейка о тенденции искать в статьях Русской Правды полноты определенийи норм, исчерпывающих практику, вопреки ее характеру (Максимейко Н. А. Мнимые архаизмы уголовного права „Русской Правды"//Вестник права.СПб., 1905. № 3—4). 3.3 Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русскогогосударства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892. С. 358.
- [21] См.: Tzschoppe, Stenzei. Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungsder St? dte.. in Schlesien und der Ober-Lausitz. Breslau, 1832; Du Cange. Sub verbo Smurdusc; поселок Smardzewo во владениях краковскогоархиепископа (Potkahski К. Opactwo. S. 97; Zakrzewski St. Ze studiow.S. 39).
- [22] 3,5 Сергеевич В. Лекции. С. 325—326; ср.: Он же. Русские юридические древности.Т. 3. С. 180−181.
- [23] Ср.: Грушевський М. 1стор1я. Т. 5. С. 42.
- [24] 3,7 Ипат. С. 613, под 1289 г.
- [25] 3,8 Ср. приведенный выше вариант Калачова, ст. CVII: „А оже уведеть чужь холопълибо робу, платити ему за обиду 12 гривнЪ, а князю продаже 12 гривне, а челядинЪ или украдше или уведень есть“. Ср. ст. 47 Пространной Правды.
- [26] Что касается ст. 9: „А за княжь конь, иже съ пятномъ, 3 гривны, а за смердий2 гривнЪ“ и т. д., то мнение П. П. Цитовича, что оба помянутые коня — в одном
- [27] стаде, одинаково находились в пределах княжеского хозяйства, навеяно, по-видимому, тем, что противополагаются не только княжий конь смердьему, но конь, „иже съ пятномъ“, коню немеченому. Быть может, замечание П. П. Ци-товича заслуживает внимания, особенно если видоизменить его в смысле сопоставления смердов Правды Ярославичей с так называемыми конокормцамиЛитовской Руси, как назывались „крестьяне, владевшие хорошими выгонамии пастбищами и кормившие на них вместе со своими и господарских лошадей"(Любавский М. К. Областное деление. С. 329). Считаю весьма вероятным, чтосреди повинностей населения древней Руси была и такая, тем более что предположение это сняло бы характер полной случайности с содержания 5-й статьиПравды Ярославичей о конюхе старом, убитом дорбгобужцами у стада. Но приналичных данных все это более чем предположительно. В. И. Сергеевич понимает под „смердьим“ всякого некняжого коня, между прочим, на основании переделки 9-й статьи Правды Ярославичей в отделе Пространной Правды"О татьбъ, иже кто скота ищеть“: именно ст. 55 вплетает заимствование из неев свой текст: „А у него же погибло, то, оже будеть лице, лице поиметь, а за лЪтовозьметь по полугривнЪ. Паки ли лица не будеть, а будеть былъ княжь конь, то платити зань 3 гривны, а за инЪхъ по 2 гривны“. В. И. Сергеевич в заменеслов „а за смердий“ выражением „а за инЪхъ“ видит указание, что тут слово"смерд“ в „широком“ значении. Если бы оба выражения были равносильны, не оставил ли бы книжник прежнего? Но он, пользуясь Правдой Ярославичей, стремится ее нормы обобщить и отметить их распространение за пределы тогокруга отношений, какой она имела в виду. Поэтому и прибавляет он замечаниео вире „людина“ к статье о вире княжого мужа (ст. 5), слова „такоже иза боярескъ“ к статье о цене за слуг княжих (ст. 13), потому меняет определение"смердий» на слова «а за инЪхъ»
- [28] Максимейко Н. А. Мнимые архаизмы. С. 8. Нельзя не считаться с указанием5-й статьи Пространной Правды «пакиль людин то 40 гривенъ» и с тем, чтоее 29-я статья «полувирьем» называет штраф в 20 гривен: очевидно, 40-гривен-ная вира — нормальная, основная единица карательной системы.
- [29] Так толкует М. Ф. Владимирский-Буданов (Христоматия. Вып. 1. С. 31, примем. 6).
- [30] Допуская отчасти такое толкование, В. И Сергеевич предпочитает его устранить с помощью списков, дающих чтение «а въ смердьи въ холопЪ 5 гривен», и поддерживает это чтение указанием, что в ст. 6—7 ранее исчерпан составкняжих рабов, так как упомянуты и княжие рабы — старосты и княжие «рядо-