Лекция 17. РАННЯЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
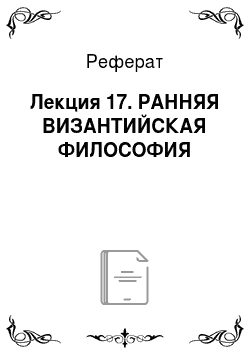
Это значит, что Бог противополагается вещам не только в онтологическом, но и в гносеологическом отношении: все сущее постигается умом, Бог же недоступен для умозрения, и его бытие принимается на веру (Богосл. 1, 8). Таким образом, вводится важнейшая в христианстве оппозиция знания (вещей) и веры (в бытие Бога). Но их оппозиция — не абсолютная, так как вера в некотором отношении основывается… Читать ещё >
Лекция 17. РАННЯЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Начиная с VI в. Восточно-Римская империя превращается в новое государственное образование — Византию. В ранней Византии еще продолжали сохраняться традиции античной философии, о чем и свидетельствует творчество одного из первых уже собственно византийских философов эпохи императора Юстиниана Иоанна Ф и л 6 п о и, а (Трудолюбивого), или Грамматика (VI в.). Впрочем, его нередко без всяких оговорок называют первым византийским философом. Главной чертой его мировоззрения, как повсеместно отмечают, является пересмотр космологии аристотслизма и неоплатонизма с позиций христианства. А. И. Сидоров отмечает, что VI в. был переходной эпохой в истории европейской философии, которая характеризуется исчезновением языческого неоплатонизма, то сеть окончанием многовекового сосуществования античной философии и христианской философской мысли[1].
Таким образом, мы видим общую тенденцию формирования христианской философии на Востоке через христианизацию античной философии, в частности, неоплатонизма, что проявилось в сочинениях и Ареопагита, и Иоанна Филопона, с той, по-видимому, разницей, что в них представлены встречные потоки этого процесса. Как богослов Петр Ивер внедрял философию в христианство, а Иоанн Филопон как философ внедрял христианство в философию. Он учился в Александрии у философа-нсоплатоника Аммония, ученика Прокла, последнего крупнейшего философа Античности, принадлежащего к афинской школе неоплатонизма. На первом этапе своего творчества он писал философские труды в виде комментариев к сочинениям Аристотеля, последующее влияние которого на Филопона весьма заметно в его подходах к решению некоторых философских проблем, и лишь затем перешел к христианской критике космологических воззрений Аристотеля и Прокла. В 529 г. Филопон выпустил сочинение «О вечности мира, против Прокла», а после него написал трактат «Против Аристотеля» на ту же тему вечности мира, и, наконец, сочинение «О сотворении мира», в котором выступил продолжателем «Шсстоднсва» Василия Великого.
При общем направлении творчества Петра Ивера и Иоанна Филопона — создании христианского мировоззрения — философская составляющая в их учениях все же существенно различна. В «Арсопагитиках» неоплатонизм присутствует лишь в качестве оформления христианского вероучения, в то время как Иоанн Филопон создает именно христианскую философию, точнее, натурфилософию. Так, Г. И. Беневич отмечает исключительно философский способ аргументации Филопона в полемике против Прокла[2]. По мнению И. Д. Рожанского, античные представления о мире в сочинениях Филопона разрушаются не в результате внешнего насилия, а изнутри, с использованием средств и методов самой античной науки (см.: Сидоров, с. 180). После этих общих замечаний приступим теперь конкретно к рассмотрению натурфилософских воззрений Филопона.
Главное положение христианской натурфилософии, как известно, это положение о сотворении мира Богом, из чего следует, что мир, в отличие от Бога, имеет начало и существует после Него. Отсюда и возникала основная мировоззренческая коллизия между христианством и античной философией, в частности между учениями Аристотеля и Прокла, согласно которым мир существует вечно и, таким образом, совсчсн Богу[3]. Именно на допущении данного тезиса и строит свои рассуждения Филопон, то есть прибегает к доказательству от противного с целью утвердить христианскую доктрину сотворения мира. Он пишет в трактате «О вечности мира против Прокла»: «Изобличив все противоречия, которые возникают, если предположить, что космос вечен, мы со своей стороны выдвинем утверждение, что он не вечен»[4].
Итак, Филопон прежде всего показывает те нелепости, к которым приводит мнение о вечности мира. Одно из его возражений построено на положении самого Аристотеля о невозможности существования актуальной бесконечности[5]. Если космос не сотворен и прошедшее время беспредельно, то, например, уже до Сократа было бы бесконечное количество предметов, к которому прибавилось бы еще количество предметов, бывших от Сократа до наших дней, и получилось бы число больше бесконечного, что невозможно. Кроме того, за беспредельное время родилось бы бесконечное количество людей, лошадей и собак и существ других родов, в результате чего бесконечность можно было бы удвоить, утроить и вообще умножить на сколь угодно большое число, что также невозможно, так как «не бывает даже большего, чем бесконечность, а тем более, большего во много раз», указывает Филопон (EINAI, с. 347−348). В итоге получается, что могут быть бесконечности разных мощностей (Бирюков, с. 330).
Другое его возражение Проклу связано с тем, что положение о вечности мира и, соответственно, об извечном Божественном творении вещей отрицает переход Бога к творческому акту, сам момент Его творчества как противоречащий учению о неизменности Бога на том основании, что Его продвижение от способности (eijic;) к действию (evepyeia) производит в Нем изменение (Ант., с. 55). Филопон опровергает этот вывод, доказывая, что применительно к Богу нет никакого различия между способностью и действием (Ант., с. 55−56). Данное различие имеет место только по отношению к людям, которые, обладая умением, когда хотят произвести действие, должны совершить движение телесными органами и по этой причине оказываются в ином состоянии, чем прежде. Бог же, в отличие от людей, обладает совершенной способностью, совпадающей с действием, а потому действует, не становясь другим. Филопон пишет, что Бог, совершенный Творец всего, имеющий логосы творимого Им, «творит все, только желая… [это], нс нуждаясь ни в каком [телесном] органе, чтобы привести все вещи в бытие. Поэтому Он никоим образом нс изменяется в отношении Самого Себя, творит ли Он или нс творит» (Ант., с. 55). Об отсутствии изменений в Боге при совершении Им действия Филопон говорит еще и таким образом: «Также и действие ума — это не движение. Оно постигает умосозерцаемое немедленно, без всякого промежутка времени» (Ант., с. 41). «Не потребуется Ему и времени для творения, но Он приведет все в бытие одновременно (apa) с тем, когда захочет» (Ант., с. 58). Сказанное, по-видимому, надо понимать так, что действие Бога протекает вне времени, а следовательно, не связано с изменением.
В приведенной аргументации Филопона нет ничего особенно нового, так как он опирается на традиционное ортодоксальное понимание действия Бога как свободного волевого акта, о чем и свидетельствуют его слова: «Бог нс нуждается в [телесном] органе для приведения в бытие вещей, но приводит все сущее в бытие одной мыслью, когда Он хочет». Это означает, что в действиях Бога нет никакой необходимости в сравнении с действиями природных тел. Так, «солнце освещает или огонь греет, как только они присутствуют, по одной природной необходимости». Но Бог превыше всякой необходимости, поэтому «нет никакой необходимости, чтобы то, что мыслится Богом, тут же существовало бы вместе с мыслью [о Нем]» (Ант., с. 56). Ведь и «кораблестроитель или плотник может иметь логосы [строительства] корабля или дома, но еще не построить их» (Апт., с. 39). Таким образом, из вечного существования в Боге творческих логосов сущих вовсе не вытекает вечное бытие вещей (и мира). Чтобы они появились, нужно свободное волеизъявление Бога, руководствующегося их благом (Ант., с. 57). Притом само волеизъявление Бога Филопон нс считает его изменением, поскольку, и проявляя его, и не проявляя, Бог всегда имеет в виду только одно благо: «Творит ли Он нечто, или нс творит, это — благо. Таким образом, воля Божия едина и проста и всегда тождественна, и неизменна, ибо Он всегда желает блага» (Ант., с. 58).
По обзору трактата Филопона «Против Аристотеля», сделанного Г. И. Бенсвичсм (Ант., с. 41−42), мы видим, что он направил свою критику против положения Аристотеля о вечности небес и их вечном движении, в чем и выражалось его учение о вечности мира. Согласно Аристотелю, небо (надлунный мир) состоит из эфира, который нс может превращаться в другие элементы, следовательно, не может ни уничтожиться, ни возникнуть, то есть существует вечно[6]. В противовес этому Филопон выдвигает следующие контраргументы. Небо состоит не из вечно сущего, неуничтожимого и Божественного пятого элемента — эфира, а из преходящего элемента — огня. Этот огонь не сжигает подлунный мир, так как Филопон считал, что «природный (он же — небесный. — В. 3.) огонь скорее есть нечто животворное, нежели сожигающее, то есть огонь есть то, что мы называем внутренним теплом». Подобные воззрения на огонь были весьма распространены в Античности (см.: Лупандин, 9). В силу того, что небо состоит из преходящего элемента, оно подвергнется уничтожению, и вместо него будет новое небо, как сказано в «Откровении» Иоанна Богослова. Также нс является вечным и небесное движение; оно имеет начало и конец, как всякое движение. Возражает Филопон и против того, что небесный огонь должен прямолинейно двигаться вверх, как обыкновенно считали в Античности, а нс вращаться вокруг центра мира. Свою точку зрения он обосновывает так: «Ни целый элемент, ни часть его, когда находятся в своем, определенном природой месте, не движутся прямолинейно. Ибо все желает оставаться в месте, определенном ему природой, как бы желая в нем спастись, и требуется сила, чтобы удалить тело из того места, которое присуще ему от природы. Следовательно, если небо находится в своем природном месте и состоит из огня… то не может быть, чтобы оно естественным порывом двигалось прямолинейно» (см.: Лупандин, 9). Кроме того, поскольку, согласно Аристотелю, небесные тела совершают вращательные движения с разной скоростью, постольку более быстрые сферы совершат в бесконечно больше раз оборотов, чем более медленные, поэтому опять будет иметь место бесконечность, отличающаяся от другой в бесконечное количество раз, что, согласно Филопона, абсурдно (Бирюков, с. 331).
На основании абсурдных следствий, вытекающих из тезиса о вечности мира, Филопон умозаключает: «Если предположить, что космос не сотворен, приходится признать… многие нелепости; следовательно, невозможно, чтобы космос был не сотворен и не имел начала» (EINAI, с. 348).
Из богословских сочинений Филопона следует выделить тс теоретико-философские вопросы, которые рассматриваются в его христологии и триадологии. Они, что было уже традицией для церковных писателей, сосредоточены вокруг категорий «природа», «сущность», «ипостась», «лицо». Таким образом, христология Филопона в ее реальном содержании может рассматриваться как философская антропология, представленная в категориях, которые применимы и к Христу, вочеловечившемуся Богу, и по отношению к собственно человеку, Петру и Павлу. Ее особенным моментом, несущим на себе, как нам кажется, печать христологии, является логикогносеологический вопрос о соотношении имени и вещи, а именно обозначает ли одно имя одну природу или две. Обо всем этом речь идет, в частности, в трактате Филопона «Арбитр»[7] (варианты перевода названия этого трактата у других переводчиков: «Судья», «Третейский судья», «Посредник»).
Свою общую теоретическую установку в христологии и, соответственно, антропологии, как мы сказали, Филопон формулирует так: «Определить, что разумеет учение Церкви под словом ‘» природа", что под словом «лицо» и «ипостась»" (Ерет., с. 283). И далее он дает определения указанных понятий. Природой — она тождественна категории «сущность» — Филопон считает «общее определение бытия вещей, причастных одной и той же сущности» (Ерет., с. 283). Касательно человека это означает, «что он есть разумное смертное живое существо, восприимчивое к уму и знанию, ибо ни один человек в этом отношении не отличается [от другого]» (Ерет., с. 283−284). Природе (сущности) Филопон придает гносеологический смысл, так как толкует ее в духе «вторых сущностей» Аристотеля, которые «созерцаются после множественных (индивидуальных существ) и суть последующие… [то есть] те, что находятся в нашем разуме (…Siavoia)»[8]. Таким образом, природа как общее принадлежит к сфере «мысленного» (та evvoirjfjiaTixa), к тем «мысленным понятиям» (svvota), которые мы имеем о реальных вещах. И к ней можно отнести слова Филопона о том, что общее является лишь мыслимым, в «качестве самостоятельно существующего… оно есть ничто» (Лурье, с. 220).
Ипостасью, иначе, лицом или индивидуумом, Филопон называет «самостоятельное существование каждой природы или… описание, составленное из неких особенностей, которыми различаются между собою предметы одной и той же природы» (Ерет., с. 284). Таким образом, в онтологическом отношении ипостась — это лицо, отдельный конкретный человек, Петр или Павел, так как только в них общая природа людей, то есть род и вид, получает свое реальное существование. В. М. Лурье отмечает, что понятие «ипостась» у Филопона вернулось к аристотелевскому понятию «первой сущности», которая только и существует в реальности, вне нашего ума (Лурье, с. 222−223). В логическом же отношении ипостась это индивидуум (по-грсчсски — атом), то есть неделимый далее субъект, которым заканчивается разделение общих родов и видов, точнее говоря, последних видов. Так, одним из последних видов живых существ будет человек, который разделяется на неделимых далее Петра и Павла, ибо, заключает Филопон, «разделение человека на душу и тело приводит к разрушению всего живого существа» (Ерст., с. 284).
Важнейший, как нам кажется, аспект взаимоотношения природы и ипостаси, представленный у Филопона, состоит в том, что в ипостаси совершается индивидуализация, или «нидивидуация» общей природы[9]. Он пишет: «Вот эта общая природа — например, природа человека… существуя в каждом из индивидуумов, — становится уже его собственной природой и не сеть у него общая с кем-либо другим» (Ерет., с. 284−285). Еще цитата: «Ведь разумное и смертное живое существо во мне нс является общим никому другому» (см.: Сидоров, с. 186). Это положение он поясняет так: когда один человек страдает, другой может оставаться бесстрастным; когда некто умирает или рождается, допустимо, что в это время никто не умирает и не рождается. Таким образом, природа имеет общее значение, когда мы рассматриваем ее саму по себе как нс существующую ни в каком индивидууме. Если же рассматривать ее существующей в индивидуумах, то она получает частное значение, соответствующее данному индивидууму (Ерст., с. 285). Из этого, по нашему мнению, вытекает важное положение Филопона о том, что если «ипостась одна, необходимо, чтобы и природа была одна» (Ерет., с. 290). По его словам, «Невозможно, чтобы существовала… частная природа без собственной се ипостаси или частная ипостась без собственной природы. Ибо по подлежащему обе они составляют одно» (Ерст., с. 290−291).
Конкретное рассмотрение понятия природы, которому Филопон уделяет большое внимание, начнем с его положения о том, что Христос, а стало быть, и человек имеет сложную природу. Христос представляет собой сложение Божественной и человеческой природы, а человек является сложной природой души и тела (Ерет., с. 277). Но тем не менее, эта сложная природа является единой или одной: «Если единое существо произведено из соединения двух [природ].. тогда… после соединения есть [только] одна природа Господа нашего Христа» (Ерет., с. 275). И Христос, и человек, замечает далее Филопон, «будет одной природой, понимаемой под этим наименованием, но очевидно сложной, а не простой» (Ерет., с. 277).
Кроме того, любой предмет, в том числе и человек, может состоять из множества акциденций, но это также не нарушает единства его природы. Если природы соединились, то существо, которое произошло из их соединения, считает Филопон, не есть просто некоторое количество акциденций, но необходимо должно быть сущностью, или природой (Ерет., с. 274).
С этих позиций решается и вопрос о соотношении имени и природы. В общем виде позицию Филопона относительно связи имени и природы можно выразить так: одно имя — одна природа, о чем свидетельствуют его слова: «Единое имя… не может указывать на множество… если только не возникает единая природа из их соединения» (Ерет., с. 277). Иллюстрацией к этому может служить пояснение Филопона, даваемое наименованиям «дом» и «хор»: домом именуются не камни и бревна, но результат их соединения, осуществление единой формы; а хором — не множество людей, но «отношение между всеми певцами, которое является единым» (Ерет., с. 276−277). Таким образом, имя равнозначно понятию природы (сущности) вещи. Это хорошо показывает рассуждение Филопона о солнце, которое он начинает с того, что «слово „солнце“ идентично выражению „природа солнца“ (или его „сущность“)». Далее в сокращенном виде он говорит: «Ибо, если в солнце видны многочисленные различия природных способностей… его яркость и жар… трехмерное измерение и сферическая форма, его круговое движение… даже в таком случае нет необходимости говорить о множестве природ солнца. Ибо ничто из этого рода само по себе не производит природу солнца, Но что является продуктом соединения из всего, что было перечислено, будучи одним и не более, это природа (или сущность) солнца» (Ерет., с. 280).
Нам кажется, что, согласно Филопону, одно имя как раз и закрепляет или выражает одну или единую природу, сущность. Так, он пишет: «Ибо если нс существует отдельного живого существа, которое явилось бы конечным продуктом соединения двух природ, то единое наименование „человек“ не может [быть] связано с душой или телом, как не может имя „Христос“ быть связано с двумя — Божеством и человечеством Христа, поскольку нет отдельного живого существа, которое произошло из них» (Ерет., с. 276).
Итак, хотя общий смысл природы человека один, пишет Филопон, тем не менее, существуя во многих подлежащих (то есть отдельных людях, добавим мы), он делается множественным, но при этом целиком присутствует в каждом индивиде. Чтобы убедить читателя в данном суждении, Филопон приводит примеры с планом судна, который, будучи одним у кораблестроителя, затем умножается во многих подлежащих; с преподающим учителем, который, являясь одним по смыслу, умножается в обучаемых, существуя в каждом целиком; с одной печаткой перстня, существующей во многих оттисках. Сохранение целостности природы при ее разделении в индивидуумах можно объяснить тем, что Филопон проводит разграничение между «сущностью» как идеей и «сущностью» как существованием (см.: Сидоров, с. 186). В итоге отношения между отдельными реально существующими объектами характеризуются, согласно Филопону, тем, что они, с одной стороны, множественны и разделены, с другой же, едины и соединены. Так, многие люди, суда, понятия учеников, оттиски множественны по числу и разделены; по общему же виду они суть одно. Сказанное Филопон заключает словами: «Все это в одном отношении множественно и разделено, а в другом — соединено и едино» (Ерет., с. 282). В связи с этим А. И. Сидоров отмечает, что число у Филопона выступает в качестве принципа разделения, которому противопоставляется эйдос (другими словами, общий вид. -В. 3.) в качестве принципа единения (Сидоров, с. 182). При этом число разделяет вещи актуально в случае прерывных (сосчитываемых) величин (например, два бревна) и потенциально — в случае непрерывных (измеряемых) величин (например, одно бревно длиной в два локтя).
Помимо этого, так сказать, категориального аспекта антропологии Филопона у него представлена и другая важнейшая проблема христианского учения о человеке — религиозно-утопическая идея воскресения умершего. Главным ее вопросом является понимание того, что представляет собой воскресшее тело — ведь душа нс умирает, — ибо без него невозможно говорить о воскресении именно человека. В философии, пишет В. М. Лурье, это оборачивалось вопросом об идентичности воскресшего тела телу умершему[10]. По этому поводу высказывались различные мнения, предлагались те или иные толкования. Как отмечает все тот же В. М. Лурье, христианское учение о разделении, а потом соединении тела и души доставило немало проблем для тех, кто пытался переосмыслить его в традициях греческой философии (Лурье. Идент., с. 307). Свой вклад в их решение внес и Филопон.
Бессмертие человеческой души, причину которого мнение не знает, ибо знать это — дело рассуждения (Ерет., с. 295), он обосновывал тем, что душа человека, в отличие от душ животных, не начинает существовать вместе с телесной гармонией, но внедряется извне после формирования (8ia7tXocaiv) тела. Это обстоятельство, по его мнению, является основным свидетельством того, душа имеет сущность, отличную от тела. Ведь Бог вдунул душу в тело человека, вследствие чего она сеть дух (Tweufjia), бестелесна, невидима (Ант., с. 59). Внедрение души в тело извне при сотворении первого человека затем воспроизводится во всех последующих естественных рождениях людей. Филопон пишет: «Когда человеческие эмбрионы получили жизнь чувственную и подвижную, тогда в них совнсдрястся (auveiaxpivexai) и разумная душа» (Ант., с. 60). При этом он ссылается на мнение естествоиспытателей (cpuaixot), что находящийся во чреве матери плод обладает жизнью растения и не является живым существом прежде своего формирования в живое существо и одушевления (Ант., с. 59). Впрочем, он прибсгает и к авторитету пророка, который учит, что внедрение (eiaxpiau;) души происходит после формирования зародыша (Ант., с. 62). Согласно Ветхому Завету, душа привносится в зародыш на сороковой день (см.: Лурье. Идент., с. 309).
Категориально же положение о бессмертии души человека Филопон выражает через толкование аристотелевского понятия энтелехии. Душа животных — это энтелехия, неотделимая от тела, как музыка от флейты: разрушена флейта, исчезла и музыка. Душа же человека — энтелехия, отделимая от тела, как рулевой от корабля или возница от колесницы. Филопон указывает, что они формообразуют или определяют (ейотонооаО корабль или колесницу. Такова вот и душа человека (Ант., с. 60).
Филопон считал, что при воскресении тела его материя изменится и станет иной, благодаря чему тело будет нетленным. Знаком этого является уже воскресение самого Христа, пишет В. М. Лурье, так как Мария породила смертное тело, и необходимо, чтобы оно переложилось в нетление, что и имеет место при воскресении, когда плоть (aapij) исчезает и остается просто тело (ай[ла), или, иначе, «тело душевное» сменяет «тело духовное» (см.: Лурье. Идент., с. 314−316). Вместе с этим положением появляется представление и о новой природе человека, так как из его определения исчезает понятие смертности (см.: Ант., с. 50). Тимофей Константинопольский так передает воззрения Филопона на этот счет:". .Бог творит новые, лучшие тела, нетленные и вечные. Воскресение мертвых определятся как нерушимое единство разумной души с нетленным телом" (Ант., с. 53). Богословы (патриарх Фотий) воспринимали эту концепцию как отрицание воскресения тел (Ерст., с. 291).
Во второй части указанной ранее статьи В. М. Лурье предлагает свою реконструкцию учения Филопона о воскресении. Вот ее пункты: 1. Воскресшие тела физически полностью отличаются от своих тленных предшественников. 2. Однако они имеют общую бессмертную душу, которая является их «видом». 3. Поэтому идентичность воскресшего человека обеспечивается не только его бессмертной душой, но и «видом» его тела, материя которого, нетленная и вечная, состоит из других элементов, отличных от элементов тленного тела" .
Историки философии и науки в целом высоко оценивают творчество Филопона. В. М. Лурье, например, пишет о нем так: «Филопон… отличался… оригинальными проявлениями творческой мысли в области философии… был один из самых ярких мыслителей Средневековья, чье влияние… было огромным и в Византии, и в мусульманском мире» (Лурье, с. 216).
Следующий век, VII, отмечен деятельностью одного из весьма видных философствующих богословов Византии и всего христианского мира того времени — Максима Исповедника. О начальном периоде его жизни известно мало. Считается, что он родился в Константинополе, очевидно, в семье достаточно высокого положения, так как сам некоторое время находился при дворе императора. Но касательно его философского образования, что важно для истории философии, никаких определенных данных нет. Оставив придворную службу, Максим ушел в монастырь близ Константинополя, а по прошествии нескольких лет перешел в монастырь около Карфагена. В период споров и церковной борьбы по христологическим вопросам, развернувшейся в середине VII в., Максим, в конце концов, был осужден в 662 г., подвергнут пыткам и сослан в Колхиду, где и скончался в том же году.
У Максима Исповедника нет сочинений, в которых были бы систематически изложены его воззрения, представляющие интерес для историка философии. Значительное место в его творчестве занимает толкование различных местСв. Писания, которые он рассматривает как аллегории. При раскрытии умозрительного смысла этих аллегорий Максим показывает не только свои богословские воззрения, но и философские. Поэтому за основу описания его философских взглядов примем те вопросы, которым наибольшее внимание уделяет сам Максим. Как нам представляется, в качестве[11]
исходного материала для изложения философских взглядов Максима лучше всего взять его сочинение, именуемое «Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия» (домостроительство — это осуществление замысла Бога), так как в нем наиболее последовательно в сравнении с другими произведениями и в логико-теоретической форме изложены вопросы, имеющие отношение к философии, и только уже затем привлекать данные из таких его трудов, как «Амбигвы к Иоанну» (лат. ambigua — двусмысленности, неясности, затруднения), «Амбигвы к Фоме», «Вопросоответы к Фалассию», «Мистагогйя» и другие[12].
Итак, «Главы о богословии» открываются рассмотрением основного вопроса религиозной онтологии — отношения (сравнения) Бога и тварного бытия. Максим начинает с того, что «Бог — един, безначален, непостижим и обладает всей силой целокупного бытия»[13]. В отличие от него, «ничто из того, что обозначается словом „бытие“, не обладает бытием в подлинном смысле слова» (Богосл. 1, 6).
Как мы видим, Максим придерживается в основном обычных для апофатичсской теологии негативных определений Бога: безграничен, неподвижен, беспределен и т. д. В «Мистагогии» он воспроизводит одно из самых парадоксальных «ареопагитских» имен Бога: «Вследствие свсрхбытия Бога, Ему более подобает определение „Небытия“»[14]. Тем не менее, и об именах, и о функциях Бога говорится и вполне позитивно. Так, он есть все то, чем мы его именуем (Богосл. 1, 10; это высказывание — явно в духе Арсопагита), и характеризуется как первоначало бытия и творческая причина сущности, силы и действия (Богосл. 1, 4). В Слове Божием пребывают и вмещаются все логосы чувственных и умопостигаемых тварей и всех вещей[15] (в данном случае логосом можно считать начало и причину возникновения некоего сущего[16]). Бог назван Целым, Единственным, Мышлением и Сущностью, хотя он превыше сущности и мышления, а также неделимой и простой Единицей (Богосл. 1, 82). К сказанному можно добавить рассуждение Максима о том, что Св. Писание представляет Бога, сообразуясь с душевным расположением того, кто находится под его попечительством. Отсюда и говорится о льве, медведе, человеке, солнце, ветре. Но смысл каждого такого слова доступен лишь через духовное толкование[17][18]. Его, наверное, можно назвать «методом символического тайнозрения»1*.
В гносеологическом отношении ранее указанные и отрицательные, и положительные определения Бога равно означают его непознаваемость. Об этом ясно свидетельствует то, что Максим признает оба суждения, обозначающие Бога как бытие и небытие, равно справедливыми, поскольку они говорят о его существовании и сверхсуществоваиии, и недействительными, поскольку они не высказываются относительно самой сущности и природы Его бытия, ибо Бог обладает бытием, стоящим выше всякого утверждения и отрицания (Мист. Ввсд.). Таково основание теологического агностицизма Максима. Можно отметить и его мистическую установку в гносеологии, которая выражается в том, что он отрицает познание Бога через его «естественную проявленность», через то, «что, следуя за Ним, созерцается естественным образом» (Богосл. 1, 1,2). Очень примечательно в этом отношении его сравнение богословствующсго катафатичсски и апофатичсски. Первый делает Слово плотью, ибо познает Бога, исходя только из вещей зримых и осязаемых. Второй, исходя из отрицательных суждений, а не из чего-либо доступного познанию, делает Слово Духом, подлинно познает Сверхпознаваемого (Богосл. 2, 39).
Впрочем, здесь можно видеть отказ лишь от полного познания сущности Бога, так как, пишет Максим, мир обладает логосами в качестве образов умозрения, присущих ему по природе, которые делают возможным частичное постижение Премудрости Божией, пребывающей во всех тварях (Богосл. 1, 70). Этот «логический» путь к Богу изложен в рассуждении о логосах природы и соединенных с ними пяти тропосах (видах) естественного созерцания. Как нам кажется, Максим в данном случае говорит об операции обобщения логосов природы и ее категориальном описании. Действительно, пятью тропосами созерцания выступают категории «сущность», «движение», «различие», «смешение» («соединение», «связь сущих», в частности, добродетелей посредством свободной воли) и «положение» (под ним можно понимать относительно устойчивое состояние сущих, менее всего подверженное случайным отклонениям от основания-блага). Логосы сущности, движения и различия дают человеку знание о Боге из сущих как о Творце, Промыслителе и Судии. Кроме того, все эти логосы сущих в совокупности показывают Бога как сущность и движение сущих, различие разнящихся, нерасторжимую связь соединенных и неподвижное основание положенных, а также как причину всякой сущности и движения, различия, смешения и положения[19]. Но при всем том Максим все же, в конце концов, считает, что Бога мы знаем не по существу, но по великолепию его творений, в которых, как в зеркале, мы видим Его премудрость[20]. Еще более определенно об этом говорят его слова: «Желая богословствовать, не ищи, что есть Бог в себе самом; ибо этого не найдет… человеческий ум»[21].
Это значит, что Бог противополагается вещам не только в онтологическом, но и в гносеологическом отношении: все сущее постигается умом, Бог же недоступен для умозрения, и его бытие принимается на веру (Богосл. 1, 8). Таким образом, вводится важнейшая в христианстве оппозиция знания (вещей) и веры (в бытие Бога). Но их оппозиция — не абсолютная, так как вера в некотором отношении основывается на знании, что мы склонны называть теологической рационализацией веры. Максим рассуждает следующим образом. Ведение сущих достигается через их собственные логосы, которые придают им естественную устойчивость. И затем посредством этих логосов обретается вера в бытие Бога, «являемого по вере из упорядоченного строения зримых [вещей]» (Фалас. XXV). Важно привести и его определение веры: «Вера есть истинное ведение, обладающее недоказуемыми началами, поскольку она есть ипостась вещей, превышающих ум и разум» (Богосл. 1,9). Здесь заслуживает внимания употребление слова «ипостась» не в его обычном антропологическом смысле, что нам уже знакомо, а скорее всего, в том значении, что благодаря вере находят свое «зримое» существование (лицо) незримые сами по себе Божественные сущности. Кажется возможным связать такое толкование со словами Максима о том, что ипостась очерчивает и описывает общее и неописуемое как особенное (см.: Петров., с. 17−18). В названном определении веры присутствует также ортодоксальное положение о ее конечном превосходстве над разумом. В другом месте об этом сказано так: деятельный ум имеет своею главою слово веры и не срамит ее, полагая, что нет ничего превыше веры (Фалас. XXV). Есть у Максима и другие определения веры. Например, вера — это истинное ведение, показывающее неизреченные блага (Фалас. XXXIII).
С разделением знания и веры соотносится выделение двух видов знания: научного, которое постигает логосы сущего и не стремится к осуществлению заповедей, а потому бесполезно; и деятельного, действенного, которое подлинно печется о постижении сущих посредством духовного опыта (Богосл. 1, 22). Этот опыт является личным, лично переживается человеком, что свойственно мистикам (см.: Петров., с. 34).
Можно думать, что именно на этом пути духовного опыта (наряду с верой) достигается главная цель человека (его души) — ведение Бога. Этот акт имеет явно мистический характер, так как он возможен только тогда, когда сам Бог снисходит к душе; возводит ее к себе; поднимает ум и озаряет его Божественными лучами (Богосл. 1, 31). Дополнением к этому служат слова Максима о том, что разумная душа уводит ум от всех Божественных логосов, содержащихся в сущих, соединяет его с Богом в любовном исступлении и через мистическое богословие делает его неподвижным в Боге (Богосл. 1, 39). Г. В. Флоровский писал об этом «свсрхмысленном видении» как об экстазе и некоем «возвращении» ума к Богу: Бог выступает в мир в познавательных образах, чтобы явить себя человеку; а человек выступает из мира навстречу Богу, чтобы найти его таким, каков он сеть вне мира (Флор., с. 201, 202).
В вышеприведенных высказываниях Максима содержится практически весь набор представлений мистика о познании: отрешение от тварного бытия, любовь к Богу и достижение духовного покоя в Боге. Стоит отметить, что без любви невозможна и вера, так как в противном случае она не произведет в душе света ведения, подобно тому как воспоминание об огне не согревает тела, пишет Максим (Люб. 1, 31).
Любовь Максим определяет как такое расположение души, по которому она всему существующему предпочитает познание Бога и отказывается от пристрастия к земному (Люб. 1, 1), то сеть сама в себе предполагает и отрешение, и бесстрастный покой (Люб. 1, 2; 12). Путь к достижению бесстрастия имеет четыре ступени: воздержание от осуществления зла; отвержение порочных помыслов; воздержание от страстей вследствие проникновения умного видения через зримые образы вещей в их логосы; очищение воображения от представления о страстях у тех, кто сделал владычествующее начало своей души (ум) посредством созерцания чистым зерцалом Божиим (Фалас. LV). Инструментом отрешения ума от всяких помыслов о вещах служит также молитва. Благодать молитвы, указывает Максим, сочетает ум с Богом, и такое сочетание отделяет ум от всяких помыслов[22].
Когда мышление оказывается по ту сторону множества чувственных и умопостигаемых вещей, оно становится безвидным, и Бог дарует ему покой от чередующейся смены мысленных образов (Богосл. 2, 5). Данное состояние умопостигаемых существ (Богосл. 1, 43), таинственное созерцание — это еще один важный момент мистицизма Максима. Оно сопряжено с молчанием, с отказом от высказываний о Боге. Этому «промысленному молчанию» предаются в безмолвном покое; его не может объяснить ни слово, ни умозрение, но только опыт тех, кто удостоился «премысленного наслаждения» (Фалас. Пролог). Молчание возвышается над многословием и многозвучием (Мист., IV). Максим обосновывает это тем, что Бог — Единый и Единственный, а произнесенное слово — множественно. Поэтому надежнее созерцать в душе, ничего не изрекая, потому что душа покоится в нераздельной Единице (Богосл. 1, 83). При описании этого таинственного постижения Бога Максим переходит прямо на лексику Ареопагита. Небесное ведение сущих он называет Мраком, безвидным и невещественным устроением, оказавшись в котором, человек познает своей смертной природой Незримое (Богосл. 1, 85). Поэтому исследователи говорят о влиянии на Максима учения неоплатоников, которое шло через Дионисия Ареопагита[23].
Такое знание доступно далеко не всем, утверждает Максим. Субъектом его является подвижник, который выдерживает искушения, очищает тело, обретает совершенство радением о возвышенных умозрениях и удостаивается в итоге Божественного утешения (Богосл. 1, 74). Путь подвижника складывается из того, что он отделяет себя от страстей, затем — от страстных помыслов, далее — от естества и его логосов, от умозрений и ведения, связанного с ними, наконец, от логосов Промысла, в результате чего он неведомым образом достигает логоса Единицы (Богосл. 2, 8). К подобным подвижникам можно отнести монаха, который отдалил свой ум от чувственных вещей и т. д. (Люб. 2, 54). Максим также называет самым полным любомудрие святых, которые посредством разума (той Хоуоо) возвели к уму чувство, обладающее лишь простыми логосами чувственных предметов, а ум, отрешенный от сущих, «принесли Богу» и удостоились раствориться в нем, нося в себе его образ. Вместе с этим они подвижнически расторгли связь тела и мира, ибо тело объемлется миром по природе, а мир — телом посредством чувства (Иоанн V, VIII).
В некоторых сочинениях Максима выведен такой подвижник в образе блаженного старца, от лица которого излагаются разного рода поучения и таинственные созерцания. Этот старец, чтобы быть любомудром и учителем, с помощью добродетели, трудолюбия и упражнения в Божественных вещах освободил себя от уз материи и материальных представлений. Его ум, озаряемый Божественным сиянием, может созерцать то, что для других невидимо; его слово — точнейший переводчик умозрений, и оно, словно незамутненное зеркало, способно чисто отражать и передавать то, что другие нс в силах умосозсрцать (Мист. Ввел.).
Сказанное позволяет нам назвать Максима одним и самых первых византийских мистиков и основателем мистического направления в религиозной философии. Как и положено, мистицизм у Максима тесно связан с его аскетическим учением[24]. Мистиком-аскетом называл сгоС. Л. Епифанович (1886−1918), один из первых основательных русских исследователей творчества Максима Исповедника (Епиф., с. 50).
Особое место в гносеологических воззрениях Максима принадлежит познанию Бога в лице Христа. Получается так, что одно дело — непосредственное знание о Боге вообще как природе (виде), и несколько иное дело — опосредованное постижение его через ипостась Христа, который явился «ипостасью из двух природ, нетварной и тварной»; бесстрастной и страстной[25]. Божественный Логос открылся нам в природе и Писании, в которых он воплотился, как бы расчленяясь, своими энергиями, или идеями (Xoyoi)" но которые объединяются в нем, как радиусы в центре круга (см.: Епиф., с. 55, 62−64). В общем плане Максим говорит о том, что без Слова ни одна из тварей нс может воспринять Отца как породивший его Ум. Данную ситуацию он сравнивает с тем, что наше слово, происходя из ума, является вестником его сокрытых движений (Богосл. 2, 22).
Итак, Христос также становится ключевой фигурой в гносеологических воззрениях Максима в том смысле, что познание именно воплотившегося Бога позволяет ему в этом направлении развить, если можно так выразиться, христологическую теорию познания, главным инструментом которой становится толкование текстов Св. Писания, рассматриваемых в качестве аллегорий и символов жизни Христа. Действительно, Христос во плоти и в буквально понимаемых словах Св. Писания — это еще нс сразу подлинно, истинно знасмый Бог. Нс следует прилепляться только к одним словам Св. Писания, замечает Максим (Богосл. 2, 42), ибо Бог, ставший человеком, пришел, чтобы духовно исполнить закон, упраздняя его букву (Фалас. L). При сравнении Св. Писания с человеком он указывает, что «историческая буквальность» написанного — это тело, душа же — его смысл, который является целью устремлений ума (Мист., VI). Ведь сам по себе Бог Слово как обладающий «нагими отобразами истины» не нуждается в притчах, но когда Он пришел к людям и стал плотью, то произошло, можно сказать, и Его воплощение, не только в теле, но и в языке, то есть в повествованиях, иносказаниях, притчах и темных изречениях (Богосл. 2, 60). Поэтому к подлинному, «нагому» Христу надо пробиваться через ограду вещей, плоти и слов, преодолеть эту завесу с помощью умозрений, то есть выйти за пределы чувственного мира и чувственного познания. Надо перейти от буквы к духу Св. Писания, «соскабливая, — как образно пишет Максим, — тончайшими умозрениями плотянную массу речений» (Богосл. 2, 61). Например, в хитоне Спасителя следует видеть сплетение добродетелей (Фалас. IV).
Характерно в этом отношении замечание Максима о том, что в человеке деятельном, осуществляющем добродетели, Слово Божие становится плотью, а в созерцающем Божественные тайны оно утончается духовными умозрениями и становится тем, кем и было в начале, то есть Богом Словом (Богосл. 2, 37). Показательно и такое суждение, продолжающее предшествующую мысль: тот, кто с помощью «дебелых примеров и речений» преподносит научение Слова, делает его плотыо; а кто с помощью умозрений излагает таинственное богословие, тот делает Слово Духом (Богосл. 2, 38). Рассуждениями на эту тему полны, а вернее сказать, переполнены сочинения Максима. Например, остановившееся солнце в Книге Иисуса Навина толкуется как Бог Слово, просвещающее ум, дарующее ему силу умозрений и отгоняющее от него всякое неведение (Богосл. 2,34). Разрушением стен Иерихона Иисус Навин «таинственно явил Слово Божие победителем мира» (Иоанн. XIII) и т. д.
В случае познания Божественной сущности Христа важную роль начинают играть также реалии жизни воплотившегося Бога, будучи, в частности, символически истолкованными. Например, Господь открылся в возрасте 30 лет, и это число, по мнению Максима, делает зримыми тайны, касающиеся Его, а именно Господь есть Творец времени благодаря числу семь, ибо время седмично (подразумевается, видимо, семь дней творения); природы — благодаря числу пять, ибо природа пятсрична, согласно пяти чувствам; умопостигаемых существ, которые превыше естества, — благодаря числу восемь, ибо бытие их превышает период, измеряемый временем (восьмой день Бога рассматривался как переход к вечности). Затем, Господь есть Промыслитель благодаря числу десять (десять — это десять заповедей). Сложение названных чисел и дает в сумме тридцать (Богосл. 1, 79).
В части, касающейся сотворения мира и его познания, Максим воспроизводит общие положения о том, что Бог творит по Своей благости, когда захочет, единственным Своим словом и духом. Логосы творения ангелов, сил и сущностей горнего мира, человеков и всего прочего Бог имеет в Себе прежде веков и прежде бытия их (Иоанн II). Логосы — это начала или законы естества; в них как бы заключен весь чувственный и мысленный (духовный) мир. Как пишет далее С. Л. Епифанович, уплотнение их и «постепенное одебеление» образует грубую чувственно постигаемую тварь, все качественные различия которой зависят от комбинации логосов. И он также отмечает, что все бытие как совокупность логосов по существу идеально (см.: Епиф., с. 64−66). Чувственный мир состоит из четырех начал и удерживается ими. Логосы присутствуют в происшедших вещах. Они вполне сопоставимы с Xoyoi аттерршхсн стоиков и rationes seminales Августина (Флор., с. 206). Таким образом, тварь разделяется на логос и внешнюю явленность. Поэтому, по определению Г. В. Флоровского, онтология Максима отмечена тем, что «чувственный мир невеществен в своих качественных основах», а умопостигаемый мир находится в чувственном, и оба они составляют единый мир, как тело и душа — человека (Флор., с. 206, 207).
К описанию естества, состоящего из материи и вида, Максим прилагает числовую символику: материя четверична вследствие четырех элементов, а вид пятеричен вследствие чувства, которое оформляет и придает вид вещественной массе (Фалас. LV). Мир чувств отмечен тлением и борьбой, а в логосах отсутствует всякая противоположность (Фалас. XXVII, XXXII).
У сотворенного бытие мыслится прежде движения, так как не может быть движения прежде бытия. Из пришедшего в бытие нет ничего неподвижного согласно своему природному логосу. Вес движется либо по прямой, либо по кругу, либо спиралевидно; все непостоянно и текуче (Иоанн И-Ш). В настоящий момент ничто из сотворенного еще не остановило своего естественного движения к соответствующему ему концу. Источником движения является само приведение в бытие, то есть Бог. Так можно понять слова Максима о том, что «все… претерпевает движение, не будучи самодвижением или самосилой» (Иоанн II). С. Л. Епифанович относит — и справедливо! — учение Максима к идеалистическим системам, содержащим в качестве основной и исходной идеи идею Первоначала, из которого выводится и объясняется вес бытие. Но идея Первоначала получает у преп. Максима своеобразное выражение в форме идеи Логоса, деятельного принципа Первоначаала, имеющего непосредственное отношение к тварному бытию его познанию (Епиф., с. 137).
Общую картину бытия, охватывающую все его уровни начиная с самого Бога, Максим изображает через фигуру Христа и Его детище — церковь. Ипостась Христа позволяет Ему дать синтетическое описание мира, показать его единство. Комментируя рассказ Писания о постройке царем Озией башен в Иерусалиме, Максим предполагает, что Писание, возможно, называет углами соединение разделенных тварей, осуществленное Христом. Он сделал логос естества, одинаковый в мужчине и женщине, свободным от страстных свойств, и таким образом соединил человека, устраняя Духом различие мужского и женского пола. Дело в том, что деление на мужское и женское не относится к логосу человеческой природы, но создано Богом в предвидении грехопадения, лишающего людей ангельского, то есть бесполого размножения (см.: Петров, с. 71). Далее, Христос соединил землю, устранив различие чувственного рая и обитаемой земли; соединил небо и землю, показав, что единое естество чувственных вещей тяготеет к самому себе; соединил чувственные и умопостигаемые вещи, явив единое сущее естество тварей; наконец, соединил тварное естество с нстварным в соответствии с превышеестественным логосом и способом (Фалас. XLVIII).
К космической роли Христа Максим обращается нс раз. Сказанное дополним следующими положениями. Слово Божие упразднило враждебные силы, наполняющие среднее место между и землей. Оно соединило с собою небо и землю, вознесшись на небо вместе с телом, воспринятым на земле; восстановило в первоначальном виде человеческую природу тем, что, став человеком, сохранило волю свободной от страстей[26]. Подобное космическое значение отмечают и в отношении человека. Он призван в мир, чтобы устранить мировые разрывы в виде делений сущего на тварное и нетварное, небо и землю и т. д. и преодолеть пропасть между ним и Богом, и, таким образом, выступает как микрокосм (см.: Флор., с. 208; Петров, с. 103). Согласно С. Л. Епифановичу, к этому можно добавить то, что человек, побеждающий все эти разделения между полами, миром и раем и т. д., возвращается к своему «первобытному состоянию», то есть к блаженному состоянию первого человека, когда у него тело было легким и нетленным, он не был обременен заботой о питании, не был подчинен закону скотского рождения. Сказанное он сопровождает интересным замечанием о том, что преп. Максим судит об идеальном бытии человека потому восстановленному типу, который показан нам во Христе (см.: Епиф., с. 74−76).
В «Мистагогии» Максим описывает основные составляющие бытия Арсопагита, иерархия которого в большей степени имела гносеологический смысл и показывала ступени движения к Богу; Максим строит свою иерархию так, что описывает с ее помощью структуру бытия. Но главное, пожалуй, отличие его иерархии состоит в том, что в основу се, как бы продолжая учение Арсопагита, Максим положил церковь, в которой находил образы и изображения всего, что только существует. Вследствие такого подхода, иерархия Максима представляет собой иерархию образов, открывающихся на различных уровнях созерцания вышеуказанного старца, носителем которых является церковь.
Итак, во-первых, церковь есть образ и изображение Бога, потому что она, подобно Богу, который «связывает, сочетает и ограничивает все», «осуществляет единение среди верующих» мужей, жен и детей, отличающихся друг от друга видом, национальностью, языком, образом жизни и т. д. (Мист., I). Во-вторых, она в виде здания есть образ мира, ибо алтарь в ней знаменует горний мир высших сил и небо, а сам храм — мир дольний, чувственную жизнь и землю (Мист., II—III). В-третьих, церковь символически изображает человека: алтарь в ней представляет душу, жертвенник — ум, а храм — тело. В результате церковь являет себя и как некий микрокосм, и как некий «макрочеловек» (Флор., с. 225).
Эти же элементы церковного здания позволяют Максиму описать восходящую иерархию уровней познания: нравственная философия — храм; естественное созерцание — алтарь; таинственное богословие — жертвенник (Мнет., IV). В-четвертых, церковь есть изображение души. Разумная сила души (ум) знаменуется в ней алтарем, а жизненная сила, движимая разумом, — храмом (Мист., V). В результате, как мы видим, выстраивается цепочка основных звеньев бытия по нисходящей: Бог —> мир (небо —> земля) —> человек (душа —" тело) —" душа (разумная сила —> жизненная сила). Таков результат возвышенного созерцания старца. У С. Л. Епифановича есть изложение иерархии тварного бытия как ниспускающейся лестницы пяти видов бытия: мысленного, разумного, чувственного (животного), растительного и просто сущего (Епиф., с. 66).
Познание мира представлено у Максима в обычном порядке движения от чувственного знания к рациональному. Чувством мы пользуемся как орудием к постижению устройства видимого бытия. Вместе с тем, чувство символически начсртываст на образах видимого бытия логосы бытия умопостигаемого. Как образно пишет Максим, ум посредством чувства «плавает [по морю] чувственного естества и собирает находящиеся в нем Божественные логосы». Таким образом, оно возвышает ум к мысленным созерцаниям и открывает путь для перехода к умопостигаемому бытию, в том числе к Богу (Фалас. О затруднительных местах Св. Писания; XXV).
В отношении сотворенного мира можно исследовать и познать, для чего Бог сотворил сущее, но нс следует добиваться того, «как и почему не так давно» сотворил, «потому что это не поддается твоему разуму»[27]. Так Максим реагирует на довольно болезненный для христиан вопрос о моменте творения. В конце концов, и в познании мира он также придерживается мистической позиции. Это видно из того, что удостоившийся быть в Боге постигает предсущсствующис в Нем логосы тварных вещей простым и нераздельным ведением, которое Максим сравнивает с тем, что линии, расходящиеся из центра, также рассматриваются в нем нераздельными (Богосл. 2, 4).
В заключение изложения онто-гноссологичсской части воззрений Максима отметим, что их невозможно подать иначе, как в единстве, к чему объективно подталкивают сами его сочинения. Когда он касается вопросов познания, то почти всегда говорит о познании чего-то, а не абстрактно о знании. Поэтому нам представляется весьма правильным следующий вывод В. В. Петрова: «В учении Максима нельзя вычленить эпистемологию в особую область. Она неразрывно связана с антропологией и онтологией» (Петров, с. 34).
Заметно, что внимание Максима в значительной степени привлекают темы, относящиеся к области религиозной антропологии и этики. Это вполне объясняется тем, что центральной фигурой в мировоззрении Максима выступает Христос, и он развивает, по общему признанию исследователей его творчества, христологический вариант христианской философии. Таково, например, мнение С. Л. Епифановича, который пишет, что идея человека «находит себе питание» в идее Христа и что она является самой важной и основной идеей в системе преп. Максима, сообщая ей, по существу, христологический характер (Епиф., с. 76). Он также полагает, что вся антропология Максима сводится к христологии (Епиф., с. 138).
Если обыкновенно, по большей части, Христос предстает как основание христианской гносеологии в виде разума, знания и истины, то для Максима Христос — это прежде всего воплотившийся Бог, соответственно, обоженный человек, что и делает Его ключевой фигурой в христианском учении о человеке, а самого человека выдвигает на передний план в философских воззрениях Максима (этому способствовали и христологическиеспоры; см.: Флор., с. 199). В связи с этим заслуживает внимания еще одно наблюдение С. Л. Епифановича. Идея Логоса затрагивает бытие только по идеальной половине своего существования. Более осязательно оно охватывается идеей человека, представителя тварного бытия, который является отображением, или символом Логоса в мире и становится, таким образом, миром и Логосом в миниатюре (Епиф., с. 137−138).
Итак, Максим пишет: «Бог Слово… для того и стал Человеком и Сыном Человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими» (Богосл. 2, 25). Его мысль проста и в то же время фундаментальна: Христос знаменует человеколюбие Бога и причастность Ему человека, то есть идею обожения человека через его любовь к Богу. Достижение Бога, наверное, главная тема антропологии Максима. Господь присутствует в человеке, либо осуществляющем логос добродетели, либо предающемся созерцанию Божественного через истинное ведение сущих (Богосл. 2, 58). Бог рождается в «чистом сердце» человека, в котором отсутствует естественное движение к плотскому (Богосл. 2, 80−81). Перешедший от деятельного состояния к умозрительному отсутствует в теле, пишет Максим, и оказывается «в ясном воздухе таинственного созерцания, при котором он сможет всегда быть с Господом» (Богосл. 2, 59).
Рассмотрению того, как человек достигает Бога, посвящены весьма многие и значительные места его «Амбигв к Иоанну». Основанием этого процесса можно считать то, что люди созданы посредством Логоса, сущего в Боге, и поэтому причаствуют Богу и называются его частицей. Так вот, если они будут двигаться согласно этому Логосу, то взойдут к Богу, окажутся в нем, станут богами. Другим связующим звеном между Богом и человеком служит добродетель, так как се сущностью является Слово Божие. В соответствии с этим, причастный добродетели человек причастен и Богу (Иоанн II). Кто «крайней добродетелью» приближаются к Богу, те отбрасывают узы материального мира, отрешаются от деятельности и материи и посредством созерцания «усвояются Богу», пожинают плоды блаженства и «пребывают непреложными», не имея связи с веществом (Иоанн, V).
Известную формулу «человек сотворен по образу и подобию Божию» Максим раскрывает так: сотворен по образу как сущий бесконечно, хотя и не безначально, и разумный; по подобию — как добрый и мудрый[28]. В. В. Петров указывает на то, что образ и подобие соответствуют паре природа — ипостась. Образ — это сущность или природа человека; а подобие — ипостась, и открывается она только в результате личных усилий человека, в его образе жизни (см.: Петров, с. 41−42).
Максим возражал против предсуществования душ по отношении к телам, так как тело и душа — это части, образующие своим собранием (тг| auvoSco) целостный вид и отделяемые только мысленно (Иоанн, И). Они «различаются понятием существа или естества», но «существуют одинаковыми по ипостаси ради их взаимного сочетания». Это значит, что отдельный человек (ипостась или лицо) заключает в себе разные сущности — тело и душу. Но, с другой стороны, люди не отличаются друг от друга в отношении естества или существа, но отличаются между собой лицами или ипостасями. И теперь можно сказать, что одна и та же сущность заключена в отдельных людях[29].
Бог, создавший человеческое естество, даровал ему бытие, совокупное с волей, и сочетал с ней творческую способность осуществлять надлежащее (Фалас. XL). Люди причастны трем душевным силам: питательной и растительной, воображательной и побудительной, разумной и мыслительной (в этом Максим, как и все христианские философы, идет за Аристотелем). Первые две силы признаются тленными, а третья — нетленной (Люб. 3, 32). В качестве познавательных сил человека Максим указывает «три главных движения» души: умное, словесное (оно же разумное) и чувственное. Первое направлено на познание Бога; второе — на определение причины неизвестного и знание естественных логосов; третье, соприкасаясь с внешним миром, запечетлевает в душе логосы видимых вещей (Иоанн, VIII). Но эти силы имеют и этическое назначение. Поскольку человек состоит из души и тела, он зависит от двух законов: закона плоти и закона духа. Согласно первому, он действует по чувству и сочетает плоть с материей; согласно второму, действует по уму и осуществляет соединение с Богом. Разум не позволяет чувству отвергнуть Божественные логосы и сделаться слугой страсти неразумия и греха (Фалас. XXV, XXXIII).
Род человеческий разделен на два союза: на благочестивых и нечестивых (Люб. 3, 26). Время существования (история) человечества представлено также в виде двух этапов. Бог разделил века, предназначив одни для осуществления того, чтобы Ему стать человеком, а другие — для осуществления того, чтобы человека сделать Богом. Века, предназначенные для вочеловечения Бога, при нас уже достигли конца, и нужно теперь ожидать других веков, в которые грядет обожснис людей по Божественной благодати. «Короче говоря, — заключает Максим, — одни из веков относятся к Божиему снисхождению к людям, а другие — к восхождению людей к Богу». Нынешнюю жизнь он называет также «веками плоти», будущую — «веками духа» (Фалас. XXII).
Завершение судьбы человека и человечества Максим рассматривает эсхатологически и связывает с концом мира. Он исходит из подобия мира человеку, а человека — миру, так как имеет место соответствие между умопостигаемыми сущностями и душой и между чувственными вещами и телом. Это позволяет Максиму говорить и о сходстве их судеб. Когда Бог в годину свершения веков расторгнет связь частей мира ради высшего домостроительства, одряхлевший мир умрет и тут же восстанет юным. А вместе с ним воскреснет и человек, как малое с великим. При этом с миром и человеком произойдут сходные изменения: чувственное уподобится умопостигаемому, а тело — душе, вследствие чего человек получит силу нетления (Мист., VII). Тут, как мы видим, Максим касается важнейшей проблемы христианской антропологии — воскресения человека.
В части собственно этической проблематики, то есть в изживании греха и зла и приобретении добродетели и блага, определенное место у Максима занимает сравнение морали Ветхого и Нового Завета. При этом он использует обычный прием толкования текстов как неких символов. Например, обрезание и переход Иордана он считает обрезанием скверны души и тела посредством Логоса веры (Иоанн, XII).
Сосредоточенность Максима на фигуре Христа ведет его к возвышению Евангелия. Закон (Ветхий Завет) он считает теныо Евангелия, которое является образом будущих благ. Первый препятствует осуществлению злых деяний, а второе предлагает осуществлять благие деяния (Богосл. 1,90). Закон уподобляется плоти и чувствам, а Евангелие — разумной душе, действующей посредством плоти и чувств (Богосл. 1, 92). Понятно, что это призыв следовать евангельской жизни, отвращать ум от плоти и мира и обращаться к Богу, о чем Максим неустанно говорил (Богосл. 1, 99). Например, он пишет: «Взыскующий жизнь во Христе становится превыше той праведности, которая в законе и естестве» (Богосл. 2, 62). В другом месте сказано, что, уподобляясь плоти Господа через Святой Дух, мы отвергаем тление греха, ибо Христос по своему человеческому естеству был безгрешен (Богосл. 2, 84).
В общем плане, к добру нас побуждают семена добра, заложенные в нас от природы, святые силы и доброе произволение. Разъяснение этих трех начал такое: семена добра от природы проявляются в нашем желании, чтобы люди поступали с нами так, как мы с ними, и в естественном милосердии по отношению к бедствующему человеку. В этих словах нетрудно усмотреть золотое правило этики и представление о врожденной гуманности человека. Впрочем, сеятелем духовных логосов Премудрости и «способов учтивого поведения» в естество зримых тварей является сам их Творец (Фалас. LI). Святые силы — это благое содействие нашему побуждению к доброму делу, которое мы обретаем в себе. Данную мысль выражает, по-видимому, и положение о присутствии во всех людях Святого Духа. Об этом можно заключить из приводимого Максимом примера того, что даже среди варваров встречаются многие, усвоившие нравственное благородство и отвергшие господствовавшие у них зверские законы (Фалас. XV). Наконец, доброе произволение — это избрание нами доброго на основании отличия добра и зла (Люб. 2,32). Максим относит его к одному из трех основных тропосов (образов) сотворения человека — благобытию, которое зависит от нашего выбора (yvoc>p.r]<;) и сообщает истинный смысл двум другим тропосам — бытию и приснобытию (Иоанн, VIII).
Сами добродетели Максим делит на телесные (пост, бдение, труд и др.) и душевные (любовь, великодушие, кротость и проч.) (Люб. 2, 57). Несомненно, что становление добродетелей связано с исполнением десяти Божественных заповедей. В результате толкования Святого Писания в духе числовой символики Максим превращает четыре десятка тысяч израильтян в четыре стадии преуспеяния в десяти заповедях. Первая стадия — просто исполнение заповедей (отмечена числом десять). Вторая — совокупное постижение заповедей через осуществление каждой из них (соответствует числу сто). Третья — приложение к исполнению заповедей всех десяти сил человеческого естества (три силы души, пять чувств, способность говорить и сила плодородия) (приравнивается к тысяче). Четвертая — восхождение к наивысшсму логосу каждой заповеди посредством созерцания и ведения естественного закона (уподобляется сорока тысячам, поскольку логос каждой стадии сосредотачивает десять тысяч) (Фалас. LV). «Подвиг добродетели», пишет Максим, «приносит победный венец — бесстрастие души», благодаря которому она удаляется от тела и мира[30].
В этической части учения Максим определенным образом оговаривает требование отрешиться от действительности, что имеет место в его гносеологических положениях. У него сказано, что ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства не суть зло. Злом является страсть, присоединяющаяся к естественному понятию о вещах, ибо она сеть неестественное движение души (Люб. 2, 15−16). Подобно всем христианским мыслителям, Максим отказывает злу в самостоятельном существовании по его собственной природе, так как оно не имеет никакой сущности (Фалас. О затруднительных местах Св. Писания).
Страсти Максим понимает, по сути дела, как животные состояния и изображает пестроту человеческих страстей в виде разных живых существ. Пресмыкающиеся указывают на «одержимых желательным началом, с трудом ползущих среди земных [вещей]; звери — на безумно возбуждающих [в себе] все яростное начало на погибель друг друга; птицы — на возносящих все разумное начало [свое] ради дерзости высокомерия и… спеси» (Фалас. XXVII). Отсюда зло определяется как «погрсшитсльнос суждение» о вещах и их неправильное употребление (Люб. 2, 17). «Нс пища зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие», — пишет Максим (Люб. 3, 4). Для выражения подобного рода мыслей Максим прибегает к известной исторической концепции порчи нравов и исчезновения строгости жизни как причины гибели «сильнейших и разумнейших народов, прославленных своим могуществом». Было время (типичный зачин таких историй[31]), рассказывает Максим, когда пищей человеку служили плоды, а питьем — только вода. Тогда он нс знал болезней; тело его было полным телесных сил, а душа — нравственных. Но недолго он ограничивался той естественной пищей, которую ему доставляла природа, как добрая мать. Человек стал выбирать себе утонченные предметы питания, нередко вредные для него, развращающие его тело и душу. И природа воздала ему за это тем, что наделила его множеством болезней. Сложилось такое положение, что разумному человеку можно поставить теперь в пример бессловесных животных, которые, например, «лучше его понимают вред от любовных наслаждений и потому сходятся изредка, только для продолжения рода»[32].
Конкретные моральные наставления Максима следуют, разумеется, основному принципу религиозной морали — нравственный поступок совершается прежде всего для Бога во исполнение Его заповедей, а нс непосредственно ради человека и в силу внутреннего убеждения, императива совести: «Во всех наших делах Бог смотрит на намерение, для Него ли мы делаем их или ради иной причины» (Люб. 2, 36). Когда мы хотим сделать что-то доброе, «будем иметь целью не человекоугодие, но Богоугождение» (Люб. 3, 48). Тот, кто стойко переносит тяготы трудов ради добродетели, замечает он, славит Бога (Богосл. 2, 72). Любовь к человеку опосредована любовью к Богу: любящий Бога не может не любить и всякого человека (Люб. 1, 13).
В целом сочинения Максима Исповедника, его творчество показывают, что это действительно был классический религиозный философ, то есть философствующий богослов, которого занимали главным образом две религиозно-философские темы: гносеологическая в виде мистического познания Бога и этическая в виде уподобления человека нравственно безгрешному Христу, которые вместе вели к достижению конечной цели человеческой жизни — слиянию с Божеством. Поэтому, как нам кажется, в качестве общего знаменателя философского настроя Максима Исповедника можно предложить формулу «Intellcctus quacrcns Dcum».
Если ранее мы говорили о христианском неоплатонизме Арсопагита, а также о склонности к нему Максима Исповедника, то теперь мы можем сказать о христианском аристотелизме, который, вслед за Иоанном Филопоном, являет нам творчество Иоанна Дамаскйна (VIII в.).
Иоанн родился в Дамаске в семье арабов-христиан, члены которой (да и он сам некоторое время) служили при дворе халифа. С указания на это начинается поэма А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»:
Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка, К делам правления призван Лишь он один из христиан Порабощенного Дамаска[33].
Образование Дамаскин получил домашнее: его учил монах. Около 700 г. Иоанн ушел в монастырь близ Иерусалима. Еще раз отметим, что именно пребыванию Иоанна в Кедронской обители и посвящена поэма А. К. Толстого. Он описывает принятие им устава молчания и чудесное возвращение к поэтическому творчеству, которое изображает как жизненное предназначение Иоанна — церковного поэта:
Над вольной мыслью Богу неугодны Насилие и гнет;
Она, в душе рожденная свободно, В оковах не умрет!
Главный с точки зрения историка философии труд Дамаскйна «Источник знания»[34] начинается с философских глав, представляющих собой пропедевтику христианского вероучения, которая задает основу для его категориального толкования. «Прежде всего я предложу то, — заявляет Дамаскин, — что сеть самого лучшего у эллинских мудрецов» (Ист. Прсдисл.). В соответствии с этим он так определяет цель своего труда: «начать философией и вкратце предначертать всякого рода знания» (Ист. I, II). Сказанное, разумеется, не отменяет того факта, что в основу познания он кладет чтение Писания, но дополняет его исследованием учений языческих мудрецов, в связи с чем говорит очень примечательные слова: «Может быть, и у них найдем что-либо пригодное. И царице свойственно пользоваться услугами служанок. Поэтому мы позаимствуем также учения, которые являются служителями истины» (Ист. I, I).
Таким образом, при всех оговорках, философия и становится собственно «источником знания», что видно из воспроизводимого Дамаскином античного определения философии как «искусства из искусств и науки из наук», как начала всякого искусства и всякой науки (Ист. I, III). В предмет философии Дамаскин включает следующие вопросы: познание сущего как такового, то есть познание природы сущего; познание Божественных и человеческих вещей, то есть видимого и невидимого; помышление о смерти; наконец, философия есть уподобление Богу через мудрость, то есть через познание добра и справедливости. Это последнее положение особенно важно, так как выражает христианский подход Дамаскина к философии, классически представленный в его формулировке: «любовь к Богу есть истинная философия» (Ист. I, III).
Помимо этого, Дамаскин очерчивает философскую проблематику посредством описания структуры философского знания, воспроизводя идущее от Античности разделение философии на теоретическую и практическую. В теоретическую входят богословие, физиология (учение о природе) и математика; в практическую — этика, экономика (домоводство, управление домом) и политика (Ист. I, III). Теоретическая философия, поясняет далее Дамаскин, имеет своей задачей рассматривать прежде всего бестелесное, нематериальное в собственном смысле, то есть Бога, затем ангелов, демонов и души, которые нематериальны по отношению к телу, но материальны по отношению к Богу (это предмет богословия).
Теоретическая философия рассматривает также и природу материального, то сеть животных, растений, камней, что составляет предмет физиологии (Ист. I, LXVII). В следующей за этим главе есть раздел «Объяснение слов», который представляет собой какой-то натурфилософский и естествоведческий словарь. Приведем из него пару примеров: «Стихия есть то, из чего что-либо первоначально происходит и в то же наконец разрешается» (стихии — это огонь, вода, воздух, земля, из которых происходит тело); «Время — мера движения и число раннейшего и позднейшего в движении» (Ист. I, LXVIII).
Названные главы содержат весьма развернутый комментарий аристотелевского учения о категориях, которое, на наш взгляд, подвергается известной христианизации, то сеть приспосабливается к задачам объяснения тех или иных положений христианского богословия. Именно на этой стороне комментария Дамаскина мы преимущественно и сосредоточимся. Но сначала отмстим, что он чисто по-аристотелевски придает категориям онтологическое значение. Так, он пишет: «Будем сначала рассуждать о простых словах, которые через простые значения обозначают простые вещи» (Ист. I, III).
Итак, обратимся к основной категории, описывающей сущее (то ov), — субстанции (ооа (а). Ее характеристики таковы: она имеет существование в себе самой, а не в другом; является подлежащим (u7TOxe (p.Evov), как бы материей для вещей; она «есть самосущая вещь, нс нуждающаяся для своего существования в другой». Исходя из этого, Дамаскин заключает: «Таким образом, субстанцией будет Бог и всякое творение, хотя Бог сеть пресущественная субстанция» (Ист. I, IV). Данное понимание субстанции близко к понятию первой сущности у Аристотеля (единичной индивидуальной вещи) и к понятию ипостаси у богословов и самого Дамаскина (см. об этом ниже).
Моменты религиозного подхода к категориям обнаруживаются у Дамаскина и в том, что он призывает учитывать их понимание Святыми Отцами, мнение которых противополагает языческим философам: Святые Отцы отказались от бесполезных словопрений, — подразумевая в данном случае определение таких понятий, как сущность, природа, ипостась и др., игравших важную роль в теории христологии и триадологии.
Так вот, Святые Отцы назвали природой (сриац), сущностью — она же субстанция — (оиа (а) и формой ((lopcprj) вид или, в другой формулировке Дамаскина, «общее и о многих предметах высказываемое, т. е. низший вид», например, ангела, человека, собаку (Ист. I, V; XXX). Вот одно из пояснений Дамаскина на этот счет: «Форма есть субстанция, формированная и специализированная существенными разностями (Siacpopoc); это и есть самый низший вид» (Ист. I, XLI). Так, приводит он пример, субстанция, специализированная признаками одушевленного, разумного и смертного тела составит вид человека.
А индивидом (aTOjjiov), лицом, ипостасью Святые Отцы назвали единичное (jisptxov), например, Петра, Павла (Ист. I, XXX). Таким образом, здесь выделяются две важных онтологических категории: общее (вид) и единичное (индивид, ипостась). Вот определенное высказывание на этот счет: «Одно — сущность, а другое — ипостась; сущность означает вид общий, обнимающий ипостаси одного вида, как, например, Бог, человек, а ипостась обозначает неделимое, например, Отца, Сына, Духа Святого, Петра, Павла» (Ист. Ill, III, IV). Указывается еще и такое отличие вида и ипостаси: предметы единые по виду, например, Петр и Павел, не исчисляются и не могут называться двумя естествами, но, различаясь как ипостаси, они называются двумя личностями (Ист. Ill, III, VII). Обратимся к тому, как Дамаскин рассматривает общее и единичное.
Самый низший вид, например, человек, лошадь, также является индивидом (правда, не в собственном смысле), так как не делится на другие виды. Единичное же будет индивидом уже в собственном смысле, потому что после деления не сохраняет своего первоначального вида. В данном случае обнаруживается некая общность единичного и низшего вида, что видно из примера Дамаскина: «Петр делится на душу и тело. Но ни душа не есть полный человек или полный Петр, ни тело», — и того, что он принимает значение индивида как «основывающейся на субстанции ипостаси» (Ист. I, XI). Эти слова показывают нам «состав» признаков единичных вещей, так как субстанция соотносится с их видовыми, общими свойствами, а ипостась — с их отличительными, характерными свойствами (акциденциями). Сущность, пишет Дамаскин, есть общее, а лицо есть частное. Личности не различаются друг от друга по сущности, но по случайным принадлежностям, которые составляют отличительные свойства личности, а не естества. Ибо ипостась определяют как сущность вместе со случайными особенностями, то есть личность имеет общее (родовое) вместе с отличительными особенностями (Ист. Ill, III, VI).
Еще одна сторона вопроса о составе вещей представлена у Дамаскина в рассуждениях об одной (простой) или о нескольких природах, то есть о сложной природе, ипостаси (индивида). Они, нам кажется, заслуживают рассмотрения, так как понимание единства или разделения природы ипостаси выступало в качестве философско-теоретического основания христологии и триадолгии, что мы видели на примере Иоанна Филопона. Дамаскин пишет, что одна ипостась может образоваться и из различных природ, примером чего служит человек: ведь он составлен из души и тела. Тем не менее, эти различные природы следует считать одной природой на том основании, что они составляют один вид, к которому и принадлежит ипостась, иными словами, природы едины по отношению к виду. Об этом сам Дамаскин говорит так: «Индивиды, подчиненные одному и тому же самому низшему виду, называются единосущностными, имеющими одну природу». И далее: «Сложная природа людей называется единой, потому что сложные ипостаси людей сводятся к одному виду». Но по отношению к единичной (реальной) вещи о единстве различных природ говорить уже нельзя: «Отдельный человек не называется существом единой природы, так как каждая ипостась людей состоит из двух природ, тела и души; причем она сохраняет их в себе неслиянными, доказательством чего служит разделение, происходящее вследствие смерти» (Ист. I, XLI).
В самом крайнем случае Дамаскин придает ипостаси функцию знака, простого наименования отдельного предмета или человека. Он пишет: «Ипостась не выражает ни что есть предмет, ни каков он, но кто. Ибо отвечая на вопрос, кто это такой, мы говорим: Петр».
(Ист. I, XVII). Но в целом Дамаскин описывает ипостась как единичную вещь во всей совокупности и своеобразии ее чувственновоспринимаемых качеств: «Ипостась же должна иметь субстанцию с акциденциями, существовать сама по себе и созерцаться через ощущение, или актуально (evepysioc)» (Ист. I, XXX). Разъяснение понятия ипостаси он дает и в дальнейшем. Ипостась означает простое бытие — субстанцию (можно сказать, первую сущность в аристотелевском смысле); бытие само по себе, бытие самостоятельное; она также обозначает индивида, например, Петра или какую-либо определенную лошадь, отличающегося от других лишь численно (Ист. I, XLII). Говоря так, Дамаскин опять же ссылается на авторитет церковного учения: «Святые Отцы названиями: ипостась, лицо и индивид обозначили то, что, состоя из субстанции и акциденций, существует само по себе и самостоятельно, различается числом и выражает известную особь, например, Петра, определенную лошадь» (Ист. I, XLIII).
Особенно важно подчеркнуть онтологический статус ипостаси как непосредственного бытия: личность имеет самостоятельное бытие; сущность же не имеет самостоятельного бытия, но усматривается в личностях (Ист. Ill, III, VI). Дамаскин отмечает, что одни только ипостаси, или индивиды, существуют сами по себе. Вес остальные составляющие бытия — субстанции, существенные разности, виды и акциденции — лишь созерцаются (GecopouVTOct) в них и через них получают свое существование. Дамаскин пишет, что только в индивиде «получает действительное существование (evepyeia берщтатои) субстанция с сс акциденциями» (Ист. I, XLII). Это положение выражает и его пояснение происхождения названия «ипостась (отоатосац)»: оно происходит то слова ucpeaxavai — «стоять в основании чего-либо» (Ист. I, XLIII).
У Дамаскина можно найти также коррекцию представления о подобии изображения и оригинала, проистекающую из христианского положения о нашем подобии Богу. Обычно изображение и оригинал не имеют ничего общего, кроме имени и фигуры. Человек же имеет общее с Богом по благости, мудрости и силе, уступая ему в их степени. Кроме того, Бог обладает этими свойствами по природе, а мы — лишь по Его соизволению (Ист. I, XXXI).
От онтологической проблематики перейдем теперь к гносеологии Дамаскина, в которой на первом месте стоит, разумеется, познание Бога. Эту тему он развивает следующим образом. Божество неизреченно и непостижимо. Никто, кроме Сына, не знает Отца: не только люди, но даже «премирные силы», херувимы и серафимы. «Также и Дух Святый ведает Божие, подобно тому как дух человеческий знает то, что в человеке». Тем не менее, Бог не оставил нас в совершенном неведении относительно себя. Во-первых, «Он Сам насадил в природе» людей знание о том, что Он существует: «Что Бог есть, это знание нам от природы всеяно» (Ист. Ill, I, I; III). Во-вторых, создание мира, его сохранение и управление им возвещают о величии Божества. В-третьих, через закон, пророков и Иисуса Христа Бог также сообщил нам знание о себе. Всем этим мы должны удовольствоваться и более ничего не искать (Ист. Ill, I, I).
Несмотря на это, Дамаскин обращается и к доказательствам бытия Бога, что типично для схоластики. Одно из его доказательств имеет эмпирическое основание: все изменяется. А то, что изменяется, сотворено кем-нибудь. Творец же должен быть существом несотворенным и, соответственно, неизменным, а таковым является именно Бог. Другое доказательство имеет гипотетический характер. Существование Бога предполагается, так как в противном случае мы не в состоянии объяснить, каким образом могли бы соединиться для составления мира враждебные между собой стихии; кто расположил по известным местам все то, что находится на небе, земле, в воздухе, воде (Ист. Ill, I, III).
За всем этим следует типично агностическое заключение Дамаскина: «Что Бог есть, очевидно. Но что есть Он по сущности и естеству — это совершенно непостижимо и неведомо» (Ист. Ill, I, IV). В данном случае Дамаскин воспроизводит традиционную точку зрения на познание Бога.
Невозможно не только полное знание о Боге, но и точное описание Его. Люди говорят о Боге так, как это свойственно им, приписывая Ему сон, гнев, беспечность, руки, ноги. Поэтому предпочтительнее, видимо, следующие определения Бога, которые приводит Дамаскин: Бог безначален, бесконечен, вечен, присносущен, нссоздан, прост и т. д. (Ист. Ill, I, II). Он бсстслсссн; нс может быть ни материальным телом, так как бесконечен, беспределен и нс имеет образа, ни нематериальным, которое греческие мудрецы называют пятым телом, то сеть эфирным (Ист. Ill, I, IV).
В конце концов, Дамаскин выражает мнение, что сущность Бога не описывают ни отрицательные, ни утвердительные определения. Его сущность не определяет ни нерожденность, ни безначальность, ни неизменяемость и т. п. понятия, ибо все они показывают не то, что Бог есть, но то, что Он не есть. А то, что мы говорим о Боге утвердительно — благой, праведный, премудрый — показывает нам не естество Его, но то, что относится к естеству (Ист. Ill, I, IV). Неудовлетворительность этих определений Дамаскин объясняет тем, что людям, облеченным грубою плотью, невозможно разуметь и говорить в Писании о невещественном и лишенном формы Божестве иначе, как только телесным образом (антропоморфно), посредством образов, типов и символов. Поэтому, например, под очами Божиими должно разуметь Его всесозерцающую силу и ведение (Ист. Ill, I, XI). Все сказанное Дамаскин заключает словами: «Божество, будучи непостижимым, будет и безымянно. Не зная существа Его, не будем искать и имени Его существа. Ибо имена должны выражать свой предмет» (Ист. Ill, I, XII).
Но несмотря на это, есть все же «имена, усвояемые Богу». И среди них вслед за Григорием Богословом Дамаскин называет прежде всего Его самое высшее имя Сый (6 wv) [Сущий], которое Сам Бог объявил Моисею. Смысл данного имени Дамаскин поясняет следующим образом: «Он в самом себе заключает все бытие, как бы некое морс сущности (ouaia?) — неограниченное и беспредельное». Кроме того, это имя показывает, что Бог есть (elvai). (Ист. Ill, I, IX). Дополнительно к этому скажем, что слова 6 wv (сущий) и ouaia (сущность) образованы от причастий муж. и жен. рода глагола eipi (его инфинитив — elvai) — быть, что и позволяет Дамаскину говорить о Боге как заключающем в себе все бытие и, соответственно, существующем. Говоря в общем, Дамаскин в отношении утвердительных имен Бога очень близок к Дионисию Ареопагиту. Так, он пишет: «Свойственно Ему принимать названия от вещей благороднейших и к Нему близких. Поэтому Ему более свойственно называться солнцем и светом… и днем… и жизнью» (Ист. Ill, I, XII).
Другой пласт положений Дамаскина, касающихся гносеологии, представляет собой характерное для древности и Средневековья переплетение психологии и гносеологии. В те времена они не разделялись, гносеология психологизировалась, вследствие чего в ней рассматривался нс столько процесс познания и гносеологические процедуры, сколько познавательные способности человека, что больше относится к ведомству психологии. Таким образом, сначала он говорит о силах неразумной души: о чувстве (оно же — воображение) и восприятии, производимых предметами, и о мечте, возникающей без чувственного предмета. Чувствуем мы посредством органов чувств, воображаем благодаря переднему желудочку головного мозга (Ист. Ill, И, XVII-XVIII). К мыслительной способности Дамаскин относит много чего: суждение, стремление, восприятие умопостигаемого, добродетели, знания, свободный выбор. Органом способности мышления служит средний желудочек головного мозга и находящийся в нем жизненный дух. Чувственные восприятия и мысли сохраняются как представления памяти (Ист. Ill, II, XIX-XX).
Помимо общих вопросов, онтологических и гносеологических (или богословских), Дамаскин обращается и к истории мира, к шестодневу, и к истории человека от их сотворения до конца света и воскресения, то есть к христианской натурфилософии и антропологии. Посмотрим, что особенного можно отметить в комментариях Дамаскина по данным вопросам.
Причиной творения Дамаскин считает то, что «Бог не удовольствовался созерцания Себя Самого» и создал «все как видимое, так и невидимое, также и человека, состоящего из видимого и невидимого» (Ист. Ill, II, И). Порядок творения он описывает определенно в антично-философском, аристотелевском духе, двигаясь от вещества к вещи. Сначала Бог приводит в бытие вещество, а именно землю воздух, огонь, воду, а затем «из этих уже созданных Им веществ» — животных, растения, семена (Ист. Ill, II, V).
И космология Дамаскина — это уже не просто библейский шестоднев, а систематическое описание строения мира по его материальным элементам. Все это хорошо представлено в главе «О небе». В пределах шарообразного неба, все объемлющего и сжимающего, они располагаются следующим образом: земля и вода как наиболее тяжелые стихии помещены в середине (центре мира); вокруг них простирается воздух, который, в свою очередь, окружен наиболее легким из элементов и стремящимся вверх огнем, называемым эфиром (Ист. Ill, II, VI). В дальнейшем Дамаскин подробно описывает физические свойства огня, воздуха, воды, земли и их роль в жизни природы (Ист. Ill, II, VII-X). В подобных описаниях мы видим фиксацию наблюдаемых опытных фактов. Так у него складывается общий вертикальный порядок рассмотрения бытия сверху вниз: Бог, огонь (небо), воздух и т. д.
О строе самого неба говорится на основе тогдашних (античных еще) астрономических воззрений. Оно имеет семь поясов, на которых располагаются планеты. Небо с его неподвижными звездами движется от востока к западу, в то время как планеты — от запада к востоку (имеется в виду годовое движение планет по созвездиям Зодиака[35]). Однако над этим физическим (астрономическим) небом располагается еще одно небо — небо неба, находящееся над твердью. Это уже метафизическое небо, по-видимому, небо Бога и ангелов, о сущности которого, говорит Дамаскин, не следует допытываться, ибо она нам неизвестна (Ист. Ill, II, VI). Попутно заметим, что и на земле есть место метафизического плана. Это «Божественный рай, насажденный руками Божиими в Эдеме» (Ист. Ill, II, XI).
Роль небесных тел Дамаскин понимает вполне научно-реалистически и открещивается от астрологии. Так, от солнца происходят четыре времени года. Звезды дают предзнаменования сырой и сухой погоды, ветров, но никоим образом нс бывают предзнаменованиями наших действий. Мы созданы Творцом свободными, являемся господами наших дел и ничего не делаем в силу течения звезд (Ист. Ill, II, VII).
От рассмотрения натурфилософии Дамаскина перейдем теперь к его воззрениям на человека, также отметив то, что кажется в них наиболее примечательным. Формулу «сотворение человека по образу и подобию Божиему» Дамаскин разъясняет так: выражение «по образу» указывает на способность ума и свободы; «по подобию» означает уподобление Богу в добродетели. Отсюда же следует, что внешний вид человека не имеет никакого отношения к Богу. Души бестелесны не по природе, но только по благости и по сравнению с грубой вещественностью материи. Тело состоит из четырех влаг, которые являются аналогами четырех стихий: черная желчь соответствует земле; слизь — воде; флегматическая влага — воздуху; желтая желчь — огню. По этим и многим другим связям Дамаскин заключает, что человек есть малый мир. В частности, он имеет сходство и с неживыми телами, и с растениями, и с животными, и с духовными существами (Ист. Ill, II, XII).
Из того, что еще Дамаскин пишет о человеке, заслуживает внимания его тезис о свободном человеке-деятеле: «Действующий и производящий что-либо человек есть начало своих действий — и свободен» (Ист. Ill, II, XXV). Его рассуждение на эту тему сводится к тому, что мы свободны в силу разумности. Об этом свидетельствует то, что мы обдумываем свои поступки (Ист. Ill, И, XXVII). Однако воздаяния за наши дела не находятся в нашей власти. Ведь все зависит от Божественной воли, ибо бытие всего имеет свой источник в Боге (Ист. Ill, II, XXVIII). Бог все творит добрым; каждый же по собственному произволению бывает или добрым, или злым (Ист. Ill, IV, XXI).
По «Источнику знания» Дамаскина можно судить также о его исторических и историко-философских воззрениях. Особенность их заключается в том, что он предлагает не просто обычную религиозную концепцию истории, согласно которой Бог определяет ее ход и т. д., но такую, в которой исторические эпохи и философские учения рассматриваются в качестве ересей. Таким образом, Дамаскин выделяет четыре следующие друг за другом религиозно-общественные стадии в истории человечества, называя их «матерями и первообразами» всех ересей: варварство, скифство, эллинство и иудейство (Ист. II). Их последовательность определена, как мы увидим, библейской историей, точнее, «родословием сынов Ноевых», как оно изложено в Библии, в Книге Бытия (10, 11).
Итак, варварство продолжалось от Адама до Ноя. В это время общественная жизнь еще не сложилась. Люди нс имели вождя и согласия; каждый устанавливал себе предпочтения согласно собственной воле, и это становилось для него законом (Ист. II, 1). Скифство сложилось во время от Ноя до Фалека, потомка Сима, сына Ноя, его сына Рогава, и Фарры, внука Рогава. Эта стадия выделяется на основании поселения потомства Сима «в области скифской» (Ист. II, 2).
Эллинство началось со времен Ссруга (Ссруха), сына Рогава. Родоначальниками эллинов были ионяне, происшедшие от Иована, сына Иафста, сына Ноя. В эту эпоху складывается цивилизация. Человеческие племена перешли к гражданскому устройству, обычаям и законоположениям. Установилось идолослужсние и появилась философия, которые и представляют собой собственно ересь эллинства (Ист. II, 3).
Как историк философии Дамаскин называет основные положения учения пифагорейцев, платоников, стоиков и эпикурейцев. Например, стоики учат, что все есть тело, чувственный мир признают Богом и т. д. Никакого отношения к воззрениям этих философских школ и критики Дамаскин не высказывает и, таким образом, поступает как доксограф (Ист. II, 5−8).
Наконец, иудейство, которое ведет начало со времен Авраама, характеризуется тем, что от Бога был получен закон (Ист. II, 4).
В завершение изложения взглядов Дамаскина укажем, что его обыкновенно считают одним из родоначальников схоластической философии Средневековья. Приведем на этот счет хотя бы мнение Д. С. Бирюкова о том, что Дамаскин писал в традиции ортодоксальной «византийской схоластики»[36].
- [1] См.: Сидоров А. И. Логика и диалектика Иоанна Филопона // Историко-философский ежегодник'89. М, 1989. С. 179. Дальше — Сидоров (с указаниемномеров страниц в скобках).
- [2] Антология восточно-христианской богословской мысли: в 2 т. М.; СПб., 2009. Т. 2. С. 37. Дальше — Ант. с указанием номеров страниц в скобках.
- [3] См.: Античная философия / Энциклопедический словарь. М., 2008. С. 168,639; Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 36−37; Лосев А. Ф. Историяантичной эстетики / Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 273.
- [4] Аммоний Александрийский, Иоанн Филопон, Симпликий о «бесконечном» — «беспредельном» — «неопределенном» // EINAI: Проблемы философиии теологии. № 1. СПб., 2012. С. 347. Дальше — EINAI с указанием страниц. Всематериалы из журнала ENAI взяты с сайга einai.ru (дата обращения: 22.03.2014).
- [5] См.: Бирюков Д. С. To a7t? ipov: аспекты понимания у Иоанна Филопонаи поздних платоников и св. Иоанна Дамаскина // EINAI: Проблемы философиии теологии. № 1. СПб., 2012. С. 347. Дальше — Бирюков, с указанием страниц.
- [6] Лупандин И. В. Лекции по истории натурфилософии. 9. Критика аристотелевской космологии Иоанном Филопоном. URL: http://Krotov. info/lib_sec/ (датаобращения: 15.11.2013). Дальше — Лупандин, 9.
- [7] 1 См.: Книга еретиков. СПб., 2011. С. 272−297. Дальше — Ерет. (с указаниемномеров страниц в скобках).
- [8] См.: Лурье В. М. История византийской философии. СПб., 2006. С. 219. Дальше — Лурье (с указанием номеров страниц в скобках).
- [9] См.: Звиревич В. Т. Философия древнего мира и Средних веков. М" 2004.С. 401.
- [10] Лурье В. М. Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону //EINAI: Проблемы философии и теологии. № 1. СПб., 2012. С. 307. ДальшеЛурье. Идент. (с указанием номеров страниц в скобках).
- [11] Лурье В. М. Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону. Часть 2 // EINAI: Проблемы философии и теологии. № 2. СПб., 2012. С. 386.
- [12] Все соч. Максима Исповедника цит. по текстам на сайтах. URL: http://www.pagez.ru и URL: http://blagozvon.ucoz.ru (дата обращения: 15.05.2014).
- [13] 15 Преи. Максим Исповедник. Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия. Первая сотница, 1 (далее — Богосл. 1 с указанием номеровглав в скобках).
- [14] Максим Исповедник. Мистагогия.
Введение
(далее — Мист. с указаниемномеров глав в скобках).
- [15] Преп. Максим Исповедник. Главы о богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия. Вторая сотница, 10 (далее — Богосл. 2 с указанием номеров глав в скобках).
- [16] См.: Петров В. В. Максим Исповедник: онтология и метод византийскойфилософии VII в. М., 2007. С. 21 (далее — Петров, с указанием номеров страницв скобках).
- [17] Максим Исповедник. Вонросоотвегы к Фалассию, XXVIII (далее — Фалас. с указанием номера вопроса в скобках).
- [18] Is Флоренский Г. Восточные отцы V—VIII вв.еков. М., 1992. С. 199 (далееФлор, с указанием страниц в скобках).
- [19] |д Максим Исповедник. Амбигвы к Иоанну, XXIV (далее — Иоанн, с указанием в скобках номера вопроса).
- [20] Максим Исповедник. Главы о любви. Сотница первая, 96 (далее — Люб. 1с указанием в скобках номера главы).
- [21] Максим Исповедник. Главы о любви. Сотница вторая, 27 (далее — Люб. 2с указанием в скобках номеров глав).
- [22] Максим Исповедник. Слово о подвижнической жизни, 24.
- [23] См.: Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 2003. С. 156 (первое изд. — в 1915 г.) (далее — Епиф. с указанием страниц в скобках).
- [24] См.: Мейендорф И.
Введение
в святоотеческое богословие. Вильнюс ;М, 1992. С. 310.
- [25] Максим Исповедник. Амбигвы к Фоме, II. Здесь же отметим, что содержание «Амбигв к Фоме» — это богословие, христология.
- [26] Максим Исповедник. Толкование на молитву Господню.
- [27] Максим Исповедник. Главы о любви. Сотница четвертая, 3−5 (далее — Люб. 4с указанием глав в скобках).
- [28] 2S Максим Исповедник. Главы о любви. Сотница третья, 25. Дальше — Люб. 3(с указанием в скобках номеров глав).
- [29] См.: Максим Исповедник. Послание о существе и ипостаси.
- [30] 10 Максим Исповедник. Десять глав о добродетели и пороке, 2.
- [31] См.: Звиревич В. Т. Античная антропология. Екатеринбург, 2011. С. 158.
- [32] Максим Исповедник. Наставление о воздержании и браке.
- [33] Текст поэмы см.: URL: bibliotekar.ru (дата обращения: 17.01.2014).
- [34] Иоанн Дамаскин. Источник знания. М., 2002 (далее — Ист. с указаниемномеров разделов, книг и глав в скобках).
- [35] См., например, Гигин. Астрономия. СПб., 1997. IV, 8, 1; 13, 3, 5−6.
- [36] 1 Бирюков Д. С. EINAI: Проблемы философии и теологии. № 1. СПб., 2012.С. 326.