Философия нового времени
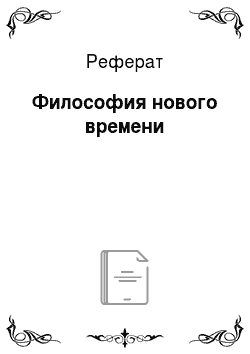
Эти мысли были полнее и глубже развиты главным представителем спиритуалистической школы, Лейбницем. Но между тем как у Ван-Гельмонта Бог, подобно Божеству Спинозы, является верховною субстанциею, из которой проистекает все сущее, Лейбниц видел в нем верховный Разум, установляющий вечный порядок вселенной. Основания же системы те же, как и у Ван-Гельмонта. Из картезианского понятия о субстанции… Читать ещё >
Философия нового времени (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Аналитическая мысль нового времени с первых шагов покидает средневековую почву и возвращается к той точке зрения, на которой стояла древность. Во всех сферах человеческого духа переходом от средневекового раздвоения к новому развитию служит восстановление форм античного мира. Древняя философия, древнее искусство, римское право, классическое понятие о государстве — все это становится предметом удивления и вводится в жизнь новых народов. Вместе с тем светская власть скидывает с себя тот частный характер, который она носила в средние века. Как представительница государственных начал, она подчиняет себе церковь и гражданское общество и делается руководительницею нового, светского развития европейских народов. Со своей стороны, наука отрешается от всяких богословских влияний и становится на собственные ноги. Такое же светское направление мало-помалу получает и искусство. Эта эпоха, которая справедливо именуется Возрождением, совпадает с появлением последней религиозной формы в недрах христианства. Реформация строит самую церковь на начале свободы и через это открывает в нее доступ новым элементам. Последняя ступень религиозного развития есть вместе первый шаг на пути к анализу.
Отсюда начинается и новый период философского мышления. Эпоха Возрождения, в которой средневековые начала перемешивались с античными и являлось чаяние новых путей, служила ему приготовлением. Самостоятельное же движение философии начинается с той поры, когда Декарт, подвергнув всестороннему сомнению всю область человеческого ведения, нашел для него твердую точку опоры внутри собственного сознания субъекта.
Путь, которому следует новая философия в своем развитии, совершенно противоположен тому, которым шло древнее мышление. Там, как мы видели, мысль двигалась от объекта к субъекту; здесь, наоборот, она идет от субъекта к объекту. То был путь разложения; последний, напротив, есть путь сложения. Новая философия берет умственную нить на той точке, на которой оставила ее древность; но она как бы обращает ее назад, постепенно соединяя то, что та разделяла. Точки зрения, через которые она проходит в этом движении, и здесь и там одинаковы, ибо они даются самыми законами разума: иных точек зрения нет и не может быть. Но древнее мышление, исходя от объекта, начинает с универсализма, затем переходит к реализму и, наконец, завершается рационализмом. Новое мышление, напротив, начинает с того, чем кончило древнее. Исходя от субъекта, оно сначала становится на точку зрения рационализма и затем переходит к реализму, чтобы возвыситься наконец к универсализму.
В каждом из этих периодов мы находим опять повторение того самого цикла учений, развивающегося в четырех моментах, который мы видели в древности. И тут действует тот же самый закон, ибо другого в разуме нет и быть не может. Таким образом, в первом периоде, который характеризуется господством рационализма, являются четыре главные школы: натурализм у картезианцев, спиритуализм у Лейбница и примыкающих к нему мыслителей, материализм в англо-французской школе XVIII века, наконец, идеализм в новой немецкой фблософии. И тут скептицизм служит переходным звеном от одной формы к другой.
Основателем новой философии был, как сказано, Декарт. Подвергнув сомнению все, что человек знает, он нашел только одну точку опоры, в которой сомневаться невозможно: это.
- — собственная наша мысль. Кто сомневается, тот думает; кто думает, тот существует. «Я думаю, следовательно, я еемь»
- — такова исходная точка Декарта, а вместе с тем и всей новой философии. Но мое существование есть не более как частное бытие, получающее начало от другого; всякое же частное бытие предполагает бытие абсолютное, существующее сам по себе. Это понятие необходимо представляется разуму, как только он думает о бытии; а так как оно не дается частным бытием, то источником его может быть только само абсолютное бытие, которого существование вытекает из самого его понятия. Это и есть то онтологическое доказательство бытия Божьего, о котором мы подробно говорили выше. Декарт положил его в основание всей своей системы; ибо, как скоро мы признаем существование абсолютного бытия, заключающего в себе всякую реальность и составляющего верховное начало всего сущего, так рассеиваются все сомнения. Моя мысль, как и всякое другое частное бытие, происходит от абсолютного бытия; следовательно, она истинна. Я не могу сомневаться и в ясных представлениях, которые даются мне внешними предметами, ибо и последние происходят от того же абсолютного бытия. Таким образом, противоположные миры, чисто духовный, который я нахожу в себе, и материальный, который раскрывается мне внешними чувствами, связываются причиною производящею. Это — первая точка зрения, на которую становится разум в новом своем движении. Мы видели, что это было вместе с тем последнею точкою зрения, на которой стояла древняя философия. Конец древнего мышления и начало нового совпадают.
Сообразно с этою исходною точкою, основным определением у Декарта становится понятие о субстанции как основе вещей, проявляющейся в своих свойствах, или признаках. Субстанция есть то, что понимается разумом как существующее само по себе; поэтому отдельными субстанциями мы должны признать все, что мыслится отдельно от другого. Существенные отличия, отделяющие одну субстанцию от другой, называются атрибутами; частные же, изменяющиеся определения суть видоизменения (modus). Таких отличных друг от друга субстанций разум может представить три: субстанцию мыслящую, или разум, субстанцию протяженную, или материю, наконец, субстанцию бесконечную, связывающую обе первые и составляющую общий источник обеих. Все свойства и явления материи Декарт выводил из понятия о протяжении. Вследствие этого материя делима, восприимчива к форме и подвижна. Все с этой точки зрения объясняется в ней механическими законами; весь материальный мир не что иное, как огромная машина. В человеке же материя соединяется с разумом. Человек поэтому является двойственным существом: в нем сочетаются две субстанции с совершенно различными атрибутами.
Тут, однако, был камень преткновения системы, ибо как объяснить действие друг на друга двух субстанций, которые не имеют между собою ничего общего? Этот вопрос повел к дальнейшему развитию картезианской философии. Надобно было или движение материи объяснить действием мысли, или деятельность мысли — движением материи.
Первый философ, который видоизменил в этом смысле учение Декарта, был бельгиец Жёлинкс (Geulincx). Затруднение, как сказано, состояло в том, чтобы объяснить согласное действие материи и разума в человеке. Разум есть деятельное начало, само себя двигающее; материя же представляется страдательною субстанцией), получающею движение извне. Но деятельность разума состоит в мышлении; мышление же материального движения произвести не может, ибо последнее не имеет ничего общего с первым. Остается, следовательно, предположить, что соглашение двух конечных субстанций есть действие субстанции бесконечной. По поводу действия разума Бог производит соответствующие движения в материи. В этом состоит так называемая система окказионализма, изобретателем которой был Жёлинкс. Но и самую бесконечную субстанцию Жёлинкс определял как чистый разум. Уже Декарт заметил, что материя делима, а Бог может быть понят только как неделимое существо; следовательно, к нему неприложим атрибут материальной субстанции. С другой стороны, Бог есть источник всякого действия и движения, а таким, по определению Жёлинкса, может быть только разум, сознающий то, что он делает. Материя же, как неразумное и страдательное, следовательно, несовершенное начало, не может быть принадлежностью Божества. Таким образом, тройственность субстанций сводится к дуализму; существуют только две противоположные друг другу субстанции, разум и материя. Деятельная субстанция, разум, есть Бог; все единичные разумные существа суть только видоизменения этой единой сущности. Страдательная же субстанция есть материя, которая получает движение от Бога согласно с деятельностью разума. Но каким образом это совершается, мы не в состоянии понять. Это — чудо, превосходящее человеческое разумение.
В противоположность спиритуалистическому дуализму Жёлинкса развивается материалистический дуализм в системе англичанина Гоббеса, который усвоил себе одну физическую сторону картезианского учения. Механическую теорию Декарга Гоббес распространил на весь духовный мир. По его мнению, философия может понять только одного рода субстанцию, именно, тело; бестелесная субстанция все равно, что квадратный круг. Поэтому философ должен все объяснять чисто физическим механизмом. Самая деятельность мысли не что иное, как движение материальных частиц, происходящее от внешнего толчка. Вследствие этого чувственные представления составляют источник всего человеческого знания. Однако Гоббес не останавливается на опыте, который раскрывает нам только случайные, отрывочные явления. Рядом с опытом он признает и другой, искусственный способ мышления, столь же механический, как и первый, но дающий более обширные результаты. Человек, говорит он, имеет способность означать свои представления и передавать их другим посредством знаков. Производя различные сочетания этих знаков, он может делать выводы, имеющие характер полной истины. Это — та метода, которой следует геометрия, единственная наука, вполне достойная этого названия; ее должны держаться и все другие науки. Но добываемая таким способом истина заключается в словах, а не в деле. Гоббес не объясняет, каким образом истина, заключающаяся в одних словах и добываемая сочетанием знаков, может дать нам настоящие понятия о вещах. Очевидно, что здесь система его находит себе предел. Отправляясь от чистого сенсуализма, он посредством явного софизма делает скачок к умозрению, которому он и следует во всех своих выводах.
Материалистическое его миросозерцание находило себе границу и в другом начале. Все явления мира объясняются у него движением материи; а между тем материя, по учению картезианцев, которое принимает и Гоббес, есть субстанция страдательная: она сама себя двигать не может. Если все происходящие в мире движения проистекают одно от другого, в силу необходимого сцепления механических причин и следствий, то все же надобно признать первого двигателя, который не может быть материальною субстанциею. Такой двигатель есть Бог. Гоббес последовательно пришел к понятию о Боге; но так как это понятие не подходит под наши представления о телах, то он отказывался тут от всякого объяснения. Мы можем только заключить, что Бог существует, но каковы его свойства, об этом мы нс в состоянии иметь ни малейшего понятия, ибо он бесконечен, а мы познаем только ограниченное. Познание Бога, говорит Гоббес, принадлежит не философии, а откровению.
Итак, отправляясь от противоположных концов, с одной стороны от разума, с другой стороны от материи, мысль одинаково приходила к дуализму. Ясно, однако, что на этом нельзя было остановиться. Дуализм не объясняет отношения материи к разуму. Если эти две субстанции находятся во взаимнодействии, то необходимо предположить между ними нечто общее. Если это взаимнодействие производится Богом, то Богу должны быть приписаны атрибуты обеих. А так как это взаимнодействие происходит постоянно в самих вещах, то мы, в силу этого воззрения, должны предположить постоянное присутствие Бога в его творениях. Таким образом, от понятия о Боге, отдельном от мира, мы приходим к понятию о Боге, присущем миру. Это начало и было развито с меньшею последовательностью Малебраншем и с самою смелою логикою Спинозою.
Малебранш отвергает мнение тех, которые видят в Боге чистый дух. Бог не есть дух. в том смысле как мы духом называем человеческий разум. Точно так же он не есть и материя. Но как существо, заключающее в себе всю полноту бытия, как источник всего сущего, он содержит в себе начало того и другого. Все наше мышление проистекает единственно от Бога. В нем содержатся вечные идеи, или первообразы вещей; человеческое же мышление ограничивается участием в этих идеях, которые обнимают все наше разумное естество. Только устремляя свое внимание на эти осеняющие нас божественные начала, мы получаем истинное познание. С другой стороны, бесконечной сущности принадлежит и бесконечное протяжение. Бог есть сила, действующая в механическом движении материи; им движение одного тела передается другому. И это действие постоянно как в материальном мире, так и в духовном, ибо для сохранения вещей необходима та же сила, какая нужна для их произведения.
Из этих начал очевидно следует, что Бог, будучи единственною деятельною силою, есть единственная истинная субстанция; все же частные предметы, действуя только им, нисходят на степень простых проявлений божественной сущности. Если в основных своих положениях Малебранш утверждал, что Бог не есть ни разум, ни материя, то в результате выходило, что он и то и другое. Этот выход и сделал Спиноза, который понятием о Боге, присущем миру, свел картезианскую философию к идеалистическому началу.
По учению Спинозы, существует только одна субстанция, которая и есть бытие самосущее, Бог, или Природа. Все остальное не что иное, как атрибуты или видоизменения Божества. Таких атрибутов может быть бесконечное множество; но нам известны только два: мысль и протяжение. Они составляют две стороны одной и той же субстанции. Этим объясняется и согласное их действие. Видоизменения же проистекают от Бога по необходимому закону, в силу непрерывной цепи причин и следствий. Каждое из них есть не что иное, как частное явление божественной субстанции, а потому в нем неразрывно связаны оба атрибута, мысль и протяжение. Это мы видим и в человеке, который вследствие того является вместе физическим и мыслящим существом. Первоначальный предмет его мышления составляет его собственное тело. Всякое действие, которое, с одной стороны, выражается в телесном движении, с другой стороны, представляется как мысль. Но с понятием о действии связано и понятие о причине, его произведшей. Вследствие этого мы познаем и внешние предметы, насколько они действуют на наше тело. А так как в существе своем каждое действие есть явление бесконечной божественной субстанции, то в каждой мысли заключается и понятие о Боге. Пока человек обращает внимание только на ограниченность частного явления, он познает предметы лишь отчасти и смутно. Когда же он устремляет свои взоры на лежащую в основе их божественную субстанцию, он постигает их в их совокупности и полноте. Истинное познание вещей состоит в том, чтобы созерцать их под видом вечности. Возвышение разума к Богу, источнику всего сущего, составляет основание всякого твердого знания и всякой добродетели.
Нельзя не признать всей глубины и последовательности этого учения, но вместе с гем нетрудно видеть, к каким оно ведет несообразностям. Противоположные элементы мысли и материального бытия сливаются в первобытной основе; но вследствие этого исчезает всякое существенное между ними различие. Не только в своем первоначальном источнике, но и во всех своих проявлениях эти два элемента связаны неразрывно, представляя только две стороны одного и того же бытия. Проводя последовательно эту мысль, мы должны и камню приписать мышление собственного тела, а так как в каждой мысли заключается понятие о действующем в ней Божестве, то и камень должен иметь понятие о Боге и созерцать вещи под видом вечности. Различие материальных и духовных предметов через это исчезает; все является действием одной и той же нераздельной сущности. При этом вовсе не объясняется противоположность атрибутов. Они принимаются как данные, но взаимное их отношение остается неразгаданным. Не объясняется и происхождение видоизменений из общей основы. Спиноза говорит, что оно совершается в силу необходимого закона причинности; но откуда этот закон? В силу чего единая, вечная и бесконечная субстанция проявляется в частных формах? Самая эта бесконечная цепь причин и следствий, исходящая от Бога, ведет к тому, что произведенное отличается от производящего и получает самостоятельное существование. Закон причинности идет от частного к частному; следуя ему, мы должны всякое частное следствие объяснить частною же причиною, а не просто действием общей основы. Поэтому и отношение явлений разума к явлениям материи не объясняется происхождением их из общей субстанции. Как частные явления, они различаются, и надобно объяснить их взаимнодействие именно как частных явлений. Натуралистическая философия, совершивши весь круговорот своих определений, не дает этого объяснения. Приходится обратиться к другим началам.
Эти начала даются самыми результатами, к которым пришел натурализм. В системе Спинозы признается единая субстанция с различными, но не связанными между собою атрибутами. Требовалось объяснить эти атрибуты один из другого, а это можно было сделать двояким образом: или материя объясняется действием разума, или разум действием материи. Первое ведет к спиритуализму, второе — к материализму. Эти два направления разделяют между собою европейскую мысль в XVIII столетии.
Первые начала спиритуализма мы находим у некоторых мыслителей, которые в противоположность механическому воззрению на материю, распространенному у картезианцев, стараются развить понятие о внутренней жизни вселенной. Замечательнейший из них младший Ван-Гельмонт. Бог представляется у него как единая духовная сущность, или как первоначальный свет, из которого в исходящем порядке проистекают все вещи. Субстанция мира одна; все в существе своем есть дух. В основании всего видимого лежат духовные единичные силы, монады, которые отличаются друг от друга большим или меньшим совершенством. Тела образуются соединением монад; душа же есть центральная монада, над ними господствующая.
Эти мысли были полнее и глубже развиты главным представителем спиритуалистической школы, Лейбницем. Но между тем как у Ван-Гельмонта Бог, подобно Божеству Спинозы, является верховною субстанциею, из которой проистекает все сущее, Лейбниц видел в нем верховный Разум, установляющий вечный порядок вселенной. Основания же системы те же, как и у Ван-Гельмонта. Из картезианского понятия о субстанции, как производящей основы, Лейбниц, примыкая в этом отношении к Жёлинксу, берет только понятие о чисто духовной силе как деятельном начале. Этого начала нет в материи; его не дают ни протяжение, ни непроницаемость, которые составляют основные свойства вещества. Деятельная сила, по самому своему понятию, есть нечто единое, производящее из себя различия; материя же, будучи протяженною, никогда не представляется единою, а всегда сложною. Чтобы дойти до первоначальных ее элементов, надобно ее разнять на составные части. Но сколько бы мы ее ни разнимали, мы до неделимых единиц никогда не дойдем, ибо всякая материальная частица имеет протяжение, следовательно, делима. Материальный атом есть противоречащее понятие. Следовательно, необходимо принять атомы формальные, чисто духовного свойства. Таковы именно монады, которые, как простые сущности, не подлежат происхождению и разложению, а составляют вечные основы вещей. То, что мы называем материею, не что иное, как собрание этих единичных сил. Пространство есть порядок их расположения, время — порядок последовательного их изменения. Таким образом, материальный мир составляет только явление невидимых сил; сущность же последних — чисто духовного свойства: деятельность монад состоит единственно в представлении. Каждая из них есть зеркало, в котором отражается вся вселенная. А так как каждая отражает мир со своей точки зрения, то отсюда проистекает бесконечное разнообразие монад. Нет двух единиц, вполне сходных между собою. Представления же отличаются друг от друга большею или меньшею степенью ясности, отчего зависит и большее или меньшее совершенство монад. Только ясные представления доходят до сознания, остальные остаются в бессознательном состоянии. Последовательность этих представлений в каждой монаде определяется неизменным законом причин и следствий, и тем же законом устанавливается общая их связь. Так как деятельность монад ограничивается представлением, то они не могут действовать друг на друга; они развиваются чисто изнутри себя. Поэтому все человеческое познание не что иное, как внутреннее развитие: извне мы не получаем ничего. Но так как при этом каждая монада должна отражать в себе весь мир, то необходимо соглашение всех представлений между собою. Это соглашение совершается неизменным законом, исходящим от Бога. Лейбниц восстает против картезианского учения о постоянном вмешательстве Бога в дела мира. Он утверждает, что подобное вмешательство совершенно излишне, если раз установлен закон, которым заранее определена вся последовательная деятельность монад; этим способом все будут действовать согласно. Этот неизменный и непреложный закон Лейбниц назвал преду став ленною гармонией), и все свое воззрение он обозначал названием системы предуставленной гармонии. По этой теории, в мире господствует неизменный порядок; все от века предопределено. Этот порядок установлен верховным Разумом, монадою монад, или Богом, который связывает причины производящие и причины конечные, царство природы и царство благодати, единым формальным законом.
Эти чисто спиритуалистические начала очевидно ближе всего подходят к христианскому учению. Поэтому Лейбниц был ревностным защитником христианских догматов. В особенности в своей 'Теодицее" он старался, с точки зрения естественного разума, оправдать учение о грехопадении и о вечном осуждении грешников. Он доказывал, что существование зла в мире необходимо для совершенства целого, чтобы возвысить красоту добра. Но мы видели уже, что в вопросе о происхождении зла односторонний спиритуализм оказывается недостаточным. Из принятых Лейбницем начал вытекает чисто нравственное миросозерцание, но объяснение противоположного начала ими не дается.
Независимо от того односторонность системы обнаруживается и в невозможности объяснить этим путем явления материального мира. Разумные монады производят только представления; но они не способны произвести телесное движение. Откуда же берется последнее? Недостаточность этого взгляда для объяснения физических явлений побудила других мыслителей спиритуалистической школы войти в сделку с материалистическими началами; но на этой почве из подобной сделки не могло выйти ничего, кроме эклектического сочетания разнородных воззрений.
Такой именно характер носит на себе философское учение Томазия. В противоположность Лейбницу, который все подчинял истекающему из разума мировому закону, он является представителем индивидуализма в спиритуалистической школе. Под влиянием Локка Томазий склонился к сенсуализму; он утверждал, что нет ничего в мысли, чего бы не было предварительно в чувстве. Вещи он разделял на видимые и невидимые, на тела и силы. Но тела являются у него только придатком сил, ибо он признавал, что есть силы без тел, но нет тел без сил. С другой стороны, однако, опять же под влиянием сенсуализма, он самые силы подчинял телам. Человек, по его учению, состоит из тела и душевных сил; но последние находятся в зависимости от первого. Познание, как сказано, получается от внешних чувств; разум движется волею, воля же, которую Томазий приравнивал к влечениям, движется внешними предметами, возбуждающими желание или отвращение. Но так как влечения противоречат друг другу, то для достижения высшей цели человеческой жизни, которая состоит в счастье, необходимо установление общей нормы, умеряющей и направляющей влечения. Отправившись от чисто индивидуалистических начал, Томазий приходит к необходимости нравственного закона, установление которого он предоставляет мудрецу. Этим обличается внутреннее противоречие всей системы.
С большею полнотою, хотя также в значительной степени с эклектическим оттенком, выработал свое учение Вольф, которым завершается развитие немецкого спиритуализма. Он хотел из положенных Лейбницем начал выработать систему, обнимающую все предметы человеческого ведения; но так как эти начала не способны были объяснить все явления, то нередко он прибегал к чисто эмпирическим доказательствам, которые плохо клеились с основаниями системы. Если его учение выигрывало через это в многосторонности, то оно теряло в последовательности. Так, относительно монад, он вместе с Лейбницем признает их единичными, неделимыми силами, из которых составляется все сущее; он соглашается и с тем, что деятельность их и происходящие в них перемены могут быть только внутренние. Но он не хочет признать, что эта деятельность ограничивается представлением. Чтобы спасти телесное движение, он утверждает, что деятельность единичных сил может быть различная, не объясняя при этом, каким образом чисто внутреннее действие может произвести внешнее движение, и не замечая, что если мы примем двоякого рода силы, одни представляющие, другие движущиеся, то мы получим уже не одно, а два противоположных начала.
Тот же эклектизм господствует у Вольфа и в объяснении общей системы мироздания. Высшее начало, к которому он все сводит, есть начало совершенства; оно означает, по его определению, единство в разнообразии. Но из чистого спиритуализма можно вывести только нравственное совершенство, а никак не совершенство всего мироздания, которое требует идеалистического сочетания противоположностей. Вследствие этого там, где спиритуалистическое объяснение оказывается недостаточным, Вольф восполняет его другими, чисто внешними соображениями. Все в его системе приводится к телеологической точке зрения; но это — не внутренняя, а внешняя телеология, распадающаяся на множество частных и случайных целей, которые произвольно приписываются Богу как творцу и законодателю вселенной.
Наконец, и в приложении к человеку, поставляя совершенство высшим правилам жизни, Вольф, для осуществления этого начала, прибегает с сочетанию нравственных требований с удовлетворением личных стремлений. А так как этого нельзя сделать, основываясь на одном нравственном начале обязанности, то отсюда опять вытекает эклектическое соединение разнородных направлений, нарушающее последовательность системы[1]. Принятое Вольфом начало совершенства действительно есть высшее, до чего доходит спиритуалистическая философия. Им завершается весь цикл определений духовного мира, цикл, заключающий в себе понятия о духовной субстанции, о мировом законе, о личности и, наконец, о нравственной цели. Но как мировое начало, требующее согласия всего сущего, оно выходит уже из пределов чистого спиритуализма. Чтобы свести все мироздание к мыслимому единству, спиритуалисты принуждены прибегать к эклектизму: к чисто формальному началу присоединяется извне заимствованное содержание.
Параллельно с развитием спиритуализма идет развитие материализма. Исходною точкою этого направления была основанная Локком теория познания. Примыкая к учению Гоббеса, Локк, на основании подробного, хотя и поверхностного разбора человеческих способностей, доказывал, что все наше познание происходит из опыта, внешнего или внутреннего. Главным доказательством служит то, что общие понятия составляют позднейшее явление в человеческой мысли; они получаются отвлечением от данных опытом представлений. Первоначально же, по теории Локка, разум изображает собою чистую доску, которая наполняется содержанием только путем внешних впечатлений или внутреннего наблюдения над тем, что происходит в душе. Задача мышления заключается единственно в сложении и разложении этого полученного извне материала. Отсюда разум извлекает общие понятия; но этим понятиям не соответствует ничего действительного. Это не более как установленные человеком знаки, посредством которых разум удобнее обозревает бесконечное разнообразие представлений. В особенности это относится к понятиям о субстанциях, которые заключают в себе только неопределенные представления чего-то лежащего в основании признаков. Мы не можем представить себе признаки существующими сами по себе, а потому непременно предполагаем нечто, служащее им основанием; но что такое это нечто, об этом мы не имеем ни малейшего понятия. Поэтому все наши названия субстанций изображают только номинальную их сущность; это не более как слова, обозначающие совер7 шенно неизвестные нам предметы. Вследствие того из них невозможно сделать никакого вывода. Напротив, понятия о признаках дают нам их реальную сущность, ибо они получаются прямо из внешних или внутренних впечатлений, следовательно, изображают самые предметы. Таковы именно все простые представления, которые составляют первоначальный материал познания, и, как таковой, получаются единственно из опыта. С другой стороны, и те сложные понятия о признаках, которые произвольно составляются человеческим умом, изображают их реальную сущность, ибо в этом случае вся сущность вещи заключается в нашем представлении; к внешним же предметам это представление прилагается настолько, насколько последние ему соответствуют. На этом Локк основывает достоверность как математических законов, так и нравственных правил. Все наши выводы в этих сферах касаются только согласия или несогласия наших умственных представлений, а потому они могут быть совершенно правильны помимо всякого опыта. Наше познание субстанций ограничивается гем, что дается нам опытом; вследствие этого оно идет весьма недалеко. Но признаки мы можем рассматривать в их отвлечении и выводить отсюда общие и необходимые законы.
Очевидно, однако, что это последнее положение подрывает самые основания системы. Если все наше познание получается из опыта, то каким образом может рассмотрение отвлеченного признака, представляющего только слабый след прошедшего впечатления, дать нам более точное и достоверное знание, нежели наблюдение самих предметов? Отвлеченный признак, так же как и представление субстанций, есть общее понятие, извлеченное из опыта, следовательно, по учению Локка, не более как знак, произвольно установленный для более удобного обозрения предметов. Как же может рассмотрение знаков привести нас к какой бы то ни было истине? Еще более это относится к произвольно составляемым сложным представлениям. Если чисто умственные сочетания способны привести нас к познанию истины, то взаимные отношения признаков должны быть нс произвольные и случайные, а необходимые, и тогда надобно показать, откуда берутся связывающие их законы? Если ум не извлекает их из опыта, то у них должен быть другой источник. Это противоречащее его системе понятие о реальной сущности отвлеченных признаков послужило Локку средством сделать скачок из опыта в умозрение. Относительно самого понятия о субстанции Локк не объяснил, почему мы непременно предполагаем, что в основании признаков лежит что-нибудь, о чем опыт не дает нам ни малейшего понятия. Очевидно, что и тут мы не имеем дело с внутренним законом разума. Мало того, объявивши все субстанции непознаваемыми, признавши, что в определении их мы не можем идти далее тех сочетаний признаков, которые даются нам опытом, Локк воспользовался своим умозрительным приемом для вывода именно той субстанции, которая ускользает от всякого опыта, субстанции божественной. Разум, говорит он, несомненно убеждает нас, что есть первоначальная, существующая от вечности причина всех вещей, что эта причина всемогуща, ибо все от нее произошло, и разумна, ибо в действии нс может быть ничего, чего бы не было в причине. Отсюда мы получаем вполне достоверное понятие о бытии Божьем.
Делая такой совершенно правильный логический вывод, Локк тем самым доказывал, что все наше познание не получается из опыта. Последний служит нам единственным источником для познания явлений; но как скоро мы хотим установить начало, построить общую систему, так мы волею или неволею принуждены прибегнуть к умозрению.
То же умозрение служит Локку средством и для вывода нравственного закона, который он думал основать на усматриваемых разумом необходимых отношениях между Богом и человеком. С этой точки зрения он в нравственном законе видит повеление Божие; отсюда его обязательная сила. Но это не мешает тому же Локку производить, согласно со своею сенсуалистическою теориею, все наши понятия о добре и зле из чувств удовольствия и страдания, которые сопровождают внешние и внутренние ощущения. Добром, по этой теории, называется то, что производит удовольствие и уменьшает страдание, злом — то, что имеет обратное действие. Высшая степень удовольствия называется счастием, и это, по мнению Локка, составляет единственное, что движет желаниями человека. Самое исполнение закона Божьего Локк ставит в зависимость от тех наград или наказаний, которых человек может ожидать от Бога.
Ясно, что эти две теории не клеятся друг с другом. Одна ведет к нравственному воззрению, другая к чистому эгоизму. Вследствие этого самая школа Локка распалась на две противоположные отрасли, нравственную и материалистическую. Первая развилась преимущественно у шотландцев, вторая главным образом у французов.
Нравственная отрасль сама, впрочем, разбивается на разные направления. Понятие Локка о законе, как повелении Божьем, было, конечно, оставлено, ибо оно никак не могло служить основанием для вывода нравственных начал. Мы из существования нравственного закона заключаем о повелении Божьем, а не наоборот; следовательно, понятие о законе должно предшествовать. Но Кларк, а за ним Волластон и у французов Монтескье выработали понятие о законе как необходимом отношении, вытекающем из природы вещей. Отсюда они выводили, что для понимания нравственных законов мы должны изучать самые вещи и стараться постигнуть их необходимые отношения. А так как, по учению Локка, познание вещей дается нам опытом, то из этого следует, что нравственность состоит в правильном, а безнравственность в неправильном понимании вещей. Между тем даже совершенно правильный опыт раскрывает нам с одинаковою убедительностью такие отношения, которые мы называем нравственными, и такие, которые мы называем безнравственными. Между своекорыстными влечениями человека и внешними предметами его деятельности существуют такие же необходимые отношения, как между теми же предметами и доброжелательными наклонностями. Которые же из этих отношений мы назовем нравственными? Очевидно, что для определения нравственности или безнравственности действий недостаточно одного изучения отношений: необходимо еще суждение об этих отношениях. А так как подобное суждение невозможно извлечь из внешнего опыта, то остается прибегнуть к внутреннему опыту, то есть к нравственному чувству, которое дает его нам непосредственно. Такова именно теория шотландской школы, основателем которой был Гучисон.
Мы видели, однако, что и внутреннее чувство не в состоянии дать нам искомое суждение. Чувство — начало субъективное, а потому изменчивое; между тем для суждения, имеющего характер общего правила, требуется объективное мерило. Субъективное чувство само зависит от влечений, следовательно, не может быть над ними судьею. Чтобы судить о влечениях, нужно нечто иное, возвышающееся над ними. Этого именно требовал последователь Гучисона, Адам Смит, когда он утверждал, что для суждения о нравственности или безнравственности поступков человек должен стать на точку зрения беспристрастного зрителя. Но и эта точка зрения, без высшего руководства, не приводит нас ни к чему, ибо откуда возьмет она мерило, которое не дается ей содержанием? Очевидно, что для этого нужно иное начало. Это начало и есть разум, который, возвышаясь над чувством и нося в себе сознание абсолютного закона, может быть источником абсолютных суждений. Без этого нравственное чувство становится делом простого вкуса, то есть нравственное становится на одну доску с безнравственным. Это и есть тот результат, который был выведен из этой теории скептицизмом.
В противоположность учению шотландцев, французская школа развила из положенных Локком начал систему чистого материализма. Путь к этому воззрению проложил Кондильяк, который все человеческое познание свел к внешнему опыту как первоначальному его источнику на том основании, что внутренний опыт раскрывает нам единственно то, что мы предварительно получили из внешнего. Следуя тому же направлению, Гельвеций пытался вывести все нравственные и общественные отношения людей из эгоизма. Добродетель, по этой теории, не что иное, как правильный расчет. Человек, по своей природе, всегда может и должен иметь в виду только себя. Наконец, в ''Системе природы" Гольбаха начала материализма последовательно прилагались ко всему мирозданию. Но и тут, как и везде, оказалась полная несостоятельность этого воззрения. Вся ''Система природы" не что иное, как ряд произвольных положений и логических скачков, заменяющих точные выводы. Предполагаемые материальные частицы одаряются разнообразными силами, притягательными и отталкивающими; затем, все связывается единым, неизвестно откуда вытекающим законом; наконец, материи приписывается даже цель, сохранение своего бытия. Действительные явления, конечно, не объясняются этими началами; но об объяснении явлений нет и речи: голословно признается, что все в мире происходит вследствие соединения и разделения материальных частиц. Самое мышление производится отсюда, хотя между мыслью и физическим движением логика не в состоянии усмотреть ничего общего. Сам Гольбах в этом сознается; но он утешает себя тем, что многое в природе для всех покрыто непроницаемою тайною.
Немудрено, что это учение возбудило противодействие в самих последователях сенсуализма. Против материалистов восстал идеалист этой школы, Руссо. Он утверждал, что говорить о материи как источнике жизни — значит изрекать слова, лишенные смысла, ибо материя, по самому своему понятию, есть нечто мертвое и косное. Внутреннее самосознание человека показывает, что источником силы может быть только воля, а источником закона только разум. Поэтому Руссо видел в мире правление единого Божества, а в человеке соединение двух элементов, тела и души. Примыкая к шотландцам, он проповеди личного эгоизма противополагал нравственные требования человека, вытекающие из внутренней его природы. Он отвергал и фатализм, составляющий необходимое последствие материализма. Ссылаясь на внутреннее сознание человека, он доказывал, что человек есть существо свободное, само управляющее своими действиями, а потому ответственное за них. Но далее начала личной свободы Руссо не шел. Стоя на индивидуалистической почве, он все свои доводы черпал из чувств и мыслей отдельного лица. Возвышаясь над материализмом, он в человеке видел сочетание двух элементов, материального и нравственного; но последний и у него ограничивался субъективным чувством. Окончательный вывод из этой теории состоял в том, что личной воле приписывалось верховное решение во всех человеческих действиях; свобода становилась абсолютным началом всей человеческой жизни. Но так как человек не создан для одиночества, то приходилось связать его с другими, и тогда возникал вопрос: каким образом устроить общежитие так, чтобы каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако же, единственно себе и оставался бы столь же свободным, как и прежде? Руссо думал найти разрешение этой неразрешимой задачи в полном отчуждении всех личных прав обществу, с сохранением за каждым членом безусловного права участвовать во всех общественных решениях. Это было сочетание абсолютной свободы с абсолютным подчинением. Но такое решение[2] само в себе было не что иное, как вопиющее противоречие, а потому могло вести только к нескончаемым противоречиям. Это мы действительно и находим в ''Общественном договоре" Руссо[2].
Таким образом, материалистическое направление образовало опять полный цикл философских учений. Чистый материализм составляет только один момент в этом цикле, ибо как скоро мы не ограничиваемся признанием неизвестно откуда явившихся материальных частиц, с неизвестно откуда взявшимся у них разнообразием сил, а ищем объяснения и связи этого бесконечного разнообразия, так мы неизбежно должны восполнить это воззрение другими началами. Мы приходим к понятию о единой силе, владычествующей в мире, о едином законе, связывающем все сущее, наконец, о высшей цели, которая обнаруживается и в явлениях физической природы, и еще более в человеке. В особенности внутренний опыт, противополагаясь внешнему, раскрывает нам такие явления, которые не объясняются действием материальных частиц. Волею или неволею приходится искать общих начал; но именно общих начал опыт нам не дает. Напротив, последовательно проводя теорию сенсуализма, мы приходим к полному их отрицанию.
Этот вывод делает скептицизм, который и тут, так же как и в древности, разрушает односторонние точки зрения, выводя из них крайние последствия. Скептицизм, в лице Бэля, явился уже при разложении картезианской философии, против которой автор «Исторического и критического лексикона» направлял свои удары. Собственное учение Бэля склоняется, впрочем, к сенсуализму, которому он пролагал путь. Того же направления держался и другой, позднейший скептик, Юм. Отправляясь от теории Локка, он, со своею ясною логикою, выводил из нее все заключавшиеся в ней последствия. Юм отверг понятие о субстанции, как основанное единственно на привычной совместности тех или других признаков в нашем представлении. Он отверг и понятие о причинности, показавши, что и в нем нет ничего, кроме привычного соединения явлений, часто следующих друг за другом. Опыт дает нам только последовательность явлений, а отнюдь не причинность. Наконец, в практическом отношении Юм, отрицая всякие высшие требования, приводил всю деятельность человека к началу пользы. Здесь, однако, возникал вопрос: какая польза, личная или общая, должна быть целью человека? Если первая, то все сводится к эгоизму, и тогда всякие нравственные правила исчезают; если же, как удостоверяет нас опыт, нравственные действия ставятся человеком выше эгоистических, то чем объясняется это одобрение? Несмотря на свою скептическую точку зрения, Юм, ввиду невозможности вывести нравственность из эгоизма, останавливался на теории нравственного чувства: независимо от приносимой пользы, нам нравятся доброжелательные наклонности; такова природа человека. Несомненно, однако, что нам часто нравится и эгоизм; сам Юм признает, что эгоистические стремления в человеке вообще сильнее доброжелательных. Откуда же одобрение, которое дается последним? Юм объясняет это тем, что в общежитии необходимо установление какого-нибудь общего мерила похвалы и порицания. Господство эгоистических правил сделало бы взаимные отношения людей невозможными. Поэтому в обиходе признаются нравственные начала, и хотя сердце не всегда участвует в этих суждениях, однако они достаточны, по крайней мере, для разговора и удовлетворяют всем нашим потребностям в обществе, на кафедре, в театре и в школах. Таким образом, окончательно нравственность сводится к практическим потребностям. Сообразно с этим, Юм сознается, что если бы кто-нибудь стал считать высшею мудростью вообще следовать правилам нравственности, а при случае пользоваться всеми изъятиями, то на подобное рассуждение трудно было бы отвечать.
Но и на этом скептицизм не остановился: в лице Берклея он пришел к отрицанию тех самых начал, которые служили ему точкою исхода. Вместе с Локком Берклей отвергает всякие общие начала: человеческая мысль может представлять только частные предметы. Но эти частные представления не идут далее представлений: это не полученные извне впечатления, а внутренние явления субъекта. Вследствие этого Берклей отрицал самое существование телесного мира: есть только представляющие субъекты. То, что мы называем внешними предметами, не что иное, как согласные представления многих. А так как это согласие не объясняется из собственной природы субъектов, то Берклей видел в этом действие Бога, который, по неизменным законам, производит в нас эти сочетания. Таким образом, спиритуализм Лейбница соединялся здесь с эмпиризмом Локка в общем скептическом миросозерцании.
Однако скептицизм нового времени не ограничился этими отрицательными выводами. Отвергнув объективное познание вещей, он подверг тщательному анализу субъективную способность человека и показал в ней присутствие двух противоположных элементов, из которых слагаются все наши представления. Если Лейбниц производил все человеческое познание из самодеятельности разумного существа, а Локк, напротив, все выводил из опыта, то величайший из теоретических скептиков, Кант, связал оба эти начала в человеческом разуме и тем проложил путь новому, идеалистическому миросозерцанию.
По учению Канта, содержание познания дается нам опытом, форма же исходит из чистого разума. Содержание представляет бесконечное разнообразие явлений; форма сводит это разнообразие к единству самосознания. Это объединение совершается посредством известных, присущих разуму формальных начал. Таковы представления пространства и времени, логические категории, наконец, верховные идеи, к которым разум сводит все сущее, Бог, свобода, бессмертие. Но все эти начала имеют чисто субъективное значение. Они служат нам единственно для объединения явлений в нашем уме; сущности вещей они нам не раскрывают. Мы познаем одни только явления, а что такое вещи сами по себе, об этом мы не имеем ни малейшего понятия.
Если же разум, не сознавая чисто субъективного свойства идей, хочет дать им объективное значение, он запутывается в противоречиях, из которых нет исхода.
Останавливаясь на такой чисто скептической точке зрения в теоретической области, Кант находил, однако, твердую опору для философской мысли в практической сфере. Здесь он указывал на то, что человек действует не только для внешних целей, но и по сознанию обязанности. В этом факте заключается основание всего нравственного порядка. Когда человек побуждается к действию какими бы то ни было внешними целями, он всегда имеет в виду получаемое от этого удовольствие. Когда же он действует по обязанности, он руководится чистым представлением о законе. Первое составляет содержание, второе — форму практической деятельности. Первое получается из опыта, второе истекает из чистого разума. Непоколебимое основание нравственного закона заключается в формальном предписании: ''действуй так, чтобы правило твоих действий могло быть общим законом для всякого разумного существа". Но для того чтобы человек мог определяться исключительно на основании разумного требования, он должен иметь способность отрешаться от всякого частного определения, то есть он должен быть свободен. Свобода составляет, следовательно, необходимое условие исполнения нравственного закона. Вместе со свободою практический разум влечет за собою и признание других идей, которые для теоретического познания представляют лишь неразрешимые противоречия. Нравственный закон составляет идеальное требование, к которому человек может приближаться только постепенно, в бесконечное время. Отсюда постулат бессмертия души. Полное же осуществление этого закона требует соглашения с ним и внешнего бытия, а это возможно только для всемогущего Существа, которое, сознавая нравственный закон, вместе с тем властвует и над внешнею природою. Отсюда постулат бытия Божьего. Таким образом все то, что теоретический разум оставлял неопределенным, восполняется практическим разумом. Человек находит непоколебимую точку опоры в нравственном законе, который составляет безусловное требование для всякого разумного существа.
Такова система Канта. Слабая ее сторона лежала в скептическом характере теоретической ее части. Кант глубоким анализом человеческих способностей показал присутствие в разуме двух противоположных элементов, но он не объяснил их связи. Дальнейшее развитие этого момента повело опять к двум противоположным точкам зрения: у одних форма получила перевес над содержанием, у других — содержание над формою.
Первый шаг по этому пути сделал Рейнгольд. Он старался связать противоположные элементы познания понятием о представлении, которое предполагает, с одной стороны, представляющего, с другой — представляемое. Представляющий дает форму, представляемое — содержание. Но уже Рейнгольд признавал, что содержание определяется вне нас сущими предметами, в которых поэтому должно быть нечто соответствующее познаваемым нами явлениям. Между тем мы признаем существование внешних предметов единственно потому, что они производят в нас известные явления, то есть на основании закона причинности; закон же причинности, по теории Канта, есть чисто формальный закон, истекающий из разума и не имеющий приложения к внешнему миру. Если справедливо положение Канга, что формальные законы разума служат исключительно для объединения субъективных явлений и лишены всякого объективного значения, то мы нс имеем ни малейшего права заключать, что существуют вещи, производящие в нас эти явления. Если же, наоборот, мы признаем существование вещей, то мы тем самым выходим уже из теории Канта и допускаем, что формальные законы разума приложимы не только к явлениям, но и к самим вещам. Положение Рейнгольда, что в вещах должно быть нечто соответствующее явлениям, было переходом от субъективного идеализма к субъективному эмпиризму. Полное развитие этого направления принадлежит Якоби.
Вместе с Кантом Якоби признавал, что формальное знание, истекающее из чистого разума, не дает нам никакого понятия о вещах. Задача разума, или, по терминологии Якоби, рассудка, заключается единственно в том, чтобы связать данное извне содержание. Стараясь установить непрерывную цепь доказательств, рассудок идет от одного посредствующего звена к другому, но окончательно он должен остановиться на чем-нибудь непосредственно данном, что служит для него точкою исхода. В этих-то непосредственных данных, которые не суть произведения нашей познавательной способности, а получаются нами извне, заключается для нас основание всякой истины. Следовательно, истины надобно искать нс в самодеятельности, а в восприимчивости разума, не в рассудочной форме, а в получаемом извне содержании. Эту восприимчивую способность Якоби называл верою. Она, по его учению, дает нам непосредственное убеждение в истине того, что мы познаем, и это убеждение служит для нас единственным основанием всякого познания. Эта присущая человеку вера может быть двоякая: вера в то, что ниже его, и вера в то, что стоит выше его. Первая неразрывно связана с внешним опытом. Мы непосредственно убеждены в действительном существовании вещей, которые мы познаем путем внешних чувств; этим убеждением мы и руководствуемся в опытном знании. А с другой стороны, внутреннее чувство раскрывает нам существование бесконечного бытия, или Бога, который составляет начало всех наших нравственных понятий. Формальный рассудок, связывая одно частное определение с другим, никогда не выходит из области условного; безусловное открывается нам только верою.
Нетрудно видеть всю недостаточность этой теории. Уже в области внешнего опыта мы не можем признавать за безусловную истину то, что непосредственно дается нам внешними чувствами. Чувства нас нередко обманывают, и только разумная проверка опытных представлений приводит нас к точному познанию вещей. Следовательно, и тут мерило истины лежит не в непосредственном ощущении, а в разумном начале. Еще более это относится к тому, что дается нам внутренним чувством. Сам Якоби, развивая понятие о Боге, доказывал необходимость возвыситься от условного к безусловному, от конечного к бесконечному: не ограничиваясь частными явлениями, мы должны признать первоначальный источник разума и жизни. Между тем все эти доводы основаны на требованиях разума. Это до такой степени очевидно, что Якоби, в позднейшую эпоху своей философской деятельности, стал заменять в приложении к бесконечному слово " вера" словом " разум" (Vernunft), отличая притом разум, как способность воспринимать бесконечное, от формального рассудка, вращающегося исключительно в области конечного. Но этим признанием Якоби выходил уже из пределов своей теории. Легко было доказать, что-то, что он называл разумом, составляет только высшую сторону той же самой познавательной способности, которая, исходя от конечного, в силу внутреннего, необходимого закона, может остановиться единственно на бесконечном. Это был переход к объективному идеализму.
Такой же переход совершается и с противоположной стороны, путем мышления, отправляющегося от чистого сознания формы. Героем этого философского движения был Фихте. Исходя от установленных Кантом начал, он пытался самое содержание познания вывести из формы. Разум, по его теории, есть чистая деятельность, которая сама полагает все свои определения. Точкою отправления служит для него собственное его самосознание: противополагая себя самому себе как субъект и объект, он тем самым становится началом двух противоположных миров, субъективного и объективного. Субъективное начало есть я; объективное же, будучи противоположно первому, определяется как не-я. Но оба составляют две стороны одного и того же субъекта; поэтому они находятся в постоянном взаимнодействии. Это взаимнодействие может быть двоякое: действие объективного начала на субъективное составляет область теоретического разума; действие субъективного начала на объективное образует область практического разума. Первое предшествует второму, ибо субъект начинает с того, что полагает себя как объект и затем уже возвращается к себе как субъекту. Объективное положение всегда определенное, следовательно, частное, ибо, для того чтобы сознать предмет, необходимо его определить. Субъективное же начало есть общее; оно составляет источник этого частного. Отправляясь от частного, разум, в силу внутреннего логического закона, восходит к общему; от объекта он идет к субъекту. Это движение состоит в том, что он постоянно полагает определения, но также постоянно их снимает, ибо как субъект он по своей природе выходит из пределов всякого определения. Таким образом, он полагает себя то как конечное, то как бесконечное. Первое есть объективное начало, второе — субъективное. Сознание последнего как исходящего от субъекта ведет к тому, что разум, отрываясь от объективных определений, посредством рефлексии переходит к себе как субъекту. Тут начинается новый процесс, который продолжается до тех пор, пока, развивши одно за другим все определения умственного мира, разум доходит наконец до чистого единства самосознания, завершающего все это теоретическое здание. Отсюда начинается обратный ход, движение практического разума, который, сознавши внутреннее свое начало, свободу, хочет осуществить ее в объективном мире. Смысл этого нового движения заключается в том, что весь объективный мир должен быть подчинен разуму как верховному началу. В этом состоит абсолютное требование нравственного закона, который есть закон чистого разума. Но так как объективный мир представляет бесконечную цепь частных определений, которые то полагаются, то опять снимаются, то осуществление этого закона лежит в бесконечности. Практический разум может только постепенно приближаться к этой цели.
В построении этой системы, которая представляет гигантскую попытку вывести из чистой формы весь умственный и нравственный мир человека, Фихте встретился с двумя затруднениями. Первое лежало в самой исходной точке, в положении объективного бытия. Закон чистого разума есть закон самосознания, противополагающий объект субъекту. Первое действие разума есть положение объекта, и это положение непременно должно быть определенное, ибо без этого нет сознания. Но откуда берется определенность? Почему полагается именно это, а не другое? В чистом разуме нет для этого никакого определяющего начала. Чтобы объяснить этот первый шаг, Фихте принужден был прибегнуть к понятию о внешнем преткновении (Anstoss). Встречая преткновение, разум определяется; затем, в силу своей внутренней сущности, он снимает это определение и опять идет в бесконечность, до тех пор пока новое преткновение заставляет его снова определиться и начать тот же процесс. Очевидно, однако, что это объяснение предполагает существование внешнего разуму мира, который и составляет начало всех частных его определений. Содержание определений, по теории Фихте, дается самим разумом, но единственно вследствие того, что он наткнулся на внешнее препятствие. Такова была первоначальная точка зрения Фихте. Но философия, которая стремилась вывести чисто умозрительным путем всю область человеческого ведения, не могла на этом остановиться, ибо тут с самого начала предполагается целый мир, лежащий за пределами познания и отчасти определяющий самый внутренний его процесс. Поэтому Фихте скоро отказался от преткновения. Последовательно проводя свою основную мысль, он стал доказывать, что весь представляющийся нам мир составляет произведение внутренних законов субъекта. Самое существование внешних предметов отрицалось этою системою. Но так как из законов сознания все-таки невозможно вывести, почему субъект в данную минуту имеет известное ощущение, а не другое, то Фихте объявлял все эти определения чисто случайными, не имеющими никакого значения для разума. Определение нужно единственно для того, чтобы разум, отправляясь от объекта, мог возвратиться к себе и таким образом прийти к самосознанию; но какое это определение, для него решительно все равно. Ясно, однако, что вопрос этим не решался; система частных определений все-таки оставалась необъяснимою. Субъективный идеализм находил здесь неустранимый предел.
Другое затруднение встретилось в практической области. Нравственный закон требует полного осуществления свободы во внешнем мире, и это требование одинаково для всех субъектов. Между тем, проявляясь во внешнем мире, свобода одного лица приходит в столкновение со свободою других. Для того чтобы люди могли действовать на одном поприще, необходимо взаимное ограничение. Следовательно, с одной стороны, свобода является абсолютным началом, которому все должно подчиняться, с другой стороны, требуется ее ограничение. Чтобы разрешить это противоречие, Фихте прибегнул к различию между чистым я и эмпирическим я, то есть между общим разумом и отдельным лицом. Абсолютное начало есть чистое я; эмпирическое же я составляет только частное проявление первого. Отдельные лица должны сознавать себя орудиями общего разума, призванными осуществить совокупными силами истекающий из него нравственный закон. Но такое признание чистого я было уже выходом из субъективного идеализма. Тут являлось общее, объективное начало, владычествующее над субъектом. Как Якоби в вере видел указание, с одной стороны, на внешний мир, лежащий ниже человека, с другой стороны, на Бога, стоящего выше человека, так и Фихте, развивая определения субъективного разума, с одной стороны, натыкался на внешний мир, с другой стороны, приходил к понятию о верховном Разуме, владычествующем над субъектами. Нужно было только развить и связать эти определения, чтобы выйти на объективную почву.
Выход лежал уже в самой системе Фихте, именно в признанном им абсолютном субъекте-объекте, который, в сущности, был именно тем, что требовал Якоби под именем безусловного. Этот абсолютный субъект-объект, противополагая самого себя самому себе, тем самым распадается на два противоположных мира, материальный и духовный, представляющих две стороны единого естества. Это воззрение, последовательно вытекающее из предыдущего, было выработано Шеллингом, который таким образом сделался основателем объективного идеализма. Противоположные миры сводятся здесь к единству; но, согласно с общим диалектическим законом разума, они на первый раз связываются опять же первоначально основою, или причиною производящею. Вывод других моментов был делом дальнейшего развития идеализма.
Система Шеллинга представляет возвращение на почве идеализма к воззрению Спинозы. Абсолютное, по его теории, есть единое, тожественное с собою бытие, субстанция, все из себя развивающая. Но в отличие от Спинозы, эта субстанция определяется как субъект-объект, то есть как сознающий себя дух. Шеллинг упрекает Спинозу в том, что его субстанция — мертвая; дух же есть нечто живое, вечно деятельное. В силу внутреннего закона самосознания, он противополагает себя самому себе; через это в нем являются два определения, субъективное и объективное, сущность и форма, из которых развиваются два противоположных мира, идеальный и реальный, мир бесконечного и мир конечного. И тому и другому присущи оба определения, ибо они составляют нераздельную принадлежность абсолютного бытия, но в реальном мире преобладает форма, в идеальном — сущность, в первом — конечное, во втором — бесконечное. Весь процесс мироздания заключается в том, что дух стремится бесконечное выразить в конечном, после чего он от конечного опять возвращается к бесконечному. Но так как эта задача, по существу своему, лежит в бесконечности, то к ней можно только постепенно приближаться. Ступени же этого процесса составляют повторение в частной форме основных определений абсолютного бытия. Абсолютное, проявляясь, сначала полагает одно определение, затем противоположное и, наконец, сводит оба к высшему единству.
В этом воззрении очевидно заключалось противоречие. Абсолютное определялось как дух, то есть как единство противоположностей, а между тем оно исключительно понималось как производящая причина бытия. Идеализм низводился на степень натурализма. Вследствие этого Шеллинг постоянно колебался между чистым натурализмом Спинозы и требованиями духовного развития. Окончательно он покинул натуралистическую гонку зрения и сделал шаг к нравственному идеализму. Он объявил, что чистое тожество, которое он полагал в основание своей системы, есть пустое тожество. Истинное же существо абсолютного есть Воля, которая заключает в себе различные определения. Она является прежде всего как первоначальная Основа, из которой все происходит, затем, с одной стороны, как светлый Разум, а с другой — как противоположная ему темная Материя, наконец, как Дух. сводящий противоположности к высшему единству. Бог есть Дух; вследствие этого он должен быть понят как лицо, которое свободным действием воли творит вселенную, вызывая ее из темной материи. И в этом созданном им мире венцом творения является опять свободное лицо, именно человек, в котором вполне открывается божественный Дух. Но человек воспользовался своею свободою, чтобы отпасть от Бога. Отсюда начало зла. Однако за отпадением должно следовать примирение. Оно было возвещено миру Христом.
В первую эпоху своей деятельности Шеллинг ограничился этими немногими чертами, обозначавшими поворот в его воззрении. Он временно умолк и снова появился на литературном поприще уже гораздо позднее, на почве положительной философии, которая одна могла отвечать потребностям усвоенной им положительной религии. В пределах же натуралистического идеализма более полное развитие очерченных им начал принадлежит другому мыслителю той же школы, Баадеру, который всего более содействовал повороту в воззрениях Шеллинга. Баадер является истинным представителем спиритуалистической отрасли натуралистического идеализма. Развитие тройственности определений божественного естества, с противоположением их темной Природе, сотворение мира свободным актом воли Божией, значение нравственного вопроса, грехопадение человека и последующее возвращение его к Богу — таковы основные черты учения Баадера, который старался стать посредине между теизмом, отделяющим Бога от мира, и пантеизмом, смешивающим Божество с миром. Однако он успел это сделать, только примешивая к своим философским взглядам вовсе не философские представления. Начала натуралистического идеализма были совершенно недостаточны для такого вывода.
С иной точки зрения пришел к сходному с первоначальным учением Шеллинга натуралистическому пантеизму другой мыслитель, выработавший самобытную систему, именно Шопенгауэр. Для него точкою отправления служил индивидуализм, но индивидуализм, сам себя отрицающий. Так же, как Шеллинг, Шопенгауэр считает волю основным началом бытия; но понятие об этом начале он черпает из внутреннего самосознания субъекта. Сочетая сенсуализм Локка со скептицизмом Канта, он признает, что все человеческое познание происходит от внешних впечатлений, которые связываются чисто субъективными формами пространства, времени и причинности. Но именно вследствие субъективности форм это знание не даст нам никакого понятия о вещах, и мы остались бы на этот счет в полнейшем мраке, если бы у нас не было иного источника, дающего нам возможность проникнуть в самую их сущность. Этот источник заключается в непосредственном сознании воли. Воля составляет внутреннее существо человека; она проявляется и в теле, которое не что иное, как внешний ее образ. По аналогии с нею мы должны понимать и внешние предметы. Эти предметы представляются нам отдельными друг от друга. Но так как различие их зависит единственно от того, что они разделяются пространством, временем и причинностью, которые сами не более как субъективные формы познания, то мы должны заключить, что в существе своем то, что нам кажется многим, составляет явление единого бытия. В действительности существует одна мировая Воля, основа всего сущего. Эта Воля в себе самой есть стремление; в силу этого стремления она объективируется, а объективируясь, она представляется многою. Но через это самое она вступает в борьбу сама с собою, ибо различия противоречат одно другому. Вследствие этого весь объективный мир представляет только бесконечное страдание. При таких условиях самое лучшее, что может сделать разумное существо, это отрешиться от себя и снова погрузиться в первоначальную основу. Этого человек достигает, возвышаясь мыслью к созерцанию вечных идей, лежащих в основании изменчивых представлений. Это созерцание приводит его наконец к полному уничтожению как сознания, так и воли. В нирване буддистов Шопенгауэр видит конечную цель всякого бытия.
Индивидуалистическая точка отправления Шопенгауэра и в особенности построение системы по аналогии с внутренним опытом возбудили в новейшее время некоторое сочувствие к его учению; но в себе самом оно страдает неисцелимыми внутренними противоречиями. Сенсуалистическая теория познания, которая служит основанием всех дальнейших выводов, противоречит созерцанию идей, которым завершается система; аналогия же с внутренним сознанием воли никак не может служить нам ключом к постижению сущности вещей, из которых многие не имеют ни одного из признаков воли. Всего менее можно, опираясь на субъективное значение умственных форм, сделать скачок от частных явлений к единству основы. Что же касается до постепенной объективации этой основы и проистекающего отсюда внутреннего раздвоения и бесконечного страдания, то весь этот вывод есть не более как фантастическое здание, лишенное всякого философского значения. Самоотрицание воли есть самоотрицание всей системы.
Наконец, натуралистический идеализм имеет и свою идеалистическую отрасль. Представителем ее является Краузе. Он хотел идеею жизни связать все разнообразные элементы бытия. Но во главе системы стоит все-таки понятие о Боге как основе всего сущего. Эта основа заключает в себе различные определения: с одной стороны, внутреннее единство с собою, или Самость (Selbheit), проявляющуюся в самосознании, с другой стороны, Всецелость (Ganzheit), наконец, сочетание того и другого (Vereinwesenheit). Эти определения получают самостоятельное бытие в подчиненных мирах, которые являются откровениями божественной сущности. Как частные явления Божества они существуют в Боге, как подчиненные формы — под Богом. Эти низшие миры суть разум, природа и, наконец, человечество, которое представляет сочетание двух первых. Все они, будучи самостоятельными, состоят, однако, в органической связи между собою и с Богом и живут общею жизнью. Краузе старается доказать, что это органическое общение не уничтожает самостоятельности отдельных миров и заключающихся в них существ. Но эта самостоятельность оказывается более в словах, нежели в понятиях. Оставаясь подчиненными и получая жизнь от первоначальной основы, отдельные миры теряют всякое самобытное значение. Так же как у Спинозы и у Шеллинга, они становятся просто явлениями Божества. Вследствие этого Краузе никогда не мог дойти до истинного понятия о духе как конечном единстве противоположностей. Он наглядно изображал первоначальную основу, разум и природу как три круга, частью входящих друг в друга; четвертый же элемент, дух, представляется не особым кругом, а совпадением трех первых. Поэтому и человечество представляет в себе только внешнее сочетание природы и разума. Объединяющим началом является исключительно первоначальная основа.
На этом, однако, идеалистическая философия не могла остановиться, ибо противоречие между причиною производящею и причиною конечною оставалось во всей своей силе. Натуралистический идеализм заключает в себе уже все различные направления, на которые разбивается эта высшая ступень философии, но эти направления являются здесь еще в неразвитой форме. Дальнейшее движение состояло в том, что каждое из них получает самостоятельность и затем все сводятся к высшему единству. Один за другим выступают идеализм нравственный, индивидуалистический и, наконец, абсолютный.
Основание нравственного идеализма положил опять Фихте, который, покинув субъективную точку зрения, переработал свою систему в объективное миросозерцание. Это новое учение страдало, однако, тою же односторонностью, как и прежнее. И тут все сущее развивалось из формальных определений чистого разума. Мир природы, как самостоятельная область, совершенно отвергался. Фихте признавал единое, тожественное с собою, абсолютное бытие, составляющее основу всего сущего; но это бытие остается в недосягаемом отдалении. Единственное же явление абсолютного есть разум как самосознание. Основной закон этого являющегося бытия заключается в возвратной форме, из которой вытекаю! все его определения. Вследствие этой формы разум является, с одной стороны, как эмпирическое, множественное я, с другой стороны, как чистое, единое я, которое посредством эмпирических я осуществляет требуемый внутренним его законом нравственный порядок.
Немудрено, что при такой односторонности в этой измененной системе оказывались и прежние недостатки. Фихте с удивительною последовательностью вывел все основные определения разума, вытекающие из возвратной формы; но, по собственному его признанию, этот закон остается чисто формальным. Содержания он не определяет; содержание дается жизнью, а это самое указывает на необходимость иных начал, восполняющих этот пробел. С другой стороны, при таком взгляде эмпирическое я становится простым орудием или явлением абсолютного я; оно теряет всякую самостоятельность. Если в первоначальной системе Фихте единичный субъект представлялся абсолютным началом всего сущего, то здесь, напротив, все отдельные субъекты сливаются в один общий субъект, который только на низшей ступени сознания представляется множественным, а для высшего взгляда составляет одно существо.
Эти недостатки были восполнены последователями Фихте, Фридрихом Шлегелем и Шлейермахером. Первоначально оба эти мыслителя, ратуя вместе, отстаивали высшее значение отдельной личности как своеобразного выражения мирового начала. Впоследствии же они разошлись. Шлегель сделался корифеем богословской школы, которая, следуя направлению, указанному Шеллингом и Баадером, развивала нравственный идеализм в смысле положительного христианского учения, проводя его через три момента первоначального единства, грехопадения и окончательного примирения. Шлейермахер же, сочетая оба противоположных мира, духовный и физический, мысль и бытие, старался возвести их к общему нравственному миросозерцанию. Но и тут оказалась недостаточность одного нравственного начала для объединения противоположностей. В системе Шлейермахера мир представляет ряд ступеней, идущих, от различия к единству или от единства к различию. Каждая из этих ступеней заключает в себе в конкретной форме сочетание обоих начал. Крайними границами этого процесса являются, с одной стороны, чистое различие, или материя, с другой стороны, чистое единство, то есть Божество. Но так как Божество в этом воззрении составляет только одно из противоположных начал, то оно неизбежно представляется ограниченным. Шлейермахер это сознавал; но, не видя исхода, он утверждал, что истинное понятие о Божестве лежит вне пределов разума. Божество открывается человеку только в форме религиозного чувства. С другой стороны, однако, чувство как конкретное явление не в состоянии постигнуть Божество в его чистоте; оно всегда ощущает его при чем-либо другом. Поэтому оно, со своей стороны, требует восполнения посредством разума. Но так как и разум не в состоянии обнять божественное начало, то исхода нет нигде. Его и не могло быть, ибо Шлейермахер остановился на двойственности элементов, которые он не умел примирить. Первоначальное единство оставалось позади него, а конечное единство предстояло еще впереди. Неразлучный с нравственным воззрением дуализм проявляется и на идеалистической почве.
К одинаковым почти результатам пришла по этим вопросам совершенно противоположная, индивидуалистическая отрасль идеализма, которая развивала преимущественно заключающиеся в нем начала частного бытия. Эта отрасль первоначально примыкает к Якоби. Стараясь сочетать учение Канта с воззрениями Якоби, Фрис основанием всякого знания считал непосредственное представление, которое в живом единстве соединяет в себе получаемое извне содержание с проистекающею из разума формою. Всякое рефлектированное знание составляет уже нечто производное; оно только отвлекает те или другие стороны непосредственного представления, воспроизводя то, что уже заключалось в последнем. Поэтому первое основание всякого знания есть опыт, в особенности внутренний, который раскрывает нам законы человеческой души. Психология, по мнению Фриса, составляет начало всей философии. Этот внутренний опыт показывает нам, что наша познавательная способность, или разум, есть возбуждаемая сила, которая по этому самому представляет две противоположные стороны: восприимчивость и самодеятельность. Первая дает содержание познанию, вторая — форму. И то и другое заключается уже в непосредственном представлении. Но получаемые из опыта представления дают нам только случайные и разрозненные явления. Для того чтобы связать этот материал в одно целое, надобно возвыситься к познанию общих и необходимых законов. Это совершается путем рефлексии, посредством отвлечения заключающейся в непосредственных представлениях формы от внешнего содержания. Воспроизводя чистую форму, мы получаем общие и необходимые законы, ибо общим и необходимым мы называем то, что всеми мыслится одинаково. Это — законы самого разума как деятельной способности. В силу своей безусловной общности они идут за пределы всякого частного представления. Получаемое извне содержание никогда не может наполнить безусловно-общей формы. Поэтому разум необходимо приходит к идеям как безусловно-общим началам. Но представления идей возникают в нем единственно вследствие недостаточности опытного знания, а потому имеют всегда отрицательный характер. Выходя из пределов всякого частного представления, разум познаваемому им конечному противополагает бесконечное. Но это противоположение остается отрицательным; положительного знания оно не дает. С положительной стороны идеи постигаются только непосредственным чувством, то есть верою. В приложении же к познанию вещей они остаются в форме чаяния, которое проявляется преимущественно в чувстве красоты.
Таким образом, и с этой точки зрения познание абсолютного остается недостижимым для разума; оно дается единственно чувству. Но почему же, однако, идеи представляются разуму только с отрицательным значением? Если они противополагаются опытному знанию как бесконечное конечному, то это происходит именно оттого, что требуется содержание, соответствующее форме, то есть нечто положительное, а отнюдь не отрицательное. Правда, идеи не познаются путем опыта; но если они требуются во имя общих и необходимых законов, сознаваемых разумом, то к ним вполне приложимы эти законы, а общие и необходимые законы отнюдь не могут быть поняты как отрицательные начала. Образуя связь всякого знания, они составляют нечто весьма положительное, а потому и определяемое ими бесконечное необходимо получает положительный характер. Этот слишком поверхностный вывод Фриса произошел оттого, что он непосредственный опыт признавал единственным основанием всякого знания; но самый этот вывод обличает несостоятельность теории. Как скоро признается, что чистое сознание формы дает нам познание безусловно-общих и необходимых законов, так мы с этим вместе получаем новый, самостоятельный источник познания: опыт восполняется умозрением, которое дает нам и положительное понятие об абсолютном.
Остановившись на психологической точке зрения, Фрис не развил из нее объективной системы философских начал. Это сделал Гербарт, который является метафизиком этого направления.
. Гербарт отправляется от положения Канта, что мы познаем только явления. Но явления, говорит он, указывают на лежащее в основании их бытие. Исследование этого реального бытия именно и составляет задачу философии. Исходною точкою мысли должно служить данное многообразие, то есть опыт; но опыт заключает в себе противоречащие представления, а потому должен быть восполнен умственным процессом. Противоречие опытного знания состоит в том, что один и тот же предмет представляется нам вместе и многим и единым. Логически это противоречие разрешается тем, что кажущееся единство в сущности есть не более как совокупление многого. Поэтому, для того чтобы найти истинную сущность вещей, мы должны разложить данное многообразие на первоначальные, составные единицы. Эти единицы не могут быть материальные, ибо материя делима; она в себе самой есть уже нечто сложное. Первоначальными сущностями могут быть только простые качества, но качества не замкнутые друг для друга, как монады Лейбница, а реально действующие одно на другое и вследствие, этого вступающие друг с другом в разнообразные, впрочем, случайные для них отношения. Действие одного качества на другое есть нарушение; противодействие же, необходимо возбуждаемое в первом, есть самосохранение. Этим взаимнодействием качественных единиц объясняется не только весь материальный, но и весь душевный мир. Душа человека есть простое качество, которое, вступая в различные отношения к другим, производит ряд самосохранений. В этом состоит существо представлений. Все душевные явления объясняются взаимными отношениями этих представлений, которые то оказывают друг другу препятствие, то связываются одни с другими. Сознание же нашего я есть не что иное, как представление того единства, которое служит поприщем этих частных отношений, или местом, где происходит взаимнодействие нарушений и самосохранений.
Таким образом, вся метафизика Гербарта состоит в разложении данного содержания на первоначальные, составные единицы и затем в обратном сложении этого содержания из добытых анализом единиц. Но первое не дает никакой твердой точки опоры для мысли, второе же ведет к отрицанию именно того, что получено анализом. Простое, безотносительное качество, к которому Гербарт хочет привести все сущее, не дает нам ровно никакого представления. Все известные нам качества суть уже отношения; откинувши от них всякое количественное определение и всякое отрицательное отношение к другим, как требует Гербарт, мы не получим ничего определенного и не в состоянии указать, чем одно отличается от другого. Эти мнимые качества суть не более как пустота, до которой неизбежно доходит последовательно проведенный односторонний анализ. И если мы из этих пустых определений хотим снова построить весь мир, то мы принуждены будем отрицать принятые нами начала. Ибо как могут безотносительные качества вступать в отношения друг к другу и действовать одно на другое? Каким образом в простой сущности, исключающей из себя всякие различия,'могут явиться различные акты самосохранения? Всего менее эта теория приложима к душевным явлениям. Вся психология Гербарта составляет одно нескончаемое противоречие. Душа выдается за простую сущность, но это единство остается только пустым местом, в котором происходят столкновения внешних друг для друга самосохранений. Нечего говорить о том, что душевные явления этим способом не объясняются. Вследствие этого при выводе нравственных начал Гербарт покидает уже область метафизики и прибегает к эстетике. По примеру шотландцев, он все явления нравственного мира объясняет нравственным чувством, имеющим ближайшее сродство с эстетическим. Но при анализе вытекающих из этого начала определений оказывается, что это фактическое чувство произносит абсолютные суждения, которых элементами служат понятия, а результатом являются идеи. Добытое внутренним опытом начало незаметно превращается в идеализм, по в идеализм, не имеющий никакого основания в метафизической теории автора. Еще менее согласно с нею признание Бога как мудрого правителя вселенной. Гербарт видел необходимость объяснить нравственные и религиозные явления человеческой жизни; но при индивидуалистическом характере его системы он не в состоянии был этого сделать. Индивидуализм не дает ничего, кроме чисто внешних отношений частных элементов; да и самые эти отношения не объясняются свойствами разобщенных друг с другом единиц, ибо отношения предполагают связь, которая была уничтожена анализом.
Противоречия, лежащие в основании психологической теории Гербарта, побудили другого представителя этого направления, Бенеке, отвергнуть принятое им понятие о душе как простой сущности. Бенеке, так же как Фрис, отправляется не от метафизики, а от психологии. По его мнению, мы обо всем можем судить единственно на основании того, что мы ощущаем в себе. Опытная психология должна поэтому быть началом всех наук. Но так же как у французских философов XVIII века, эта мнимо опытная психология не что иное, как построение душевного мира чисто на основании рационалистических начал. Здесь анализ доводится до крайней степени. Душа представляется не простою сущностью, как у Гербарта, а сочетанием множества первоначальных способностей, или сил, которые, приходя во взаимнодейсгвие с внешними возбуждениями, производят все душевные явления. Вследствие такого взгляда, Бенеке отвергает разделение душевных способностей на память, воображение и т. д. Все это, по его мнению, не что иное, как собирательные имена для множества частных явлений. Каждая отдельная сила или способность, выражающаяся в отдельном представлении, имеет свою память, свое воображение, двои стремления, которые составляют только различные проявления этой единичной сущности. При этом остается совершенно непонятным, откуда берется постоянное единство самознания, и еще менее, каким образом человек доходит до понятия об абсолютных началах бытия. Отвергнуть присутствие этого понятия в человеческой душе Бенеке не мог, ибо это — факт, в котором удостоверяет нас внутренний опыт. Так же, как другие писатели этой школы, он объясняет это явление необходимостью восполнить отрывочность нашего познания. Вследствие этого он приходит к понятию о Высшем Существе, одаренном различными свойствами, признавая, впрочем, вместе с Фрисом, что в этой области господствует не столько знание, сколько чаяние и вера. Но зачем нужно восполнение познания, когда вес в душе ограничивается частными отношениями дробных сил? Эти отношения не только могут, но и должны оставаться отрывочными. Восполнение требуется только тогда, когда имеется независимое от этих отношений понятие о всецелости бытия, понятие, которое частными отношениями не дается. Следовательно, если оно существует в человеческой душе, то это служит явным доказательством, что все в ней не объясняется этими отношениями, а с тем вместе падает и основанная на них теория.
Наконец, Вайц старался сочетать теорию Гербарта с точкою зрения Бенеке. Душа представляется у него как единое, непротяженное начало, находящееся в разнообразном взаимнодействии с внешним миром, а потому приходящее в различные состояния. Он не признает ни теории нарушений и самосохранений, ни принятого Гербартом приложения математики к психологии. Вместе с Бенеке и Фрисом он видит в опытной психологии основание всех наук. Но он ограничился одною психологическою областью, не пытаясь построить на этом фундаменте цельную философскую систему. И точно, этого сделать невозможно; для этого требуются иные начала.
Таким образом, в материалистической, равно как и в спиритуалистической отрасли идеализма понятие об абсолютном остается на степени чаяния или веры. Односторонние определения не в состоянии дать начало, способное сочетать противоположные стороны всемирного бытия. Это начало дается только абсолютным идеализмом, который сводит противоположности к единству причины конечной. Это и есть настоящая точка зрения идеалистической философии; предыдущие системы служат только приготовительными к ней ступенями. Абсолютным идеализмом завершается поэтому цикл идеалистических воззрений. Если Шеллинг пытался сочетать противоположности единством причины производящей, если, с одной стороны, Фихте и его последователи, а с другой стороны, Гербарт и сродные ему мыслители снова перешли к односторонним началам причины формальной и причины материальной, то Гегель выводит все сущее из развития причины конечной. По его учению, мир представляет явление единого Духа, который, в силу внутреннего диалектического закона, развивает из себя противоположные определения и снова приводит эти определения к себе как высшему единству. Гегель блистательно развил эту систему, которую он провел по всем определениям бытия, начиная с чистой логики, переходя затем к философии природы и кончая философиею духа. Развитие умозрения нашло здесь свой крайний предел. От понятия о субстанции мысль пришла, наконец, в верховной идее, к понятию о Духе как высшем единстве противоположностей.
В этой системе была, однако, своего рода односторонность, которая не позволяла человеческому уму на ней остановиться. Если причина производящая не может заменить собою причины конечной, то и причина конечная не может заменить причины производящей. Между тем Гегель, становясь на исключительную точку зрения идеализма, именно это и делал. Вследствие того производящая причина у него исчезала, и вместо четырех моментов оказывалось только три. Отсюда неправильность в самом изложении диалектического процесса и искусственные переходы от одного момента к другому. Первою ступенью является одна из противоположностей, затем следующею за нею другая, третью же составляет высшее сочетание обеих. А так как начать можно произвольно и с одного конца и с другого, то первою ступенью у Гегеля является то отвлеченно-общее начало, то частное. Правильность окончательного вывода этим не уничтожалась, но весь процесс получал неверное построение, которое не могло не отозваться и на понимании отдельных моментов.
С этою односторонностью чисто идеалистической точки зрения сопряжена была и другая опасность. Предшествующие моменты развития могли быть поняты не как выражение постоянных начал бытия, а просто как преходящие явления идеи. Через это частное поглощалось общим. Если Гегель со своим гениальным взглядом в значительной степени умел избегнуть этого подводного камня, признавши относительную самостоятельность низших ступеней, то последователи его, доводя до крайности положенные им начала, развили из них систему чистого пантеизма.
Наконец, ко всему этому присоединялся недостаток, свойственный не одному Гегелю, но и всему рационализму. Диалектический вывод определений возможен в области чисто логических начал; но как скоро мы вступаем в мир явлений, так присутствие в них диалектического закона должно раскрываться иным путем. Для этого необходимо предварительное исследование самих явлений, а это составляет дело опыта. Подводя же поверхностным образом плохо изученные явления под логическую схему, построенную диалектическим путем, мы рискуем ошибиться насчет фактического приложения умозрительных законов, и тогда может показаться, что выведенные умозрением начала не оправдываются опытом. Это и случилось с Гегелем. Отсюда — разочарование, постигшее умы после первого опьянения его системою. Оказалось необходимым проверить его выводы опытом, а для этого требовался совершенно иной путь познания. Вместо того чтобы начинать сверху, надобно было начать снизу. Вследствие этого философская мысль, дошедши до крайних пределов своего развития, прошедши весь цикл определений чистого разума, внезапно перескакивает на другую почву: от умозрения она переходит к опыту, от рационализма — к реализму[4].
Но, сделавши этот совершенно законный шаг, мышление становится опять на исключительную точку зрения. Новый путь требовался как восполнение предыдущего; он должен был дать ответ на поставленные первым вопросы. Опыт должен был выработать меньшую посылку для большей посылки, выведенной умозрением. Вместо того он отверг всякое умозрение и самого себя признал началом и концом всего человеческого знания. Вследствие этого реализм является столь же односторонним, как и прежний рационализм, с тою разницею, что последний дает человеку общие руководящие начала для знания и для жизни, первый же, оторванный от своего корня, не в состоянии дать ничего, кроме ограниченного познания частных отношений, без всяких связующих и руководящих начал. Погружаясь в исследование явлений, мысль не только забывает, но и отрицает свою собственную, бесконечную сущность, а это ведет к общему понижению как умственного, так и нравственного уровня человеческих обществ.
Этот новый период философского движения приготовляется распадением школы Гегеля. И тут обозначаются те же самые направления, которые мы видели и прежде. С одной стороны, из этой школы выделяется группа мыслителей, которые, усваивая себе диалектику Гегеля, стараются, однако, вывести из нее чисто спиритуалистическое миросозерцание. Таковы Вейссе, Фихте-сын и другие. Они в особенности стоят за понятие о личном Боге как свободном творце вселенной и за связанное с этим началом понятие о личности человека как свободного деятеля во внешнем мире. С другой стороны, так называемая левая гегелевой школы, под предводительством Фейербаха, развивает начала материализма. Наконец, третья отрасль, забывая, что соединяемые духом противоположности должны сохранить относительную самостоятельность, улетучивает их в конечном единстве и таким образом вырабатывает из системы Гегеля чисто пантеистическое воззрение. Сюда принадлежит Штраус в первую эпоху своей деятельности, также Лассаль в своих практических выводах. Это последнее воззрение нс могло иметь прочного научного значения, ибо это было только крайнее преувеличение и без того уже одностороннего начала. Если до сих пор вытекающие из него социалистические теории находят многочисленных приверженцев в Германии, то этому они обязаны единственно тому, что они льстят страстям низших классов. В научном же отношении все новейшие попытки сочетать выводы крайнего идеализма с началами реализма служат только признаком умственной несостоятельности. Другие две отрасли, напротив, послужили естественными переходными ступенями к двум противоположным направлениям реализма, спиритуалистическому и материалистическому. Спиритуалисты, выделившиеся из школы Гегеля, указывали на то, что действия свободы познаются не умозрением, а опытом. Вследствие этого они стали настаивать на необходимости положительной философии. Это и повело к спиритуалистическому реализму. Со своей стороны, материалисты, не признавая ничего, кроме материальных предметов, которые познаются единственно опытом, последовательно отвергли умозрение и стали видеть в опыте источник всякого знания. Это был переход к материалистическому реализму.
Мы видели уже в древнем мире эти два противоположных направления, на которые разбивается реализм. Как в общем ходе человеческого развития, так и в движении философской мысли среднюю ступень составляет раздвоение. Но если в своей совокупности реализм вместо цельного цикла представляет только две противоположности, то в пределах каждой из этих двух отраслей мы опять находим полный цикл определений, развитие которых может служить нам прямым указанием, насколько каждое из этих направлений успело совершить свое дело и приближается к концу. И, как в древности, мы на этой средней ступени нашли, с одной стороны, конец объективного, а с другой стороны, начало субъективного пути, так и в настоящее время мы в двух противоположных отраслях реализма видим то же самое отношение, только в обратном порядке. Спиритуалистический реализм составляет конец субъективного пути, материалистический же реализм является началом объективного пути. Первый, примыкая к умозрительному идеализму, идет от идеи к субстанции; второй, начиная новое развитие, движется от формы к материи, или от закона к явлению.
Спиритуалистический реализм развивается преимущественно в Германии. Идя от идеи к субстанции, он последовательно проходит все моменты философской мысли. Первую ступень занимает идеалистическое направление, представителем которого является Тренделенбург. Мы видели уже, что он выступил с резкою критикою диалектики Гегеля. Но, отвергая основания идеализма, он усваивает себе его выводы. Только он черпает их не у новых философов, а у древних, именно у Платона и Аристотеля, которых он превозносит, как будто не подозревая в них предшественников отвергаемых им учений. Однако и у Платона, и у Аристотеля он заимствует не начала, а результаты. Чисто логические понятия древних мыслителей столь же мало приходятся ему, как и диалектические определения новых. По мнению Тренделенбурга, чистая мысль не в состоянии ничего из себя произвести. Живое, конкретное содержание получается только из представления, от которого понятие отрывается насильственным путем. Поэтому решения основного философского вопроса об отношении противоположных начал мысли и бытия мы должны искать не в отвлеченных логических категориях, а в конкретном представлении, общем обоим. Такой элемент, общий мысли и бытию, Тренделенбург находит в движении, которое, по его мнению, есть простое, а потому не подлежащее определению представление. Как внешнее движение, оно является переменою места, как внутреннее движение — умственным процессом. Но обе формы составляют явления одной и той же сущности, вследствие чего определения, проистекающие из умственного движения, непременно имеют нечто соответствующее в реальном бытии. Таковы представления пространства и времени; таковы же и математические формы. И то и другое в нашем сознании составляет произведение чисто умственного процесса, а потому выводится a priori, но вместе с тем отвечает и действительности. В приложении к материальному миру к этим умственным формам присоединяется еще новое начало: когда мы представляем нечто движущееся в пространстве, мы необходимо предполагаем лежащий в основании явления субстракт, или материю. Отсюда новые логические определения. Соединение материи с формою дает нам реальные категории причинности и вещи. Наконец, и материя и форма подчиняются высшей категории цели. Последнюю мы черпаем первоначально из внутреннего сознания, но опыт показывает нам присутствие ее во всей вселенной. Если движение, со всем, что от него происходит, дает нам понятие о причине производящей, то в цели мы получаем понятие о причине конечной, и это начало подчиняет себе первое. Вследствие этого весь мир представляется как единый организм, в котором все связано и все подчинено единой верховной цели.
Нетрудно видеть всю шаткость оснований, на которых покоится эта теория. Ни представление движения, ни представление цели, насколько мы последнее получаем из опыта, не дает нам начал, способных связать всю область нашего знания в одно систематическое целое. Прежде всего движение как начало общее мысли и бытию вовсе не есть представление, а понятие. Как представление оно распадается на представление внешнего движения, которое состоит в перемене места, и внутреннего движения, то есть смены образов в человеческой душе. Понятие же, общее обоим, — не простое, а сложное. Оно предполагает и то, что движется, и различие состояний, через которые проходит движущийся предмет. Разложение этого понятия на составные элементы дает нам чисто логические определения; но пространства и геометрических форм мы из него не получим, ибо форма внешних представлений не заключается в отвлеченном понятии. Тренделенбург упрекает Гегеля в том, что он будто бы в своей диалектике постоянно призывает на помощь внешние представления; но именно этим недостатком страдает вся теория Тренделенбурга. Он даже не думает отказываться от этого недостатка, ибо он считает его неизбежным; но через это его выводы лишаются всякой логической последовательности. С другой стороны, то понятие о цели, которое мы получаем из внутреннего опыта, не дает нам ни малейшего права распространить его на всю вселенную. Если мы в материальном мире видим некоторые аналогические явления, то это не означает еще, что все подчиняется этому началу. Поэтому выведенное этим способом понятие о мире как едином организме совершенно произвольно.
С иной точки зрения, нежели Тренделенбург, критиковал систему Гегеля Шеллинг в последнюю эпоху своей деятельности. Мы видели, что он от натуралистического идеализма мало-помалу переходил к спиритуалистическому. Впоследствии он этот спиритуалистический идеализм превратил в положительную философию, которую он и противопоставил учению Гегеля. Шеллинг не отвергает диалектики, как Тренделенбург, но он признает ее чисто отрицательною формою мышления. В рационализме он видит только ступень, предшествующую положительной философии. Логическое развитие понятий показывает, каковы должны быть вещи, но он не доказывает действительного их существования. Это составляет задачу положительного знания. Умозрение ведет, однако, к последнему, развивая основные начала бытия. Таких начал, или ступеней сущего, Шеллинг признает три: 1) сущее только в возможности, то, что Аристотель называл матернею, но что Шеллинг, извращая настоящий смысл этого термина, называет также чистым субъектом, внутри себя пребывающим, не выходящим из себя; 2) противоположное первому чисто сущее, или чистая деятельность, которую Шеллинг называет также чистым объектом; наконец, 3) сочетание обоих, то есть бытие, свободно переходящее от возможности к деятельности и обратно, следовательно, властвующее над собою. Это и есть Дух, конечная цель всего сущего. Все эти три начала предполагают, однако, четвертое, именно общую их основу, содержащую в своем единстве все эти три момента как свои атрибуты. Последнее есть сущее в истинном смысле, или Бог. К этому понятию приводит нас чистое движение мысли. Но все это остается в пределах понятия. Действительное существование Бога мы отсюда вывести нс можем; оно познается единственно из его действий, то есть из созданного им мира. Сотворение мира есть свободный акт воли Божией, ибо никакая необходимость не может заставить абсолютное существо выйти из своей внутренней полноты и совершенства. Свободное же действие не может быть выведено путем логики; оно доказывается действительным существованием мира, следовательно опытом, а это приводит нас к положительной философии. Но умозрение показывает нам способ, как это действие должно было произойти. Сотворение мира составляет последствие теогонического процесса, в котором Бог излагает собственное свое естество, осуществляя одно за другим все свои определения в их необходимой последовательности. Первое начало, которое выделяется из божественного единства и получает самостоятельное существование, есть сущее в возможности. Переходя в бытие, оно является тем, что древние называли безграничным, то есть слепою материею. Но таким самостоятельным переходом из возможности в действительность отрицается второе начало, чистая деятельность; вследствие этого последнее, в свою очередь, воздействует против первого и вводит его в должные границы. Отсюда проистекает сочетание обоих; является бытие, властвующее над собою, то есть свободное лицо как завершение процесса. Человек составляет венец творения; с ним мир снова возвращается к Богу, образ которого человек носит в своем сознании. С завершением же процесса все опять приходит в покой. Однако и эго творение остается еще чисто идеальным; это — вселенная, покоящаяся в Боге. Чтобы сделать из нес реальный мир, имеющий самостоятельное существование вне Бога, нужен новый процесс. Он начинается опять актом свободной воли, но на этот раз не божественной, а человеческой. Существо, которым завершается творение, отпадает от Бога и тем дает миру реальное бытие. Однако и на этом мировое развитие не может остановиться. За отпадением следует восстановление утраченного единства. Оно совершается религиозным процессом, который происходит тем же самым порядком, как и сотворение мира. Сначала над сознанием человека властвует слепое бытие; затем это бытие постепенно побеждается идеальным или деятельным началом, Сыном Божиим, который через это становится владыкою вселенной. Наконец, в христианстве Сын Божий своею смертью оказывает подчинение Отцу и тем возвращает к нему отпавший от него мир. Этим установляется владычество Духа.
Такова положительная философия Шеллинга. Легко заметить, что в ней положительного весьма мало. Самое противоположение положительного знания отрицательному основано на крайней неточности терминов. Если чистое умозрение дает нам необходимые понятия, то оно никак не может быть названо отрицательным. Идеальные начала, сами по себе, имеют совершенно положительный характер; когда же мы признаем их необходимыми, мы не можем не признать их и действительно существующими. Справедливо, что один опыт удостоверяет нас в действительном существовании вещей; но это относится единственно к частному бытию, которое не заключает в себе ничего логически необходимого, а отнюдь не к абсолютному бытию, которое вовсе не подлежит опытному знанию. Если же мы хотим существование и действие верховных начал бытия познавать не умозрением, а опытом, го мы на почве науки неизбежно придем к таким представлениям, которые не основаны ни на том ни на другом, а являются чисто произвольными предположениями. Таково именно в значительной степени построение Шеллинга. Задача его заключалась в познании абсолютного. В этой области положительные начала он мог почерпнуть не из опытных данных, которые их не представляют, а единственно из положительной религии. Вследствие этого он и старался приладить к христианской догме выведенные рационализмом логические определения. Но в результате оказалось нечто среднее, не удовлетворяющее ни философии, ни религии. Когда же Шеллинг от верховных начал бытия переходит к действительности и выводит самое существование реального мира из грехопадения человека, то здесь уже исчезают всякие следы, как логики, так и опыта. Положительную часть его системы составляет историческое развитие религий, ибо оно основано на действительном изучении фактов. Но и тут все дело испорчено произвольным построением начал, которое отражается на произвольном построении явлений. Желая подвести историческое движение мифологии под свою более или менее фантастическую схему, Шеллинг принужден был постоянно искажать факты. Исследования его имеют значение как первая попытка вывести общий закон религиозного развития человечества; но под влиянием ложной теории самый выведенный им закон оказывается неверным.
Совершенно иную точку исхода, нежели Шеллинг, принимает Фехнер, первоначально последователь Шеллинга, но позднее от него отпавший. Он также ищет положительного знания, но источник его он находит исключительно в опыте; а так как весь наш опыт заключается в наших душевных представлениях, то единственное твердое основание опытного знания он видит в сознании собственной нашей души. Все остальное мы можем познавать только по аналогии с душою. Поэтому мы должны, с одной стороны, приписать души не только сходным с нами людям, но и животным и даже растениям, а с другой стороны, признать существование душ, стоящих выше нас. Чем шире становится наш кругозор, тем более расширяется самое это понятие, до тех пор пока мы приходим наконец к признанию всемирной души, Бога, который точно так же присущ созданной им вселенной, как человеческая душа присуща своему телу. Последнее, как явление, отлично от души: душа есть то, что является себе, тело — то, что является другому. Но в сущности, это — две стороны одной и той же мировой системы, производящей два ряда, хотя различных, но связанных друг с другом явлений: одно есть связующее, другое связуемое. То, что мы называем материей, не что иное, как совокупность известного рода явлений, которые мы, с одной стороны, можем разлагать на простейшие факторы, а с другой стороны, познавать в их взаимной связи. Первая точка зрения ведет к атомистике. Руководствуясь опытом, мы должны признать существование непротяженных атомов, которых взаимные отношения образуют весь видимый мир. Но эти атомы не следует представлять себе как субстанции, или силы. То, что мы называем субстанциею, не что иное, как связь или возможность явлений; сила же не более как вспомогательное понятие для обозначения закона, которым связываются явления. Закон составляет существенное начало в мироздании, ибо связью целого определяются существование и взаимные отношения частей. Не в темной, лежащей за явлениями основе должны мы искать их объяснения, а в их закономерном сцеплении. Закон же проявляется в сознании и в нем находит свою точку опоры. На этом основании мы должны признать, что все в мире зависит от верховного закона, истекающего из верховного божественного сознания. Таким образом, и с этой стороны мы приходим к понятию о Боге как абсолютной связи вселенной. Частные души суть частные связи, входящие в состав этой общей связи; атомы же образуют крайнюю границу связуемого, то есть явлений. А так как связующее предполагает связуемое и наоборот, то атомистика составляет внешнюю, а синехология, или учение о душе как связи явлений, внутреннюю сторону одного и того же научного воззрения.
Теория Фехнера, очевидно, выработалась из двоякого источника: из внутреннего опыта и внешнего. Первый ведет к тому, что мы все познаем только по аналогии с собственною нашею душою; второй, с помощью логического анализа, порождает атомистику. Фехнер старался внешний опыт свести к внутреннему, построив из них одну общую систему. Но нельзя сказать, чтобы это сведение было удачно. Прежде всего, самое построение философской атомистики на основании внешнего опыта страдает значительными натяжками. Можно согласиться с Фехнером, когда он, руководствуясь опытными исследованиями, утверждает, что материя в действительности имеет гораздо большее расчленение, нежели то, которое представляется нашим внешним чувствам; но от тончайшего даже расчленения до безусловного разобщения, какое предполагается атомистикою, весьма далеко. Когда же он, восполняя требования опыта философскими понятиями, от тончайших частиц материи делает скачок к непротяженным атомам, то это уже такая логическая гипотеза, которая, выходя из пределов всякого опыта, не находит себе оправдания и в философии. Непротяженные атомы совершенно теряют свой материальный характер, ибо они не занимают никакого пространства. Сколько бы мы ни разнимали материю, мы до них не дойдем. Вследствие этого сам Фехнер признает, что вся материя соединилась бы в одну математическую точку, если бы этому не мешал высший закон. Но из существа самих атомов такой закон не вытекает; он составляет для них нечто внешнее, произвольно на них наложенное. Атомы не отталкивают друг друга, ибо, по теории Фехнера, мы отнюдь не должны представлять их себе как силы. Если же эти невидимые и неосязаемые, но чисто мыслимые точки не должны быть поняты ни как силы, ни как субстанции, то спрашивается: что же в них остается? Сам Фехнер видит в своих атомах только крайнюю границу разложения, и это именно ничего более как умственная граница, которая, в силу диалектического закона, улетучивается в ничто. Все старания Фехнера устранить это последствие остаются тщетными. А между тем это ничто составляет основание всей системы, ибо все остальное вытекает из отношения атомов. Отвергнув значение последних как субстанций, Фехнер, с другой стороны, не признает никакого реального, связующего начала в материальном мире; связью атомов является чисто идеальное понятие о законе. Но этот закон висит в воздухе и ничего не объясняет. Если он не служит выражением сил, присущих самим атомам, то как может он что-либо пред— писывать последним, по выражению Фехнера? Источник и опору закона Фехнер видит в сознании; но самое сознание, по его системе, есть не более как явление, которого необходимое условие заключается в усиленном движении атомов. По теории Фехнера, душа, так же как и атомы, не есть субстанция; эго — сцепление явлений, которое находит свое выражение в сознании. Но сцепление предполагает то, что сцепляется, следовательно, атомы предшествуют душе. Если же мы поймем связь как нечто отличное от связуемого, а между тем будем отрицать в ней значение субстанции, мы неизбежно придем к представлению, в котором опять ничего нельзя уловить. Путем сложения, так же как путем разложения, понятия Фехнера расплываются в туманные образы, в которых мысль теряет всякую точку опоры. Весь мир превращается у него в сцепление явлений, за которыми, по собственному его выражению, нет ничего. Но в таком случае зачем нужны нам атомы? Если требуется разнять явления на простейшие элементы, то такими Фехнер признает простые ощущения; ощущение же не есть атом. Очевидно, что мы имеем тут два рода простых элементов; одни даются нам анализом внутреннего опыта, другие — анализом внешнего. Но эти два разряда, несмотря на старания автора, не сведены к единству. Общий обоим признак состоит единственно в том, что эти простейшие элементы добываются мыслью затем только, чтобы опять исчезнуть, ибо самостоятельного бытия они не имеют и составляют лишь преходящие явления целого. А так как и целое, в свою очередь, понимается не как самостоятельная субстанция, а только как связь явлений, то и тут мы обретаемся в пустоте. Окончательно все сводится к внутреннему опыту и почерпаемым из него аналогиям. Но, с одной стороны, внутренний опыт не дает понятия о душе как чистой связи явлений, а с другой стороны, аналогия с собственною нашею душою не может быть произвольно распространена на все предметы. Уже понятие о теле как отличного от души явления полагает ей предел. Когда же это аналогическое познание распространяется и на Бога, который вследствие этого представляется душою мира, то здесь уже мы вдаемся в область чистых фантазий, не опирающихся ни на умозрение, ни на опыт. Фехнер хотел построить философское здание, начиная снизу, именно с опытных данных; но гак как ни внешний, ни внутренний опыт не представляет достаточных начал для такого построения, то в результате оказалась фантастическая картина, в которой мелькают всякие туманные образы.
В отличие от синехологической атомистики Фехнера, другой философ естествоиспытатель, Лотце, развил, по примеру Лейбница, систему монадологической атомистики. И он, гак же как Фехнер, не видит в материальном мире ничего, кроме механического отношения атомов. Самые органические процессы, по его мнению, вполне объясняются действием механических сил; нет никакой нужды признавать какое-то особенное жизненное начало. Атомы же он, опять на основании внутреннего опыта, по аналогии с собственною нашею душою, понимает как духовные единицы, или монады, которые, с одной стороны, механически действуют друг на друга, а с другой стороны, в себе самих носят бесконечный мир представлений и чувств. Вместе с Лейбницем он в душе видит не связь монад, а простую монаду, одаренную только высшим развитием и господствующую над другими. Общею же связью монад он признает единого, премудрого Бога, управляющего миром и все приводящего к конечной цели, к добру. Такое предположение составляет, по мнению Лотце, необходимое завершение механического миросозерцания; ибо, если внешняя сторона явлений природы объясняется действием механических сил, то основные отношения этих сил, передача движения, законы притяжения, химическое сродство, строение организмов все-таки остаются для нас совершенно непонятными. Взаимнодействие атомов может быть объяснено только высшим, связующим их началом. Конечные единицы действуют друг на друга в силу присущего им бесконечного элемента, который один способен связывать их с остальным мирозданием. Без сомнения, в этом процессе цели Высшего Существа остаются для нас скрытыми; но в себе самих, в нашем собственном разуме, мы находим начало, которое в некоторой степени объясняет нам его деятельность в мире. С этой точки зрения, внешний механизм природы служит только орудием высших начал. Достаточный для объяснения физических явлений, он в философском миросозерцании является не более как внешним выражением чисто духовного естества, которое одно имеет самостоятельное бытие.
И тут нетрудно убедиться в недостаточности изложенной теории. С одной стороны, все явления природы объясняются взаимнодействием механических сил, с другой стороны, самое это взаимнодействие объясняется постоянным и непосредственным вмешательством Божества, то есть беспрерывным чудом. Но если мы примем последнее, то к чему служит гипотеза атомов как действующих друг на друга сил? Для объяснения явлений мы прибегаем к предположению, которое мы сами объявляем совершенно для себя непонятным и которое, по этому самому, заставляет нас предполагать нечто совершенно иное. В таком случае механика перестает уже быть орудием высших целей; она просто становится пустою игрою, лишенною всякого смысла, ибо в действительности действуют не механические силы, а находящееся сзади них бесконечное начало. Самое признание механизма орудием высших целей уничтожает основания механического воззрения на природу; ибо если механизмом объясняются все явления, то незачем предполагать высшие цели; если же явления не объясняются одним механизмом, то уже в самом реальном мире необходимо признать иные начала. Это относится в особенности к органической жизни. Лотце утверждает, что поддержание организмов вполне объясняется механическими процессами, но что строение их предполагает первоначальный план, начертанный премудростью Божьею. Между тем это строение беспрерывно возобновляется; развитие известного типа из простой клеточки составляет не только последствие первоначального плана, но и ежедневно повторяющийся органический процесс, и если никто до сих пор не в состоянии был объяснить этот процесс с помощью одних механических законов, то, значит, одним механизмом явления органической жизни не объясняются. Отрицание особого органического начала ведет единственно к тому, что Лотце внутреннюю телеологию заменяет внешнею; но так как он сам признает цели Бога недоступными человеческому пониманию, то эта внешняя телеология ни к чему не служит при объяснении явлений; она остается праздною гипотезою. С другой стороны, ни к чему не служит и сведение механических сил к чисто духовным единицам. Если все внешние явления объясняются механизмом, то зачем нужно предполагать, что каждая частица, передавая механическое движение, вместе с тем одарена и внутренним чувством, о котором нам решительно ничего не известно. Мы вдаемся тут в область чистой фантазии. Система Лотце очевидно составляет сколок с монадологии Лейбница; но Лейбниц не приписывал монадам механического действия друг на друга: он признавал их просто представляющими единицами. Лотце же хочет внешнюю механику свести на взаимнодействие духовных начал, а это вещь невозможная, ибо из способности чувствовать и представлять вовсе не следует механическое действие в пространстве, и наоборот, последнее не влечет за собою чувства и представления. Вследствие этого Лотце сам признает, что взаимнодействие единиц не вытекает из принадлежащих им свойств; для объяснения его он принужден прибегнуть к постоянному вмешательству Божества. Но если так, то зачем нужно полагать в основание всего сущего однородные единицы? Через посредство Бога могут точно так же действовать друг на друга и разнородные начала. Во всяком случае, если мы известной единице припишем свойства, не имеющие между собою ничего общего, с одной стороны, чувство и представление, с другой стороны, механическое действие в пространстве, свойства, принадлежащие, можно сказать, двум разным мирам, то мы никак эту единицу не можем считать простою сущностью. Напротив, мы имеем тут нечто весьма сложное, что требует дальнейшего анализа и объяснения. Одним словом, и в этой системе сведение внешнего опыта к внутреннему оказывается совершенно несостоятельным, и когда Лотце хочет построить из них одну общую систему, он волею или неволею принужден отрешиться от всякого опыта и прибегнуть к умозрению. Но так как точка исхода его лежит все-таки в опыте, то для умозрительного построения у него нет оснований. Очевидная недостаточность опытного знания ведет единственно к неопределенному чаянию. Это признает и сам Лотце, который в последнем своем сочинении, в предпринятой им ''Системе философии", прямо говорит, что презираемое ныне спекулятивное знание составляет высшую и не совсем недостижимую цель науки, причем он выражает надежду, что немецкая философия всегда будет пытаться не только описывать, но и понимать ход мироздания.
Наконец, то же самое замечание относится и к новейшему представителю спиритуалистического реализма, к Гартману, который все сушее сводит к единой духовной основе. Эту основу он называет Бессознательным. И тут исходною точкою служит внутренний опыт: человек в себе самом обретает соединенную с представлением волю, в основании которой лежит бессознательно действующий элемент. Это начало, путем аналогии и с помощью собранных естествоведением фактов, распространяется на весь видимый мир. В явлениях органической и животной жизни везде оказывается присутствие целесообразно действующего бессознательного элемента. Самые атомы Гартман сводит к тому же началу: атомы не что иное, как деятельные силы, которым всегда присуще стремление по известному направлению; следовательно, и они носят в себе бессознательное представление цели. А так как все эти силы находятся во взаимнодействии, что немыслимо без общей основы, то они должны быть поняты как явления единой субстанции. Эта субстанция имеет, таким образом, двоякое определение: волю как деятельную силу и бессознательно соединенное с нею представление. Первая составляет начало всего реального, второе есть источник сознания. Из противоположения их вытекает мировой процесс. Сначала в слепой воле возникает неразумное стремление к бытию. Этим вызывается лежащее в глубине ее представление, которое стремится снова ввести слепую волю в состояние чистой возможности. Чтобы достигнуть этой цели, оно должно постепенно освободиться из-под влияния воли. Рядом ступеней слепое начало возводится к высшему и высшему сознанию, пока наконец, достигнув вершины развития, представление становится совершенно самостоятельным. Оно уже не движется хотением, а беспристрастно смотрит на мир. С этой точки зрения, оно сознает, что все произведенное движением воли творение есть зло. Жизнь отдельных существ не что иное, как беспрерывное горе; если и встречаются наслаждения, то они значительно перевешиваются страданиями. Вся цель мирового процесса заключается в том, чтобы дойти до этого сознания и затем общим решением разумных существ уничтожить в себе всякое хотение. С этим вместе должно прекратиться и самое существование проистекающего из хотения мира. Производящая сила воли успокоится, и все снова возвратится в лоно Бессознательного.
Излишне заметить, что вся эта теория построена на воздухе. Опытные данные служили только исходною точкою для сооружения чисто фантастического здания, в котором спиритуалистичсская атомистика сочетается с теософическими мечтами Шеллинга, и все, наконец, погружается в мировую субстанцию Шопенгауэра. Система Гартмана представляет, можно сказать, последний, отчаянный вопль спиритуалистического реализма. Ею завершается весь цикл логических определений этой ступени, а вместе с тем исчерпывается и самое субъективное движение мысли. Прошедши на почве рационализма от субстанции к идее и на почве реализма от идеи к субстанции, субъективный путь дал все, что он может дать. Спиритуалистический реализм имеет существенное значение в том отношении, что он, в период господства опытного знания, отстаивает самостоятельное существование духовного мира; но все попытки его воздвигнуть цельное философское здание помимо умозрения неизбежно должны оказываться тщетными. Внутренний опыт, который служит ему главною точкою опоры, представляет для этого слишком мало данных. Путь аналогий, при точности анализа, ведет весьма недалеко. Сведение этим способом внешнего опыта к внутреннему порождает фантастические представления. Когда же мы хотим возвыситься к познанию абсолютных начал бытия, то вместо опыта приходится пробавляться лишенными почвы обломками прежних умозрительных систем. К последним поэтому необходимо возвратиться, как скоро требуется утвердить эти начала на прочном основании. Данные внутреннего опыта могут служить здесь не точкою исхода, а лишь подтверждением добытых умозрением результатов. В спиритуалистическом реализме субъективное мышление нисходит на почву фактов, но так как факты внутреннего опыта ограничиваются пределами субъекта, то приложение начал всегда остается частным. Из этого не только нельзя выработать цельного миросозерцания, но невозможно понять и самые основания духовного мира. Дух как общее начало связывает лица, а потому истинное существо его постигается только в общих явлениях человеческой жизни. Но для изучения этих явлений надобно от внутреннего опыта перейти к внешнему, от психологии к истории.
Этого последнего пути держится вторая, материалистическая отрасль реализма. Если спиритуалистический реализм составляет конец субъективного пути, то здесь, напротив, полагается начало новому, объективному движению мысли. Но это не более как начало. Держась исключительно на почве явления, не признавая ничего, кроме опыта, мысль и тут нс в состоянии объединить собранный ею материал; когда же она пытается это сделать, она вовлекается в нескончаемые противоречия и принуждена постоянно искажать те самые явления, изучение которых составляет для нее точку исхода.
Зачинателем этого направления был Огюст Конт. Он основал существующую доселе школу позитивистов. Конт отправляется от того положения, что человеческий ум в своем историческом развитии проходит через три следующих друг за другом периода: богословский, метафизический и положительный. Первая точка зрения служит признаком младенческого состояния мысли: вместо того чтобы изучать законы явлений, человек приписывает последние непосредственному действию вымышленных лиц. Второй период представляет переход от этого младенческого миросозерцания к положительной философии. Вместо живых лиц тут являются отвлеченные метафизические начала, которым приписывается реальная деятельность в мире. Наконец, в третьем периоде мысль, достигши зрелости, Приходит к сознанию, что она может познавать только относительное; она уже не строит воздушных замков из абсолютных начал, но обращается к опытному изучению явлений, стараясь исследовать связующие их законы. Это единственное, что в состоянии сделать человеческий ум. Причины начальные и конечные скрыты от наших взоров. Мы можем только наблюдать постоянную совместность и последовательность явлений и таким образом определять управляющие миром законы. Это и пытался сделать Огюст Конт относительно всех наук. Он выстроил их в ряд, идущий от простейших явлений к сложнейшим, от математических форм и определений, составляющих основание физики, к общественному организму, завершающему все научное здание. Везде он, объясняя высшее низшим, старался вывести из добытых опытом данных постоянные законы явлений.
Если мы спросим, на чем основана вся эта система, почему признается, что один опыт дает нам истинное знание вещей, то на этот вопрос мы у Конта не найдем ответа. Для основательного его решения требовалось бы точное исследование познавательной способности человека и обстоятельная критика выходящих из пределов опыта явлений человеческой мысли. Но позитивизм, который отвергает все, что не основано на точном и подробном изучении явлений, здесь избавляет себя от всякого изучения. Вся эта теория построена на голословном признании опыта, и притом внешнего, единственным источником человеческого ведения. В своем ''Курсе положительной философии", который составляет основной канон позитивизма, Конт не коснулся даже логики. Он говорит только, что логические законы должны быть выведены из опытного изучения приемов отдельных наук, а в настоящее время это не представляется еще возможным. Поэтому он прямо начинает с математики; но сам же он общую часть математики признает за великолепное расширение логики. Таким образом, исходная точка опирается на то, что должно составлять конец науки. Немудрено, что уже в этой исходной точке оказывается не только недостаток теории, но и противоречие с фактами. Опыт признается Контом единственным источником человеческого познания, а между тем во главе всех опытных наук ставится математика, которая есть наука умозрительная. Чтобы устранить это противоречие, позитивисты принуждены самую математику превратить в опытную науку. Но это можно сделать только в ущерб как логике, так и фактам. Мы уже видели выше, что подобную попытку нельзя назвать иначе как извращением действительных явлений человеческой мысли в угоду предвзятой теории.
То же следует сказать о выведенном Контом преемственном законе, который составляет начало и конец всей его системы. Это — не закон, а обрывок закона, который, по этому самому, теряет настоящий свой смысл. Как можно убедиться из предыдущего изложения, к истории древней мысли этот мнимо общий закон вовсе не приложим. Древняя мысль действительно начинает с религиозного миросозерцания, затем переходит к метафизике, а от метафизики к реализму; но после периода, в котором отвергается все, кроме опыта, она снова возвращается к метафизике, а от метафизики опять к религии. Как же объяснить этот обратный путь от зрелости к младенчеству? Мы имеем здесь явление, которое в самом основании ниспровергает всю теорию Конта. А если таков был ход древней мысли, то почему же мы не можем предполагать, что таков же будет и ход новой мысли? Судя по аналогии, мы должны сказать, что здесь, как и там, период опытного знания составляет только преходящий момент в общем движении: мысль, перешедши через эту ступень, должна снова возвратиться к метафизике, а от метафизики опять к религии. Ниже мы увидим, что не в силу одной только поверхностной аналогии, но на основании точного исследования явлений мы должны заключить, что таков именно закон человеческого развития.
В позднейшее время Конт сам сознал недостаточность реализма и пытался перейти к тому, что он называл тотализмом. В этом новом воззрении религиозный синтез должен был составлять центр будущего человеческого развития. Это было смутное чаяние сильного ума, который стремился выбиться из ограниченного круга своей системы. Но так как исходная точка оставалась прежняя, то из этой попытки ничего не могло выйти, кроме противоречий и несообразностей. Религия Конта состоит в поклонении Великому Целому, как будто предметом религиозного почитания может быть что-нибудь, кроме живого лица. Не говорим о других, чисто субъективных подробностях этой теории. Ученики Конта справедливо отказались следовать за ним по этому пути и остались при своей прежней, более ограниченной, но более ясной и последовательной точке зрения.
Чего не сделал Конт, то совершил для реализма Джон Стюарт Милль. В своей ''Логике" он хотел доказать, что все человеческое знание, не исключая и самой логики, проистекает единственно из опыта. Мы видели уже, до какой степени слаба его аргументация. Милль отвергает силлогизм, как неспособный дать нам какое бы то ни было знание вещей. Вся сила силлогизма основана на большей посылке, заключающей в себе общий закон, под который подводится частный факт, а между тем самая эта посылка извлечена из фактов, следовательно, опирается на то, что должно составлять заключение. В действительности, говорит Милль, все человеческое знание исходит из опыта и возвращается к опыту. Истинное заключение делается не от общего к частному, а от частного к частному; общее же начало, выражающееся в силлогизме, служит нам только формулою, обьединяюшею предварительные наблюдения. Несмотря, однако, на это чисто формальное значение общих начал, Милль разделяет весь путь научного исследования на две отдельных операции: на индукцию и дедукцию. Первая есть заключение от частного к общему, вторая — от общего к частному. Первая дает исследование причин, вторая — вывод последствий; первая составляет основание, вторая — высшую цель науки. Мало того: самая индукция, отправляясь от чисто опытных данных, нуждается в предварительном общем начале, на которое она могла бы опираться. По признанию Милля, всякое опытное исследование предполагает общее положение, что природа управляется неизменными законами. Верховный закон, которым связываются все явления, есть закон причинности. И по форме, и по содержанию, он имеет безусловный характер. Мы видели уже, что Милль, в отличие от Конта, определяет причину, как безусловный антецедент; но мы видели также, в какие он вовлекается нескончаемые противоречия в старании оправдать это понятие, которое не дается нам опытом. Выходит, что, прежде нежели приступить к каким бы то ни было опытным исследованиям, мы разом должны вступить в область безусловного, которое служит нам точкою исхода. А так как безусловный закон, от которого отправляется опыт, в свою очередь, по теории Милля, извлекается из опыта, то мы впадаем в неисцелимый логический круг.
Заключение
от частного к общему, составляющее существо наведения и основание всей науки, само опирается на заключение от общего к частному, то есть на отвергнутый силлогизм; силлогизм же основывается на предварительном наведении. Последнее, однако, по признанию Милля, не есть еще научное начало. Безусловный закон причинности, составляющий исходную точку всех научных исследований, сам получается из ненаучного опыта, путем простого наблюдения. Между тем сам Милль считает простое наблюдение совершенно недостаточным для точного вывода. В действительности такого вывода даже и сделать нельзя, ибо опять же, по признанию Милля, природа кроме однообразия заключает в себе и бесконечное разнообразие, в котором простое житейское наблюдение не в состоянии открыть какие бы то ни было законы. Таким образом, вращаясь в логическом круге, мы окончательно приходим к совершенной невозможности сделать какой бы то ни было вывод. Научный опыт должен опираться на ненаучный опыт; но последний, еще менее, нежели первый, в состоянии вывести тот безусловный закон, который должен составлять основание всех исследований. И точно, безусловные законы даются не опытом, а умозрением; опыт же может представить им только частное подтверждение.
В такие же противоречия Милль впадает и при определении дедукции, которая должна составлять венец научного здания. Индукция дает нам только эмпирические законы, то есть фактическое однообразие следующих друг за другом явлений; но она не раскрывает нам, почему явления происходят так, а не иначе. Чтобы понять их разумную связь, необходимо эти частные законы вывести как следствия из более общих законов, показавши в них частное приложение последних. Это и составляет задачу дедукции, которая таким образом одна дает нам истинное понятие о законе, как необходимой последовательности явлений, и гем самым возводит науку на высшую ступень. Здесь уже оказывается, что отвергнутый силлогизм, то есть заключение от общего к частному, не только служит удобною формулою для обозрения предшествующих наблюдений, но составляет настоящий источник знания. Милль восстает против Бэкона, который, исходя от наведения, утверждал, что надобно сначала выводить низшие положения, затем из последних средние и, наконец, высшие, как самые общие. Истинно научная метода, по мнению Милля, должна состоять в обратном ходе: сначала из чистого опыта делается неимоверный скачок к самым общим законам, затем из последних выводятся средние, наконец, низшие. Таким образом, опытный путь совершенно опрокидывается: наведение, начинающееся снизу, прямо перескакивает к вершине и затем уже спускается обратно. Опыт, который признается единственным основанием самых общих законов, оказывается недостаточным для вывода средних и низших, то есть именно тех, которые всего к нему ближе. Они получаются путем вывода, и это одно, что дает им значение истинных законов. Высшие же законы, из которых выводится остальное, по-прежнему остаются для нас совершенно необъяснимыми. По выражению Милля, мы идем только от одной тайны к другой. Иначе и быть не может, ибо все, что получается из чистого опыта, по необходимости сохраняет эмпирический характер. И если дедуктивная метода бросает некоторый свет на низшую область знания, то это делается единственно благодаря непоследовательному приложению положенных в основание начал, ибо вся сила вывода заключается в отвергнутом силлогизме. Строго держась чисто опытного пути и делая заключения, как требует Милль, исключительно от частного к частному, мы не только никогда не выйдем из эмпирических законов, но неизбежно придем к отрицанию всей дедуктивной методы, а вместе с тем и всяких логических законов. Тогда единственным для нас руководством в познании вещей будет встречающееся в опыте сочетание признаков, которое мы будем считать постоянным, до тех пор пока не встретятся сочетания другого рода. О логике тут уже нс может быть речи; все наше знание определяется обычным сочетанием представлений. К этому и приходит Милль, когда он говорит, что немыслимого нет ничего, ибо весь порядок наших мыслей зависит от того, как мы привыкли их связывать. Если же, несмотря на то, Милль в логическом выводе видит высшую цель науки, то в этом выражается лишь та путаница понятий, которая составляет неизбежное последствие чисто опытной логики. Признание опыта за единственное основание человеческого знания последовательно ведет к отрицанию законов, присущих самой познающей мысли, то есть к отрицанию логики. Но так как без логики ничего нельзя познавать, и в действительности мы постоянно принуждены ею руководствоваться, то отсюда возникают противоречия как в самых основаниях теории, так и в дальнейших ее приложениях.
При таком взгляде исчезает самый субъект мышления. Я есть не что иное, как умственное представление, которым связываются раскрываемые опытом внутренние состояния; поэтому оно должно быть отвергнуто вместе с другими созданиями метафизики. Реально существует только ряд представлений и чувств, которые связываются и разделяются по законам ассоциации, то есть в силу более или менее укоренившейся привычки. Это все, что дается нам опытом. Таким образом, мимолетные, исчезающие ощущения превращаются в существа, имеющие самостоятельное существование и вступающие в отношения друг с другом. Но при этом остается непонятным, каким образом этот ряд ощущений может помнить себя в прошлом или предвидеть себя в будущем. Милль признается, что это.
— тайна, которую мы нс в состоянии разгадать, что, однако, нисколько не колеблет в нем веры в развиваемое им воззрение. Пришедши к абсурду, так называемая опытная теория не хочет видеть в этом осуждения принятых ею начал; она объявляет это одною из тех многочисленных загадок, которыми со всех сторон окружена человеческая мысль. И точно, с отрицанием всякого разумного начала мы всецело погружаемся в непроницаемый мрак.
Исчезает не один субъект; исчезает также и объект. Опыт не дает нам ничего, кроме ощущений, а потому мы не вправе предполагать существование чего-либо другого. Если мы признаем действительно существующие вне нас предметы, то это опять же не более как создание нашего собственного воображения. В действительности, внешний мир представляет для нас только возможность ощущений, связанных теми же законами ассоциации. Ожидание известного ощущения, вследствие приобретенной привычки, есть то, что мы разумеем под именем вещи. Но и тут остается совершенно необъяснимым, почему эти вещи являются нам совершенно помимо нашей воли. Если нет внешних предметов, вызывающих в нас известные ощущения, если весь объективный мир есть только создание собственного нашего воображения, то между впечатлением и представлением нет никакой разницы, и мы должны иметь возможность видеть, слышать и осязать всякого рода предметы по собственному нашему изволению, так же как мы вызываем в себе какие угодно представления. Реальное событие и фантастический рассказ делаются совершенно тожественными. Но тогда какое значение имеет опыт? Вместо того чтобы дать нам истинное познание вещей, он производит в нас только ряд бессмысленных призраков. Такой взгляд очевидно приводит к полному отрицанию опытного знания, вследствие отрицания тех начал, на которые он опирается. Становясь на такую чисто скептическую почву, Милль не решается, однако, отрицать существование других субъектов. Вместе с Берклсем он непоследовательно допускает реальное их бытие. Но епископ Берклей видит в этом чудесное действие промысла Божьего, раскрывающего нам истину путем веры. Милль же не имеет этого прибежища: по его теории, мы должны признавать существование других людей по аналогии с собой, потому что они имеют такое же тело, как мы, и проявляют действия, которые в нас возбуждаются чувствами. Но если мы не имеем никакого доказательства реального существования тел, то какое можем мы сделать заключение о присущих этим телам чувствах? Очевидно, что философу недостало смелости довести свою мысль до конца, а потому он остается при явном противоречии.
Какого же рода отношения могут установиться между людьми при таком скептическом взгляде на вещи? За недостатком каких бы то ни было теоретических оснований остается чисто практическое начало пользы. К нему и прибегает Милль, следуя Бентаму. От своего учителя он заимствует формулу: наибольшее счастье наибольшего количества людей. Свойство этого начала чисто субъективное; корень его лежит в человеческих влечениях, которые, по теории Милля, одни составляют источник человеческой деятельности. Всякое разумное требование устраняется; разум указывает только средства, а не полагает целей. Выше мы видели уже всю несостоятельность этой теории. Как скоро отвергаются абсолютные требования разума, так мы теряем всякую почву и не в состоянии прийти ни к какому нравственному началу. Раскрываемые опытом влечения не дают ничего, кроме чисто личного, субъективного чувства, и только посредством подтасовки понятий мы это личноечувство превращаем в общее начало. Милль требует, чтобы в своих решениях мы беспристрастно взвешивали свое счастье и чужое и отдавали предпочтение тому, которое больше. Но в силу чего можно предъявить такое требование существу, которое руководствуется единственно своими влечениями? Если мы станем искать оснований для этого правила, то нам скажут, что такое поведение рекомендуется, потому что некоторым людям оно доставляет наибольшее удовольствие. Но если так, то высшим мерилом является все-таки личное ощущение; а в таком случае каждый должен действовать по своему вкусу. Иного начала опыт не в состоянии дать. Для восполнения этого недостатка Милль опять прибегает к привычке. По его теории, добродетель в существе своем служит только средством для общественной пользы, но затем она, в силу привычки, начинает нравиться нам сама по себе как цель. Милль сравнивает это со скупостью и честолюбием, не замечая, что тут превращение средства в цель именно и составляет существо порока. Наконец, допустивши даже такую ничем не оправданную замену личного начала общим, мы на чисто опытной почве все-таки не придем ни к каким твердым результатам. Польза — начало бесконечно разнообразное и изменчивое. Руководствуясь им, мы получим только частные соображения по частным вопросам. Цельной общественной науки отсюда невозможно выработать. А так как под видом пользы можно доказывать все, что угодно, то нетрудно с одинаковым правдоподобием развивать совершенно противоположные начала, например индивидуалистические и социалистические. Это и делал Милль, который от индивидуализма постепенно перешел к социализму. Но одними частными соображениями эти вопросы не решаются. Для этого требустся основательная философия права и государства, философия, которую менее всего можно построить на начале пользы. Вообще можно сказать, что Милль был слишком теоретиком для практики и слишком практиком для теории. В результате выходило нечто среднее, не удовлетворяющее ни тому ни другому.
Таким образом, в исследованиях Милля мы видим приложение начала цели к области человеческих отношений. Но на почве чисто опытного знания это начало могло явиться только как неопределенная полезность или никому не известная сумма удовольствий всех существующих людей.
Приложение того же начала к области естествознания мы находим у Дарвина. Все развитие физических организмов объясняется у него сохранением полезных организму качеств. В происходящей во всем мире борьбе за существование преимущество имеют те существа, которые владеют наилучшими орудиями для достижения своих жизненных целей. Вследствие этого эти типы сохраняются, а остальные погибают. Отсюда проистекает все высшее и высшее развитие физических организмов, развитие, которое, начиная от первобытной клетки, доходит наконец до обезьяны, а через обезьяну до человека.
Дарвин не объясняет, откуда у организмов берутся эти совершеннейшие орудия, которые в борьбе за существование служат им средством для победы над соперниками. Держась указаний опыта, он самому приспособлению придавал весьма мало значения в этом процессе. Но при таком взгляде, очевидно, нельзя было вывести общих законов, определяющих всю преемственность органических существ. Вследствие этого его последователи сделали дальнейший шаг: они смело покинули опытную почву и пустились строить эволюционную теорию чисто умозрительным путем на основании начал приспособления и наследственности. Мы уже говорили о внутренних противоречиях этой системы. И приспособление и наследственность предполагают целесообразное движение естества, а тут не допускается ничего, кроме механических причин. Последователи Дарвина хотят объяснить развитие одним механизмом, что составляет логическое противоречие, ибо развитие есть стремление к цели, а чистый механизм есть отрицание цели: конечная причина сводится здесь к причине производящей. Но еще более, нежели логика, страдает при этом самый опыт, который составляет будто бы точку отправления всех этих исследований. Приверженцы эволюционной теории строят такие фантастические здания, которые могут поспорить с самыми смелыми мечтами натурфилософов. Более осторожные эволюционисты не разделяют этих увлечений. Стараясь объяснить развитие организмов из опытных данных, они приходят к необходимости признать внутреннюю, целесообразно действующую причину развития. Но так как существо этой причины может быть объяснено единственно философией, то опытное знание должно тут оставаться при одном чаянии.
Эволюционная теория, основанная на механических причинах, как нельзя более приходилась ко взглядам другого мыслителя, который, точно так же отправляясь от опыта, старался свести все сущее к единству причины производящей. Этот мыслитель — Герберт Спенсер, которого вся теория основана на установленном физиками начале единства силы. Спенсер вместе с позитивистами отвергает возможность познания абсолютного. Эту область, под именем непознаваемого, он предоставляет религии, в которой, однако, он не видит ничего, кроме отрицания всяких определенных понятий. Наука и религия, по его мнению, могут помириться на мысли, что начала мира составляют для человека непроницаемую тайну. Собственная же наука должна ограничиться пределами относительного, признавая существование абсолютного, как чего-то противоположного относительному, но нс пытаясь определить его существо и свойства. Несмотря, однако, на такое ограничение задачи, Спенсер строит цельную систему мироздания, основанную на едином начале. Это начало есть единство силы. Конечно, на основании чистого опыта такого построения сделать нельзя. Опыт дает нам лишь немногие явления, обнаруживающие переходы одной формы силы в другую, с сохранением постоянного ее количества. Отсюда до вывода мирового начала весьма далеко. Поэтому Спенсер прибегает к помощи умозрения. Он признает даже, что самое опытное знание возможно только при умозрительном предположении постоянства силы, которое опытом доказано быть не может. Из этого положения чисто логическим путем выводятся и дальнейшие определения силы, которая представляется единою, количественно определенною, сохраняющеюся неизменною при перемене форме, наконец, причиною всех мировых явлений. Таким образом, непознаваемое, которое признавалось безусловною тайною, неожиданно является определенным началом, из которого выводятся все мировые законы. Так как понятие об этой силе взято с явлений материального мира, то очевидно, что в нем нет ничего, кроме представления силы материальной. Вследствие этого Спенсер все мировые законы сводит к распределению материи, силы и движения. Отсюда он производит и самые душевные явления, которые он понимает как известные превращения той же самой лежащей в основании мира силы. При всем том он отнекивается от материализма, утверждая, что неизвестная нам сила может с одинаковым правдоподобием быть понята и как материальная, и как духовная. Но когда основные законы этой силы приводятся к распределению материи и к формам физического движения, когда к этим законам сводятся и душевные явления, то для всякого человека, понимающего смысл слов, не может быть ни малейшего сомнения, что подобное воззрение не заключает в себе ничего, кроме чистого материализма.
Что касается до различных проявлений этой мировой силы, то Спенсер выводит их из двоякого свойства материи, которую мы не можем представить себе иначе как одаренную, с одной стороны, силою притягательною, с другой — отталкивающею. Это следует из того, что мы познаем материю только из оказываемого ею сопротивления; сопротивление же предполагает, с одной стороны, отрицание внешнего действия, с другой стороны, внутреннее сцепление частиц. Это положение, которое отнюдь не выведено из постоянства силы, а примыкает к нему извне как плод частного опыта, причем сопротивление смешивается с отталкиванием, Спенсер произвольным логическим скачком распространяет на всю вселенную. Вследствие этого вместо единой мировой силы мы получаем две, противоположные друг другу. Но так как и из двух сил, находящихся в равновесии, ничего еще нельзя вывести, то Спенсер также произвольно предполагает последовательное преобладание то одной, то другой. Первое ведет к соединению, или интеграции, материи при потере частичного движения, второе к разделению, или дезинтеграции, материи при увеличении частичного движения. Отсюда следующие друг за другом мировые эпохи эволюции и диссолюции. Однако и этим не объясняется еще существование отличных друг от друга вещей. Чтобы прийти к последнему, Спенсер в законе эволюции вводит еще другое начало. С общею интеграцией) соединяется частная дифференциация. Последняя происходит оттого, что части однородного вещества в различной степени подвергаются внешним влияниям и, в свою очередь, различно воздействуют на эти влияния. Отсюда возрастающая неправильность, которая идет в геометрической прогрессии, до тех пор пока, наконец, вследствие большей и большей потери движения от столкновения противоборствующих сил, внешние и внутренние силы приходят в равновесие. Тут эволюционное движение достигает высшего своего предела; но этот предел — преходящий, ибо потеря движения на нем не останавливается. Относительное, или подвижное, равновесие постепенно переходит в абсолютное равновесие, где исчезает уже всякое движение. В этом состоит смерть особи. Но полное исчезновение движения, в свою очередь, делает вещество более доступным всяким внешним влияниям. Отсюда извне приходящее движение, которое ведет к разложению вещи. В силу мирового закона за интеграциею следует дезинтеграция, за эволюциею диссолюция.
Спенсер подкрепляет все свои выводы многочисленными примерами из опыта. Не только физические, но и душевные и общественные явления он старается подвести под законы, вытекающие из постоянства силы. Все эти фактические данные могут, однако, служить разве только примерами вопиющего злоупотребления опытной методы. Нет ничего легче, как привести многочисленные примеры всякого произвольно выведенного закона, особенно если этот закон имеет такое неопределенно общее значение, как интеграция или дезинтеграция, дифференциация или эволюция. Стоит только опустить все неподходящие или противоречащие явления, и вывод действительно покажется законом. Но этот призрак исчезнет, как скоро мы сравним формулу закона с опущенными явлениями. Так, например, Спенсер выводит дифференциацию, как второстепенное начало, из различного действия внешних сил на разные части вещества. Но этот закон, по собственному его признанию, ведет только к возрастающей в геометрической прогрессии неправильности, а не объясняет закономерного строения особей. Симметрия, составляющая общее явление не только органических, но и неорганических тел, не может быть выведена отсюда. Спенсер и не пытается этого сделать: он просто опускает это явление. Относительно же органического развития он замечает, что тут примешивается неразгаданное еще начало наследственности. Но если самые существенные явления остаются необъясненными, то как же можно выдавать выведенный закон за мировой? Что касается до явлений духовного мира, то высшее развитие ведет не к большей неправильности и раздельности, как требует закон дифференциации, а, напротив, к объединению разъединенного. Строение языка, на которое ссылается Спенсер, не осложняется, а упрощается с высшим развитием; раздельность сословий заменяется общегражданским началом; мелкие племена исчезают в крупных народностях. По теории Спенсера выходит, что касты должны составлять идеал человеческого развития. Вообще такие скудные категории, как интеграция и дифференциация, совершенно не способны объяснить разнообразие не только духовных, но даже и физических явлений; когда же эти категории сводятся к различному расположению материальных частиц, подверженных внешним влияниям, то можно только удивляться смелости ума, который подобную схему накладывает на все мироздание.
Столь же мало объясняется и равновесие, которое должно составлять цель эволюции. Как бы ни уменьшилось движение, если неправильность идет в геометрической прогрессии, то равновссие никогда не достигнется. Оно предполагает именно правильное отношение сил, чего Спенсер из своей теории не мог вывести, ибо противоположные силы, притягивающие и отталкивающие, только внешним образом соединены с основным началом его системы; взаимное отношение их не объяснено. Наконец, непонятно, почему за эволюцией должна следовать диссолюция. На основании чего можем мы предположить, что движение, которое совершенно прекратилось в данном предмете, сохраняется еще в окружающей среде, и сохраняется так, что оно способно сообщить предмету новое, гораздо сильнейшее движение, нежели прежде? Всего удивительнее то, что это сильнейшее движение должно сообщиться не только умершей особи, подлежащей разложению, но постепенно и всему мирозданию. Спенсер выводит свое основное начало, постоянство силы, из того положения, что небытие не может стать бытием, и обратно; следовательно, количество силы не может ни увеличиваться, ни уменьшаться. Но его следующие друг за другом эпохи эволюции и диссолюции представляют именно такие чудодейственные переходы от постепенного прекращения движения к его избытку, и обратно. И логика, и опыт одинаково остаются внакладе в этой теории, которая представляет отважную попытку объединить мировые явления без всякой твердой точки опоры как в умозрении, так и в положительных данных. Отрывочные соображения, страдающие внутренними противоречиями, подкрепляются столь же отрывочными и произвольно подобранными фактами, и все это сводится в одну общую систему, которая может служить только поучительным доказательством той истины, что без философии невозможно философствовать.
Всего менее из единства силы можно вывести объяснение душевных явлений. Мы не знаем ни одного факта, который указывал бы на превращение материальной силы в душевную, и обратно. Сам Спенсер признает полную невозможность свести духовную единицу на материальную, вследствие чего он считает психологию совершенно самостоятельною наукою, основанною на внутреннем опыте. Но это не мешает ему строить весь душевный мир по аналогии с миром физическим и выводить отсюда, что одна и та же неизвестная нам сила является в двух различных, хотя совершенно непонятных для нас формах. Это умозаключение насчет неведомых и непостижимых для нас сущностей весьма живо характеризует приемы реалистической школы; но еще характеристичнее то фантастическое построение, которому подвергается психология с целью подвесг ти душевные явления под законы явлений телесных. Кроме безусловного непонимания природы и законов разума, в противоположность материи, тут ничего нельзя найти.
Теория единства силы Спенсера так же, как и эволюционное учение дарвинистов, имеет в виду объединить все мировые явления сведением их к одному началу, заменить монизмом представляющийся нам в опыте дуализм. Очевидно, что это можно сделать только выводом душевных явлений из телесных, или наоборот. Когда мы отправляемся от внутреннего опыта, мы делаем последнее; это и есть точка зрения спиритуалистического реализма. Отправляясь от внешнего опыта, мы, напротив, естественно приходим к первому, ибо внешний опыт дает нам прежде всего материальные явления, к которым мы и стараемся свести остальные. Вследствие этого позитивизм неизбежно приходит к материализму. Если мы вместе с Контом начнем с простейших, физических явлений и постепенно будем восходить к душевным как сложнейшим, мы несомненно должны будем признать последние только видоизменением первых, ибо сложное образуется из простого. И точно, позитивисты последовательно приходят к заключению, что материя и бытие составляют только две разные грамматические формы для означения одного и того же понятия[5]. Чистый материализм составляет, таким образом, окончательный момент в развитии этого направления. От закона или формы мысль через посредствующие категории силы и цели приходит наконец к материи.
Приверженцы материалистического учения рассеяны всюду. Распространению его содействует в особенности механическое воззрение на природу, господствующее в современном естествоведении. К этой теории склоняются вообще все неосмотрительные естествоиспытатели, которые стоят за крайнюю точность фактических исследований, но считают совершенно излишнею точность логических выводов. Отправляясь от физических явлений, которые составляют постоянный предмет их изучения, они воображают, что в мире нет ничего другого и что на основании имеющихся у них скудных опытных данных можно объяснить всю систему мироздания. Иногда, впрочем, материализм принимает и более философский характер; это мы видим особенно в Германии, где он примыкает к развитию левой стороны гегелсвой школы. Здесь главными его представителями являются Фогт, Молешотт, Бюхнер, Дюринг; в новейшее время к нему перешел и Штраус. Наиболее популярное изложение этой теории, на основании данных, выработанных естественными науками, можно найти у Бюхнера, наиболее полное и философское учение — у Дюринга. Эти два писателя могут служить представителями двух направлений, чисто фактического и философского, на которые разбивается современный материализм.
Бюхнер совершенно отвергает умозрение и держится чистого опыта. Но с первого же шага оказывается, что он вдается в умозрение, сам того не подозревая. Первое его положение состоит в том, что нет силы без вещества, и нет вещества без силы. Но что такое сила и что такое вещество? Ни то ни другое не дается нам внешними чувствами; это чисто умственные понятия, посредством которых мы объединяем явления. Сам Бюхнер признает силу нематериальным началом и восстает в этом отношении против Фогта, который мысль считает таким же отправлением мозга, как желчь составляет отправление печени. Бюхнер говорит даже, что как понятия сила и вещество далеко расходятся и в некотором смысле отрицают друг друга. Следовательно, без точного определения этих начал невозможно говорить и об их взаимном отношении. Но именно этой точности определений от приверженцев чистого опыта всего менее можно ожидать. Мы должны верить на слово, что в мире нет ничего, кроме вещества, и что силы составляют только свойства этого вещества. Отсюда Бюхнер выводит, что силы не передаются, а только возбуждаются ''каким-то родом заразы". Мейсду тем самый опыт противоречит этим выводам. Теория сохранения энергии прямо приводит нас к понятию о силе, переходящей из одного вещества в другое, и сохраняющейся тожественною при этом переходе. Притяжение заставляет нас признать действие силы на расстоянии, что также невозможно, если сила присуща веществу, ибо вещество не может действовать там, где его нет. Самые факты, следовательно, уничтожают основное положение Бюхнера, а вместе с тем и всю воздвигнутую на нем теорию. Путаница понятий здесь так велика, что Бюхнер, не обинуясь, признает материю вечною во времени, бесконечною в пространстве и бесконечно-делимою, между тем как никакой опыт не дает нам понятия о вечном и бесконечном, и сам Бюхнер буквально признает в другом месте, что мы не в состоянии иметь об этом даже отдаленнейшего представления. Далее мы должны точно так же на слово верить, что все явления вселенной объясняются действием присущих материи механических сил. Бюхнер восстает в особенности против так называемой жизненной силы; он отвергает всякую целесообразность в строении организмов, утверждая, что достижение цели не что иное, как результат случайной удачи в сочетании вещественных частиц. Но все это остается в области общих заверений. Ни развитие организма, ни строение органов не объясняются действием одних механических сил. Факты прямо указывают здесь на целесообразность; устранить это начало можно не с помощью опыта, а наперекор опыту. Наконец, всего менее возможно чистым механизмом объяснить явления мысли и чувства. Замечательнейшие современные естествоиспытатели признают, что в ощущении механическое воззрение на природу находит себе предел. Бюхнер и нс пытается дать это объяснение. Он ограничивается доказательством, что деятельность мысли в человеке неразрывно связана с существованием мозга, и выводит отсюда, что ''при таких обстоятельствах, мы не имеем права не доверять веществу и отрицать в нем возможность чудесных действий". После этого, конечно, автору, по собственному его выражению, «не слишком трудно признать столь часто отвергаемую возможность, что душа есть произведение особого рода сочетания материи». При таком способе рассуждения трудного нет ничего; нужно только отказаться от логики и не обращать внимания на факты, и тогда можно строить какие угодно системы. Но эти системы нс более как пыль, которая разносится первым дуновением ветра. Нечего говорить о том, что высшие явления человеческой жизни, право, нравственность, философия, религия, при такой точке зрения остаются необъяснимыми. Бюхнер в религии видит чистый антропоморфизм, в философии — пустые мечты. Он утверждает, что мы абсолютное познать не можем, но не объясняет, откуда у нас берется понятие об абсолютном, если все наше знание приобретается опытом. Еще менее думает он выяснять те законы, которыми управляется развитие этого понятия в человеческом сознании. В противоположность тому, что делается в естественных науках, здесь так называемая опытная метода ведет только к отрицанию явлений. Одним словом, это рассчитанное на популярность изложение может удовлетворить только тех, для которых слова заменяют понятия.
Очевидная невозможность построить материалистическую систему на основании чисто опытных данных побудила Дюринга прибегнуть к философским началам; но его претензии на философию послужили единственно к тому, чтобы еще яснее обнаружить те внутренние противоречия, на которых зиждется все это воззрение. Дюринг отвергает уже относительность знания, которое не позволяет остановиться ни на каких твердых началах. Человеческий ум, по его мнению, заключает в себе верховный источник всякого познания, ибо он сам есть высшее выражение бытия. Всякое сомнение в своих способностях, всякое критическое отношение к действительности явлений служат только признаком слабоумия. Энергический ум заранее носит в себе полнейшую уверенность и в себе самом, и в объективном мире. Он прямо сознает, что за пределами того, что он видит, нет ничего, и что собственные его законы суть верховные законы вселенной. Вследствие этого Дюринг признает логику и математику чисто умозрительными науками. Но выводимые этим путем законы дают только общую схему мироздания. Они показывают, что вселенная составляет единую, внутренно в себе связную систему. Действительное же познание вещей должно отправляться от данных, именно от того, что нам раскрывается внешними чувствами. Дюринг уверяет, что из внутреннего опыта получаются лишь смутные и отрывочные представления, которые только от внешнего опыта приобретают научный характер. Внешний же опыт не представляет нам ничего, кроме материи и отношения материальных явлений. В этом, следовательно, заключается вся действительность; иного ничего мы не вправе предполагать. Как скоро ум отрешается от материальной основы, так он впадает в химеры. Единственная его задача заключается в том, чтобы путем анализа дойти до первоначальных составных элементов материального бытия и затем вывести из них все остальное. Эти первоначальные единицы составляют для него необходимые начала, далее которых идти невозможно. Смешивая законы умозрения с данными опыта, Дюринг прямо сопоставляет эти так называемые факты внешнего мира с логическими аксиомами. Но материальные единицы служат только необходимыми точками исхода для философии действительности. Из них ум должен затем обратным порядком построить весь мир, нс держась уже опытного пути, а свободно располагая первоначальными элементами и образуя из них различные сочетания. Это —дело фантазии, которая составляет необходимый элемент науки. Но для того чтобы фантазия не создавала небылиц, подобно метафизике, она должна следовать пути, указанному самою природою, то есть идти постепенно от простейших сочетаний к сложнейшим. Этим способом можно построить цельное и непоколебимое научное здание.
Ясно, что таким путем можно идти весьма далеко, ибо тут исчезает уже всякая почва. Человеческий ум признается верховным в области познания до такой степени, что отвергается даже возможность существования высшего, то есть более всеобъемлющего ума. Но это верховенство тут же оказывается мнимым, ибо познающий ум связан тем, что дается ему внешними чувствами, по существу своему ограниченными. Как скоро он выходит за пределы материального бытия, он начинает бредить. Со своей стороны, внешние чувства призываются единственно затем, чтобы с помощью их признать материальный мир единственным существующим. Все дальнейшие действия в познании вещей предоставляются опять уму и соединенной с ним фантазии. Ум, разлагая данный материал, доходит до простейших элементов, о которых внешние чувства не дают нам ни малейшего понятия; фантазия же, свободно располагая этим материалом, строит из него свое собственное здание. Хотя ей и предписывается следовать указаниям природы, которая будто бы идет от простейших сочетаний к сложнейшим; но таких указаний мы в природе не видим. Природа, по теории Дюринга, с самого начала представляет нам сложные явления; логика же разлагает эти явления на простейшие элементы, откинув в сторону связующие их начала, после чего уже она идет от простого к сложному, пытаясь восстановить утраченную связь. Но так как чисто логическим путем этого сделать невозможно, то и призывается на помощь ''творческая фантазия". v.
Немудрено, что в этом фантастическом построении каждый шаг характеризуется произволом и противоречиями. Первоначальные ''составные кусочки", по выражению Дюринга, к которым приводится материальный мир, суть атомы. К признанию атомов вынуждает нас то, что Дюринг называет законом определенного числа. Логика не допускает обратного хода в бесконечность, ибо пройденная бесконечность есть бессмыслица. Стало быть, в делении надобно где-нибудь остановиться, признавши материю составленною из определенного количества неделимых. Дюринг не говорит, как мы должны представить себе эти неделимые: протяженными или непротяженными? Если первое, то они будут делимы; если последнее, то исчезает материальный их характер, и мы приходим к спиритуалистической атомистике. Изобретенный Дюрингом закон определенного числа несовместен с протяжением, которое влечет за собою бесконечную делимость. Точно так же он не прилагается и к последовательности явлений во времени. Дюринг утверждает, что в силу этого закона, не допускающего бесконечности пройденного времени, мы непременно должны предположить состояние безусловно себе равной материи, предшествующее всяким переменам. Но каким образом могла материя выйти из этого состояния и начать движение? На этот вопрос нет ответа. Дюринг ссылается только на то, что это должно было совершиться постепенно; как будто постепенность объясняет неизвестно откуда взявшееся начало. Такая постепенность противоречит и сохранению постоянного количества силы, которое Дюринг, вместе с сохранением постоянного количества материи, считает вторым основным законом мироздания. Силу он определяет как известное состояние материи. Однако это не состояние движения, ибо сила может находиться и в равновесии, то есть в покое. Дюринг прямо отвергает гипотезу, объясняющую равновесие частичным движением; он видит несовершенство современной теории в том, что она не объясняет перехода от статики к динамике и обратно. Но сам он столь же мало объясняет этот переход, причем выходит еще и та нелепость, что сила определяется как известное состояние материи, а движение и равновесие составляют два противоположных состояния этого состояния. По выражению Дюринга, мы здесь вступаем в несколько темную область. Но еще темнее вопрос об антагонизме сил, который, по мнению Дюринга, составляет основную форму мировой механики. Он видит антагонизм во всяком взаимнодействии сил: сталкиваясь в одной точке, они, по крайней мере частью, парализуют друг друга. Мировою же формою этого антагонизма он признает отношение притяжения в теплоте, причем, однако, он сознается, что притяжение, как действие на расстоянии, для нас совершенно непонятно, а отношение притяжения в теплоте при настоящем состоянии науки погружено еще в полный мрак. Как видно, механическое воззрение на природу не в состоянии объяснить даже простейших явлений. Всеобъемлемость человеческого ума на первых же порах оказывается фикциею.
Антагонизм сил представляет, однако, только низшую форму мировой механики, соответствующую отвергаемой Дюрингом борьбе за существование. Высшую форму составляет соединение сил для совокупного действия. Здесь является вместе с тем и новое начало, существенно видоизменяющее механическое воззрение на природу, именно начало цели. Дюринг восстает против тех, которые изгоняют цель из естествоведения. Это значит произвольно ограничивать свой кругозор и лишать себя одного из важнейших способов познания вещей. В особенности явления органической жизни неотразимо указывают на присущую им цель. Надобно только устранить понятие о предвзятом намерении и видеть в цели не более как заранее определенное стремление. Дюринг не объясняет, каким образом возможно такое предварительное определение силы вовсе еще не существующим результатом многих совокупных движений. Нет сомнения, что принятием этого начала облегчается объяснение многих явлений; но оно противоречит основаниям системы. В мировую механику вносится совершенно чуждый ей элемент, для которого она служит только средством. Между тем Дюринг, по-видимому, даже и не подозревает этого противоречия. Он, с одной стороны, видит во всей органической жизни присущую ей целесообразность, а с другой стороны, стоит на том, что организм не что иное, как сложная форма самостоятельного механического развития. Точно так же он утверждает, с одной стороны, что природа управляется необходимыми и неизменными законами, а с другой стороны, ввиду того, что в природе цели не всегда достигаются, он приписывает ей бесчисленные ошибки, указывая при этом на недоноски, как будто недоноски с точки зрения механических сил не составляют совершенно такого же необходимого явления, как и правильно рожденные существа.
Но высшее свое приложение начало цели находит в области сознания. Дюринг видит в сознании конечную цель всего мирового процесса: природа стремится прийти к самоощущению и выяснить себе свои законы. Здесь, по собственному признанию автора, мы вступаем уже в иной мир, представляющий нс количественное только продолжение предыдущего, а скачок к качественно различным явлениям. Самый факт происхождения субъективного начала остается для нас необъяснимым; наука не может указать тут никакого закона. Тем не менее «в угоду единообразной систематике», как выражается Дюринг, мы необходимо принуждены признать субъективную область явлением тех же механических законов, которые управляют всем миром. В силу той же систематики, все явления сознания должны быть поняты как аналогические друг с другом. Вследствие этого Дюринг зрение сводит на осязание как на основной тип. По его мнению, зрение, так же как осязание, основано на чувстве внешнего сопротивления и представляет только известную форму мировой механики. Если современная оптика не дошла еще до этого убеждения, то это доказывает лишь полную се несостоятельность.
Значение всего этого субъективного процесса Дюринг видит в ''истолковании" природы. Но это истолкование тут же оказывается источником самостоятельной силы. Оно должно не только служить выражением законов природы, но и воздействовать на последнюю, исправляя ее ошибки и придавая ей высшую форму. Посредством сознания природа достигает высших целей. Орудиями в этой новой деятельности служат ей соединенные с самоощущением влечения. Однако Дюринг признает это значение влечений второстепенным; главное же заключается в приносимом ими удовлетворении, которое есть цель сама по себе. С этой точки зрения, они должны служить нам руководителями, указывая на то, что требуется природою. Даже те влечения, которые обыкновенно считаются пороками, как-то: месть, зависть, ревность — полезны в экономии природы. Тем не менее так как природе свойственно ошибаться, то и тут ей случается произвести такие влечения, которые решительно никуда не годятся и идут наперекор ее целям. Таковы кровожадность, честолюбие, алчность. Вследствие этого над этими учителями воздвигается новый учитель, ум, который подвергает влечения разбору, уничтожает негодные и облагороживает остальные. Откуда берутся у человека понятия о благородном и неблагородном, остается неизвестным; в механике, очевидно, они нс заключаются. Дюринг говорит только, что оценка должна быть ''чисто субъективная".
Таким образом, ум, который в общем ходе системы представляется только известным, частным явлением природы и так связан действительностью, что он не может удаляться от нее, не впадая в химеры, в конце процесса является правителем вселенной, исправляющим ошибки природы и продолжающим творческую ее деятельность в более совершенной форме. По выражению Дюринга, он «не преклоняется ни перед чем, а потому и не перед этою природою, которая в своей постепенной системе механических, физических и физиологических установлений образует только пьедестал для нашей собственной, возвышающейся над нею действительности». С помощью свободной фантазии ум создает идеалы, которым ничто не соответствует в действительном мире. К несчастью для человечества, и этот верховный руководитель оказывается столь же, если не более погрешимым, как и все остальные. Все, что до сих пор производил человеческий ум, не что иное, как ряд ошибок. В философии и религии Дюринг видит только пустые бредни, в истории только длинную нить насилий, обманов и заблуждений. Вследствие этого он всемирную историю разделяет на два периода: первый обнимает все прошедшее и до сих пор еще не пришел к концу; второй же должен представлять осуществление идеала в будущем. Конечно, Дюринг не думает исследовать те законы, в силу которых совершился этот ряд ошибок. Философия действительности довольствуется полным отрицанием всей действительности во имя несуществующего идеала, созданного фантазией. А так как вся эта философия не что иное, как одно нескончаемое противоречие, то это свойство неизбежно должно было отразиться и на вымышленном ею идеале, которым достойно завершается все это здание.
В основание идеального устройства человеческого общежития полагается крайний индивидуализм. Атомистика должна служить началом как физической механики, так и субъективного мира. Но в отличие от материальных атомов, которых взаимные отношения определяются качественными их свойствами, в человеческих единицах нс признается никаких различий. Философия действительности видит в людях только отвлеченные, равные друг другу лица. А так как эти лица признаются притом совершенно независимыми друг от друга, то отсюда следует, что никто не имеет права посягать на чужую волю. В этом состоит основание морали, которая вследствие того получает чисто отрицательное значение. Всякое положительное отношение к другому лицу должно быть основано на договоре. Мораль же предписывает и возмездие за нарушение чужой воли. Всякий имеет право не только отмстить другому за сделанное ему зло, но и лишить последнего возможности поступать вперед таким образом. В мести Дюринг видит и основание права, которое таким образом ничем не отличается от морали. Уголовное право составляет, по его мнению, источник всякого права. Но уголовное право зиждется не на общественном начале, не на правах власти, а чисто на личном возмездии. Общество призывается только на помощь, вследствие недостаточности личной силы. Собственно же принадлежащих ей прав общественная власть не имеет. Свободное общество, составляющее идеал человеческого общежития, основано на договоре каждого с каждым. Верховенство принадлежит здесь не обществу, а отдельному лицу, которое остается началом и концом всего политического быта.
Таковы начала, на которых строится будущее общежитие. Но мы делаем шаг, и картина перевертывается. Оказывается, что полноправное лицо, пользующееся безграничною свободою, не может приложить своей свободы решительно ни к чему. Оно не только не вправе посягать на чужую волю, но оно не может коснуться даже и внешней природы, ибо кто налагает руку на вещь, тот мешает другому приложить свою волю к той же вещи, следовательно, нарушает чужое право. Поэтому всякая собственность отвергается как нарушение права. Даже в силу взаимного договора никто не имеет права присвоить себе плоды чужого труда, иначе как отплатив совершенно равным количеством своего. Капитализация имущества составляет еще большее нарушение права, нежели собственность. При таких условиях остается только каждому вступить в сделку с другими на началах полного равенства. Все должны соединить свои силы для совокупного труда, с тем чтобы каждый получал равную с другими долю в наслаждениях. Земля, капитал, орудия производства — все это должно принадлежать не лицу, а обществу, которое внезапно оказывается всеобщим собственником, то есть юридическим лицом, поглощающим в себе физические лица. Даже личные таланты должны наравне с орудиями производства рассматриваться как дар общества, дар, который по этому самому не дает никакого права на особое вознаграждение. Общество всем дает равное воспитание; оно не только искореняет дурные наклонности своих членов, но заботится и о физическом их преуспеянии, прилагая старание, чтобы рождения происходили при благоприятных условиях. К довершению всего Дюринг для осуществления своего свободного общества советует воспользоваться созданною современным государством централизациею. Вместо полновластия лица мы имеем коммунизм, основанный на полнейшем рабстве. И это уродливое сочетание несообразностей выдается за последнее слово науки, за высший идеал человечества! Только крайняя ограниченность взгляда объясняет такую непомерную самоуверенность.
Учение Дюринга не заслуживало бы обстоятельного разбора, если бы оно не было знаменьем времени. Оно составляет такое же явление в философии, как в другой области Парижская коммуна или те печальные жертвы социалистической пропаганды, которые у нас ходят возмущать народ. Вообще реалистический материализм представляет низшую точку зрения, до которой может спуститься человеческий ум. В нем грубейшая логика соединяется с грубейшим пониманием действительности. Обыкновенно он облекается и в самую грубую форму: у Дюринга брань постоянно заменяет отсутствующие доказательства. Когда же с реалистическим материализмом соединяется социализм, который теоретически составляет не более как обветшалую крайность одностороннего идеализма, то можно безошибочно сказать, что тут даже способность мышления исчезла. Но самая глубина падения служит признаком поворота. Реалистический материализм составляет последнюю ступень в развитии той отрасли реализма, которая отправляется от внешнего опыта. Но здесь, как и везде, мысль, дошедши до крайности, приходит к самоотрицанию. Оказывается, что из чистого опыта невозможно выработать никакого общего взгляда. В этом отношении учение Дюринга составляет перелом. Несмотря на все безобразие мысли, оно все-таки обращается к умозрению, ибо без этого нельзя построить цельной системы.
Одно умозрение дает нам вместе с тем возможность связать обе противоположные отрасли реализма. Мы видели, что ни внешний опыт не может быть сведен к внутреннему, ни внутренний к внешнему. Стоя на почве исключительного опыта, мы необходимо должны признать два разряда явлений, между которыми мы не в состоянии видеть ничего общего, ибо внешнее движение не есть форма сознания, а сознание не есть форма движения. Связующее начало можно найти единственно в чистой мысли, которая, восходя к верховным началам мироздания, видит в явлениях внешнего и внутреннего опыта две противоположные и необходимо восполняющие друг друга формы мирового бытия. Самое развитие реализма приводит нас, следовательно, к умозрению. В этом убеждении сходятся и спиритуалисты, как Лотце, Фехнер, Гартман, и чистые материалисты, как Дюринг. Но умозрение, к которому взывает реализм, не похоже уже на прежний рационализм. В силу реалистических требований оно должно объяснить весь мир явлений, а для этого надобно идти уже не субъективным, а объективным путем. Этот путь, как мы видели, проложен внешним опытом. В этом состоит существенная заслуга этого направления. Внутренний опыт ограничивается пределами отдельного лица; между тем для объяснения самых душевных явлений необходимо выйти на более широкое поприще, возвыситься к пониманию общественных и исторических явлений, от которых зависит жизнь единичного существа. Исследование же этих явлений принадлежит не внутреннему, а внешнему опыту. Со своей сторопы, внешний опыт, как скоро он выступает на более широкий путь, не может уже ограничиться одним опытным знанием. Исходя от частного, невозможно построить общее. Чтобы понять явления природы и духа, необходимо к частным элементам, составляющим точку отправления чистого опыта, присоединить связующее, или отвлеченно-общее начало, которое дается умозрением. В особенности явления человеческой жизни, без понимания присущих им умозрительных начал, остаются совершенно необъяснимыми. Волею или неволею приходится, следовательно, обратиться к отвергнутой метафизике. В этом сочетании умозрения с опытом, рационализма с реализмом заключается задача универсализма.
Итак, самые факты приводят нас к убеждению, что цикл определений материалистического реализма, так же как и спиритуалистического, завершился. Из четырех путей, которыми движется человеческая мысль, в новой философии пройдены три: рационализм шел субъективным путем, от субстанции к идее, спиритуалистический реализм обратно, от идеи к субстанции, наконец материалистический реализм, пролагая новую дорогу, идет от формы к материи, или от закона к явлению. Остается, следовательно, четвертый путь, от материи к форме, или от явления к закону, но уже не на почве реализма, а на почве универсализма. Он составляет восполнение объективного движения мысли, а вместе с тем и завершение всего процесса.
Из предыдущего мы знаем уже как методу, так и основные начала универсализма. Метода состоит в указанном выше сочетании умозрения с опытом. Первое дает нам логическую связь понятий, или способы понимания явлений; второй, на основании точного исследования фактов, показывает нам, который из этих способов понимания приложим к той или другой области явлений. Основные же начала универсализма суть те самые, которые проходят через все развитие человечества. Но, становясь на объективную почву, универсализм должен видеть в этих определениях не преходящие только моменты логического развития, а реальные начала, действующие в мире и вечно присущие человеческому сознанию. В материальной области, так же как и в духовной, сила, закон, материя и цель составляют основные определения бытия. В человеческом же духе эти определения управляют всем историческим движением мысли и жизни.
Опираясь на изложенное нами развитие философии, мы можем с уверенностью сказать: реализм покончил свой век; он принадлежит уже к области прошлого. Отныне настает период универсализма.
- [1] См. 2-ю часть моей ''Истории политических учений".
- [2] См. подробный разбор этого сочинения в 3-й части ''Историиполитических учений".
- [3] См. подробный разбор этого сочинения в 3-й части ''Историиполитических учений".
- [4] В изложении идеалистических систем мы не коснулись ни позднейшей шотландской школы, ни французских философов XIX столетия. И те и другие стоят в стороне от общего развития философской мыслии играют в нем совершенно второстепенную роль.
- [5] См. La Philosophic Positive. Revue, 1874. № 4, p. 35.