Логика.
Наука и религия
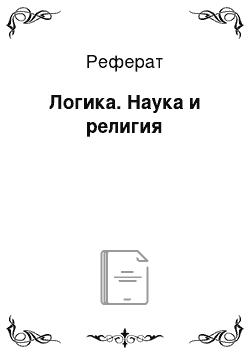
Вместе со Спенсером Милль выводит и закон исключения третьего из обобщения наблюдений над уничтожающими друг друга умственными состояниями. Но он прибавляет к этому, что означенный закон не имеет общего приложения, ибо между двумя противоречащими положениями может быть нечто среднее, именно, положение ничего не значащее, о котором нельзя сказать ни что оно истинно, ни что оно ложно, например… Читать ещё >
Логика. Наука и религия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Те, которые производят все человеческое познание из опыта, стараются и логику превратить в опытную науку. Очевидно, однако, что опытом не приобретается то, что составляет основание всякого опыта, без чего мы не можем сделать не только никакого вывода, но и никакого наблюдения. Если бы разум был только пустою коробкою, в которой сталкиваются внешние друг для друга силы, то законы познания определялись бы исключительно отношениями этих сил; но в таком случае не было бы познающего субъекта, следовательно, не было бы и познания, а были бы только объективные отношения сталкивающихся элементов. Но познание, несомненно, есть известного рода деятельность. Внешние предметы не сами собою приходят в столкновение в нашем уме; они предварительно превращаются в представления, что составляет уже известную деятельность разума. Затем, для познания предмета требуется разделение признаков, соединение сходного, определение существенного и случайного, сравнение, вывод. Представление должно быть превращено в понятие; надобно произнести суждение, сделать умозаключение. Вся эта формальная сторона операции, независимо от содержания, определяется логическими законами, которые составляют коренную принадлежность разума, а не приобретаются им извне. Всякая сила, следовательно и разум, действует по законам своей природы. Пока разум действует безотчетно, как в детях, он бессознательно руководится присущими ему законами. Но истинная природа разума состоит в сознательной деятельности; сознательная же деятельность предполагает сознание тех законов, которыми она руководится. Когда мы, например, делаем какой бы то ни было вывод, сознание логического закона, в силу которого он делается, непременно должно предшествовать, ибо оно именно составляет основание вывода. Невозможно, следовательно, утверждать, что познание логических законов получается единственно из наблюдений над действиями разума. Прежде, нежели разум себя наблюдает, он уже действует, руководствуясь этими законами.
Защитники чистого опыта уверяют, однако, вслед за Локком, что логические выводы делаются вовсе не на основании общих логических законов, а в силу непосредственного усмотрения; общие же законы, по их мнению, служат только формулою, которою обозначается то, что делается во всех частных случаях. Так, например, когда мы заключаем, что, А В равно CD, потому что оба равны EF, то с этим согласится всякий, кто даже никогда не слыхал об общем положении, что две величины, равные третьей, равны между собою[1]. Но почему же с этим согласится всякий? Именно потому, что, каковы бы ни были величины, будь они АВ и CD или ОР и QR, то же самое рассуждение приложимо ко всем; то есть потому, что это — общий закон, независимый от свойства сравниваемых величин. Это сознание и лежит в основании вывода, хотя бы оно и не было формулировано ясным образом. Человек мог никогда не слыхать про подобный закон, но в означенном суждении он руководствуется им и ничем другим, ибо иного основания нет. Следовательно, этот закон всегда был присущ его разуму. Приведенный пример доказывает совершенно противное тому, что хотят доказать защитники опыта. Ошибка их состоит в том, что они останавливаются на поверхности явления, не объясняя причины; истинную же причину они принимают за последствие потому только, что она в отвлеченной форме обнаруживается позднее. Но это позднейшее сознание отвлеченных законов объясняется самым свойством сознательной деятельности. Прежде, нежели разум обращается на себя, он действует; всякое же логическое действие, обращенное на познание внешнего предмета, составляется из двух элементов: субъективного и объективного, из того, что дается разумом, и из того, что дается предметом. В первоначальном представлении оба эти элемента находятся в состоянии слитности, вследствие чего логические законы первоначально являются непременно в конкретной форме. Разнятие этих элементов составляет последующую логическую операцию, которая дает нам логический закон уже в чистой его форме; но сознание этого закона заключалось уже в первоначальном выводе и составляло его основание. Представляя его в отвлеченной форме, мы выделяем только то, что мы сами внесли в предшествующий вывод. Поэтому общий закон ясен для нас сам по себе. В противоположность тому, что мы узнаем из опыта, убедительная сила общего положения основана вовсе не на тех частных случаях, из которых оно извлечено. Напротив, мы сознаем, что все частные выводы основаны единственно на общем законе, так что если мы отвергнем последний, то мы должны будем отвергнуть и первые. Приведенный выше пример объясняет это наглядно. Достоверность положения, что две величины, равные третьей, равны между собою, основана отнюдь не на том, что это так в исследованных нами случаях. Если бы, для того чтобы сделать этот вывод, мы должны были перебрать все возможные случаи, мы никогда не дошли бы до безусловно-общего положения, ибо случаев может быть бесчисленное множество и перебрать их нет возможности. Но закон этот ясен сам по себе, даже без всякого опыта. Если, А В и CD равны EF, нам вовсе не нужно исследовать и сравнивать эти величины, для того чтобы убедиться, что они равны между собою. Мы знаем, что иначе быть не может, и знаем это не на основании опыта, а в силу логического закона, имеющего безусловное значение для всего, что познается человеческим умом.
Приведенный пример составляет приложение закона тождества. То же самое относится и к закону противоречия. Что положение и отрицание одного и того же в одном и том же отношении не могут оба вместе быть истинны, это логический закон, ясный сам по себе и не нуждающийся ни в каком другом подтверждении. Но исключительные защитники опытной методы и этот закон хотят вывести из опыта. Милль утверждает, что основание его заключается в том, что уверенность и неуверенность (Belief and Disbelief) составляют два разных умственных состояния, исключающих одно другое, — факт, известный нам из самых простых наблюдений. С другой стороны, и во внешнем мире мы видим, что всякое положительное явление и его отрицание, как, например, свет и тьма, звук и молчание, движение и покой, исключают друг друга. Обобщая все эти факты, мы и выводим означенное правило[2]. Очевидно, однако, что понятие об отрицании мы получаем не из внешних впечатлений, которые все положительного свойства. Отрицание есть чисто умственная категория, которая прилагается к впечатлениям только при сравнении их одно с другим. Но для закона противоречия не нужно даже никакого сравнения. Этот закон гласит только, что, когда мы об известном предмете говорим, что он есть, мы не можем сказать в то же время, что его нет; то есть к одному и тому же предмету не могут быть приложены две исключающие друг друга логические категории. Все, следовательно, сводится к различию умственных состояний. Почему же эти состояния исключают друг друга? Единственно потому, что этого требует логика. Мы имеем здесь дело не с фактом, который мы наблюдаем, а с логическим требованием, совершенно для нас очевидным без всякого наблюдения. Что есть и нет составляют два исключающих друг друга логических определения, которые, по этому самому, не могут быть приложены к одному и тому же предмету, это — формальный закон, независимый от содержания понятий, следовательно, от какого бы то ни было опыта. Искать другого основания — значит отрицать всякую логику и заменять простой и ясный смысл чистою бессмыслицею. В эту нелепость и впадают исключительные приверженцы опытного знания.
Вместе со Спенсером Милль выводит и закон исключения третьего из обобщения наблюдений над уничтожающими друг друга умственными состояниями. Но он прибавляет к этому, что означенный закон не имеет общего приложения, ибо между двумя противоречащими положениями может быть нечто среднее, именно, положение ничего не значащее, о котором нельзя сказать ни что оно истинно, ни что оно ложно, например: ''абракадабра есть второе намерение". Точно так же, по мнению Милля, этот закон неприложим и к предметам несуществующим. Так, положение, что материя делима либо до бесконечности, либо до известного предела, окажется неверным, если материя не существует или если она вовсе не делима[3]. Против этого можно сказать, что бессмысленное положение отнюдь не составляет нечто среднее между истиною и ложью; оно просто выходит из области логики, вследствие чего законы логики к нему не приложимы. Что же касается до наших представлений о несуществующих предметах, то ничто не мешает прилагать к ним закон исключения третьего. Материя в том виде, как мы ее себе представляем, может вовсе не существовать, но так как этим именем обозначается нечто протяженное, а все протяженное делимо, то мы непременно должны представлять ее себе делимою либо до известных пределов, либо до бесконечности. Для того чтобы определить большую или меньшую приложимость закона исключения третьего, надобно было исследовать различие между понятиями прямо противоречащими и просто противоположными, из которых первые исключают третье, а вторые допускают его или в виде нейтральной середины, или в виде высшего сочетания обоих. Но все эти исследования, от которых Милль себя избавляет, принадлежат опять к чистой логике. Сознание этих законов мы получаем не обобщением опыта, а, напротив, отвлечением от всякого опыта, то есть непосредственным самосознанием разума или умозрением. Выражение умственные состояния, которым Милль и Спенсер хотят заменить выражение логические определения, есть только замена более точного термина менее точным. С помощью неопределенных понятий бросается ложный оттенок на предмет и устраняется настойчиво навязывающийся вывод.
Наконец, и закон достаточного основания не дается нам опытом, а предшествует опыту. Этот закон имеет двоякое значение: он относится или к знанию, или к внешним явлениям. Что всякое положение, которое мы признаем за истину, должно иметь достаточное основание, это, конечно, мы узнаём не из наблюдения над нашими умственными состояниямрт; наблюдение показывает нам, напротив, существование множества неосновательных мнений, с которыми люди живут весьма благополучно. В приложении к знанию закон достаточного основания опять не что иное, как логическое требование, которое служит для нас мерилом всякой истины. Оно одинаково относится и к опытному знанию, и к предметам, выходящим из предела всякого опыта. Мы требуем, чтобы выводы философов и богословов относительно Божества имели достаточное основание. Опираясь на этот закон, позитивисты отвергают всякую возможность познавать абсолютное, и, опираясь на тот же закон, защитники метафизики доказывают односторонность позитивизма. Одним словом, тут требование общее, исходящее из самого понятия о науке и о человеческом мышлении, к чему бы оно ни прилагалось. Что же касается до приложения этого закона к внешним явлениям, то он формулируется общим положением, что всякое явление имеет свою причину. Здесь мы встречаемся с понятием о причине, и перед нами возникает вопрос: получается ли это понятие из умозрения или из опыта?
Под именем причины обыкновенно разумеется то, что производит явление. Но, как уже заметил Юм, опыт ничего не говорит нам о произведении явлений; он дает нам только их последовательность. Поэтому приверженцы чистого опыта отказываются от исследования производящих причин, как не подлежащих человеческому знанию; они ограничиваются исследованием причин физических, под которыми они разумеют постоянную последовательность явлений. Причиною, говорит Милль, называется явление, которое всегда предшествует другому[4]. Здесь, однако, оказывается затруднение иного рода. Принявши это определение, мы должны будем сказать, как было уже замечено Ридом, что ночь — причина дня, а день — причина ночи, ибо одно явление постоянно предшествует другому. Чтобы избегнуть этого вывода, Милль к определению причины прибавляет, что антецедент должен быть безусловный (unconditional), то есть требуется, чтобы последовательность имела место при всех возможных обстоятельствах, по крайней мере, пока существует настоящее устроение вещей. Этого нельзя сказать о последовательности дня и ночи, ибо, говорит Милль, если бы солнце перестало вставать, предположение, которое, насколько мы знаем, совершенно совместно с общими законами материи, то была бы ночь без последующего дня[5].
Итак, признавши предварительно, что мы можем познавать только относительное и условное, мы во избежание нелепости принуждены прибегнуть к понятию о безусловном. Но что такое безусловная причина? Милль настаивает на том, что между причиною и условием нет никакой разницы. В философском смысле, говорит он, причина не что иное, как сумма всех условий или антецедентов, положительных и отрицательных вместе[6]. Следовательно, вводя сюда понятие о безусловном, мы должны сказать, что причина есть безусловная сумма всех условий. Достаточно указать на эту нелепость, чтобы обнаружить всю несостоятельность определения Милля. Сумма всех условий всегда безусловна, ибо если бы были еще условия, то она не была бы суммою всех. Но если мы будем причислять сюда и отрицательные условия, которых может быть бесконечное множество, то мы до причины, как безусловной суммы, никогда не дойдем. Поэтому Милль считает более удобным (!) ограничить понятие о причине одними положительными условиями, что не мешает ему признать солнце причиною дня, ''если только свет его не погас и нет непрозрачного тела между ним и землею"[7]. Как видно, не всегда удобно ограничиваться одними положительными условиями при определении причины. Оказывается, сверх того, что вращение земли около своей оси «не принадлежит к настоящему устроению вещей», ибо оно может прекратиться в силу естественных законов, а потому оно не может быть признано причиною дня[8]; но свет солнца почему-то признается чем-то безусловным, хотя Милль тут же допускает, что оно может погаснуть. Последовательно прилагая определение Милля, следует сказать, что и солнце не есть причина дня, ибо свет его, в силу естественных законов, может прекратиться. Да и почему мы знаем, какая будет последовательность явлений, когда солнце потухнет, а земля перестанет вертеться? Опыт не дает нам на этот счет никаких указаний. Очевидно, мы можем предположить, что дня не будет, если солнце потухнет, единственно на том основании, что мы солнце признаем причиною дня. Но тогда вся эта аргументация вращается в логическом круге: с одной стороны, утверждается, что солнце должно считаться причиною дня, потому что если бы оно потухло, то не было бы дня, с другой стороны, предполагается, что день перестал бы существовать, если бы солнце потухло, потому что солнце есть причина дня. Наконец, определивши причину, как безусловный антецедент, который должен иметь место при всех возможных обстоятельствах, пока существует настоящее устроение вещей; Милль признает, однако, что на других небесных пространствах закон причинности, может быть, и не существует[9], как будто другие небесные пространства не принадлежат к настоящему устроению вещей.
Мы видим, что Милль запутывается в безвыходный лабиринт вследствие старания дать понятию о причине неподобающее ему значение. Сам он постоянно отступает от собственных своих определений. Так, устранивши понятие о производящих причинах, он, несмотря на то, на стр. 384 говорит о круговращении земли: ''Это причина, которая с самых ранних времен производила последовательность дня и ночи". Или на стр. 493: «В явлениях природы нет ничего, что бы прекратилось, не породивши исчислимое и всегда одно и то же количество другого естественного явления». Точно так же, сказавши, что причиною следует называть только безусловный антецедент, он в первом приведенном примере признает, однако, круговращение земли причиною, произведшею последовательность дня и ночи, прилив и отлив моря " с помощью других необходимых условий" . Наконец, на стр. 387 он прямо признает понятие о причине тождественным с понятием о естественном деятеле, а понятие о следствиях — с понятием о различных свойствах этого деятеля, совершенно забывая, что причина, по его определению, нс что иное, как сумма условий или предшествующих явлений. Таким образом, различие между производящею причиною и физическою оказывается фиктивным. Устраненные понятия подтасовываются незаметно для читателя, а может быть, и для самого автора, вследствие того, что принятую терминологию невозможно сохранить, не впадая в противоречия и несообразности. Держась понятия о постоянном антецеденте, мы неизбежно должны признать, что ночь — причина дня, а день — причина ночи; если же мы захотим устранить это последствие, мы принуждены будем сказать, что антецедент и причина — два разных понятия, а так как опыт не дает нам ничего, кроме антецедентов, то окажется, что понятие о причине не получается из опыта.
Видя невозможность вывести закон причинности из внешнего опыта, некоторые пытаются вывести его из внутреннего опыта, именно из сознания своей воли и ее влияния на тело. В действиях воли понятие о цели, составляющей результат действия, предшествует самому действию, а потому является как производящая причина последнего. В доказательство, что именно отсюда мы переносим понятие о причине на внешние предметы, ссылаются на то, что в первобытные времена человечества все внешние предметы олицетворяются. Человек представляет себе всякое движение не иначе как последствием воли. Только мало-помалу, с познанием законов природы, олицетворения уничтожаются, и остается один закон внешней причинности.
Этой теории, идущей с давних времен с различными видоизменениями, держится, между прочим, и Вундт в своих ''Основаниях физиологической психологии"[10]. Но уже Юм заметил, и это подтверждается Миллем[11], что сознание отношения воли к действию опять же не дает нам ничего, кроме последовательности явлений. Мы не видим и даже не в состоянии понять связи между хотением и внешним движением. Тут есть посредствующие звенья, ускользающие от нашего взора. Пораженный параличом в первую минуту воображает, что он может двигать рукою, и только опыт удостоверяет его, что он не в силах это сделать. Во всяком случае, если бы мы могли получить отсюда понятие о причинности, мы не могли бы перенести это понятие на предметы, лишенные хотения. Если первоначальные олицетворения исчезают, а закон причинности остается, значит, понятие об этом законе получается иным путем. Иначе это был бы совершенно недозволенный паралогизм: основание устраняется и берется одно последствие. Мало того, из всех известных нам предметов мы из общего закона причинности изъемлем только один, именно волю, которой, по непосредственному сознанию, мы приписываем свободу. Те, которые отвергают свободу воли, доказывают это тем, что воля так же, как и все другие естественные предметы, должна подчиняться общему закону причинности. Но если мы понятие о причинности заимствуем из воли, а затем самую волю подчиняем причинности на том основании, что это закон всеобщий, то мы опять же впадаем в совершенно непозволительный логический круг. И тут ясно, что мы это понятие получаем из другого источника и затем уже распространяем на волю. Но если оно не дастся нам ни внешним, ни внутренним опытом, то остается признать, что это — чисто логический закон, который проистекает из умозрения.
Достаточно небольшого размышления, чтобы подтвердить этот вывод. Закон причинности гласит: нет явления без причины. Ясно, что никакой опыт нс может дать нам такого безусловно общего закона. Человеческий опыт ограничивается весьма небольшим кругом явлений, и в этом тесном круге он только в ничтожном количестве случаев способен указать их причины. Затем остается бесконечный мир явлений, которых причины нам неизвестны. Каким же образом можем мы утверждать, что все эти явления непременно должны иметь свои причины? Из того, что в исследованной нами области некоторые явления имеют свои причины, вовсе не следует, что тот же закон распространяется на все остальное. Если причина нам неизвестна, мы, очевидно, не можем сказать, есть ли она или нет. Опыт никогда не может удостоверить нас, что ее нет, ибо мы всегда вправе предполагать, что она есть, хотя и остается от нас скрытою. Но столь же мало он может удостоверить нас, что она непременно есть. Из того, что мы открываем некоторые причины явлений, которых мы прежде не знали, опять же ничего не следует относительно остального. Существует множество явлений, которых причины остаются нам неизвестны нс только потому, что они еще не исследованы, но и потому, что они недоступны исследованию. Мы убеждены, что в этом отношении самые тщательные изыскания ничего нам не откроют. Почему, например, кислород, соединяясь с водородом в известной пропорции, образует воду? Или почему известное вещество имеет более сродства с другим, нежели с третьим? На эти вопросы нет другого ответа, как-то, что таковы свойства этих веществ. Но что такое этот ответ, как не повторение вопроса в другой форме? Прибавляют обыкновенно, что это — свойства первоначальные, а потому не подлежащие исследованию*. Но что такое первоначальное свойство, как не явление без причины? Свойство вещи не что иное, как известное явление**; следовательно, первоначальное свойство есть явление, не имеющее антецедента, то есть причины. Таким образом, волею или неволею мы приходим к признанию явлений без причины, и это вполне допускается защитниками опыта. «Те же соображения, — говорит Милль, — заставляют нас признать, что должен быть один разряд совместных существований, которые не могут подчиняться закону причинности, именно, совместное существование первоначальных свойств вещей, тех свойств, которые составляют причины всех явлений, но сами не причинены никакими явлениями»[12][13]. Между тем опыт не дает нам ни малейшего понятия о чем бы го ни было первоначальном: вес опытные явления — производные. Следовательно, когда мы говорим о первоначальных свойствах вещей, мы выходим из пределов всякого опыта. Это не что иное, как способ сочетать логический закон причинности с указанным опытом фактом, что есть явления, для которых мы не в состоянии не только изыскать, но и придумать причины. Но как возможно после этого утверждать, что самый этот логический закон происходит из опыта?
Точно так же, в другой области, непосредственное чувство, утверждающее свободу воли, приводит нас к мысли, что тут закон причинности не прилагается. Никакой опыт не может убедить нас в противном. Те, которые отвергают свободу воли, ссылаются на то, что причины действия остаются для нас скрытыми; но именно поэтому они не могут их указать. Почему же они знают, что они есть? Если нам кажется, что мы свободны, в силу чего можно нас уверить, что мы подчиняемся необходимости? Сослаться на другие явления недостаточно, ибо воля есть явление своего рода, которое может иметь и свои особенные законы. Надобно доказать, что законы, управляющие другими явлениями, распространяются и на нее. Сказать же, что это — закон всеобщий, с точки зрения опыта невозможно, ибо всеобщим законом мы можем назвать единственно тот, который распространяется на вес явления без исключения, а тут надобно еще доказать, что он распространяется и на волю.
Таким образом, куда бы мы ни обратились, мы неизбежно придем к заключению, что из опыта такого безусловно общего закона вывести невозможно. Напротив, умозрение вполне объясняет нам и его свойства, и его происхождение. Закон причинности, так же как законы тождества и противоречия, не что иное, как известный способ действия разума, познающего предметы. Поэтому он предшествует познанию, а не извлекается из него; он составляет прирожденное свойство разума, а не приобретенное. Поэтому он распространяется на все явления без исключения, не только на те, которые познаются, но и на те, которые могут и даже которые не могут быть предметом познания. Посредством закона причинности разум связывает сопоставленные в пространстве и времени явления, так же как посредством законов тождества и противоречия он определяет их сходство и различия. Не только человек, но и животные бессознательно руководствуются этим законом, когда они ищут внешних причин своих впечатлений. Шопенгауэр видел в этом даже единственное основание закона причинности. Но представление внешних предметов, производящих на нас известное действие, составляет только частное приложение более общего закона, который, как и все законы разума, сперва является в конкретной форме, впоследствии же, когда человек приходит к самосознанию, непосредственно сознается в своей чистоте как общее, руководящее начало познания или как чистая форма разумной деятельности. Тогда разум формулирует его в виде безусловно-общего правила и подводит под него все встречающиеся ему явления, останавливаясь только там, где он приходит к абсолютному началу, которое имеет источник в самом себе, а не в другом. Весь спор о свободе воли вращается около вопроса: есть ли воля абсолютное начало или относительное, а потому подчиняется ли она закону причинности или нет? К этому мы еще возвратимся впоследствии.
Из всего этого ясно, что не только формальная логика делает свои выводы не из опыта, а из умозрения, но и самая индуктивная логика, исследующая пути опытного познания, не может обойтись без умозрительных начал, ибо она не может обойтись без логических законов, которые служат ей руководством. Именно умозрительный характер закона причинности побудил некоторых позитивистов вовсе выкинуть исследование причин из области человеческого знания. В противоположность Миллю, который считает закон причинности главным столбом опытной науки[14], Конт утверждает, что мы познаем не причины, а только законы, то есть постоянную последовательность явлений. С одной стороны, нельзя не признать такую замену совершенно правильною с точки зрения позитивизма. Если мы из определения причины устраним понятие о том, что она производит явления, и оставим только постоянное сочетание предыдущего и последующего, го самое понятие о причине исчезнет. Тогда остается только понятие о причине заменить понятием о законе. Но, с другой стороны, этою заменою мы ничего не выиграем, ибо новое начало точно так же умозрительно, как и прежнее. Понятие о законе основано на понятии о необходимости, а последнее мы опять-таки не можем получить из опыта. Опыт даст нам только то, что есть, а не то, что не может не быть. Это ясно уже из того, что необходимость есть понятие безусловное, а безусловное, по собственному признанию позитивистов, не познается опытом. Явления же все относительны; каждое из них может быть и не быть. Из того, что известное явление доселе постоянно представлялось нашему взору, отнюдь не следует, что оно непременно должно представиться нам и завтра. То же самое относится и к последовательности явлений. Из того, что явления до сих пор имели известную последовательность, вовсе не следует, что не может быть другого порядка. Чистый опыт не дает нам ни малейшего права делать подобное заключение. Только там, где мы логически, то есть безусловным законом, можем связать причину со следствием или известное свойство с другим, мы скажем, что иначе быть не может. Тут только мы видим настоящий закон, заключающий в себе необходимость. Постоянно же повторяющаяся последовательность явлений служит нам лишь указанием на закон. Поэтому сами позитивисты признают законы, известные нам единственно из опыта, без указания разумной причины, не более как эмпирическими законами, которые не могут иметь притязания на безусловную истину, но имеют значение только в пределах места, времени и обстоятельств, среди которых произведено наблюдение[15]. Если бы мы не имели умозрительного понятия о законе как необходимой связи явлений, мы бы даже вовсе не называли эмпирическую последовательность законом; но, имея понятие о необходимости, мы признаем, что эта необходимость должна выражаться в постоянстве явлений, а потому, как скоро мы в явлениях замечаем постоянство, мы видим в этом указание на закон.
Только в силу этого умозрительного понятия мы можем быть убеждены, что вся природа управляется неизменными законами, положение, которое, опять же по признанию позитивистов, составляет основное начало или верховную посылку всякого опыта[16]. Утверждать, как делает Милль, что этот всеобщий факт служит нам главным ручательством за все наши выводы из опыта, а между тем, что он сам выводится из опыта, это — такой логический круг, который могут позволять себе только исключительные защитники опытной методы. Такой всеобщий вывод из опыта уже потому невозможен, что ход природы, по собственному признанию Милля, представляет нам не только однообразие, но рядом с этим и бесконечное разнообразие[17]. Тут нельзя ссылаться и на то, что научные исследования открывают законы там, где простому наблюдателю представляется только хаос случайных явлений. Понятие о том, что вся природа управляется неизменными законами, существовало гораздо ранее всяких научных исследований. Опытные науки приобрели твердую почву только в новое время, а между тем это воззрение в. самой безусловной форме встречается уже у древнейших философов. Ясное доказательство, что оно добыто умозрением, а не опытом. Утверждать противное — значит идти вразрез не только с логикою, но и с фактами. Следовательно, когда естествоиспытатели полагают этот взгляд в основание всех своих исследований, они, сами того не подозревая, руководствуются отвергаемым ими умозрением.
Так же, как без понятий о причине и о законе, индуктивная логика не может обойтись и без понятия о цели, которое одно в состоянии объяснить многие явления природы. Понятие о внешней цели мы получаем из собственной нашей практической деятельности: мы сами полагаем себе цели, которые исполняем на деле. Но философия выработала и другое понятие о цели, именно о цели внутренней, бессознательно присущей вещам и управляющей их развитием. Эту внутреннюю цель она назвала идеею. Это начало приложимо не ко всем явлениям. Механические и химические явления в нем не нуждаются. Тут все объясняется производящими причинами. Но явления органической и животной жизни прямо указывают на цель. В прежние времена к ним прилагалось начало внешней целесообразности. Но в науке это начало не могло найти настоящего места, ибо устрояющий извне божественный разум остается скрытым от человеческих взоров. Вследствие этого начало внешней целесообразности допускало самые произвольные толкования. Уже Бэкон предостерегал от него ученых и требовал, чтобы исследования ограничивались производящими причинами. Но когда философиею было развито понятие о внутренней целесообразности, оно неожиданно пролило яркий свет на явления органической и животной жизни. Величайшие физиологи прошедшего поколения, как Иоанн Мюллер, признавали идею руководящим началом органического развития. В наше время господство реализма устранило и это понятие. Новейшие естествоиспытатели, отвергая всякое умозрение, обратились снова к одним производящим причинам, не подозревая, что и тут они имеют дело с умозрительным началом и своего рода философскою системою. Вместо ссылки на неопределенную жизненную силу или на идею, руководящую явлениями, стали исследовать механические и химические причины, лежащие в основании физиологических процессов. Нет сомнения, что такое направление было в некоторых отношениях благотворно, ибо многое объясняется этим способом. Но нет сомнения также, что отсюда рождается крайняя односторонность взгляда. Все подводить под механические и химические причины невозможно без очевидной натяжки. Это ведет к совершенной путанице понятий. В этом легко убедиться при изучении новейших теорий естествознания. Так, например, один из корифеев современного направления, Геккель, который всего более ратует против всяких телеологических объяснений, утверждает как несомненную истину, что все явления органической и животной жизни объясняются исключительно производящими, то есть механическими и химическими причинами. Между тем главными началами, определяющими все развитие органического мира, он признает приспособление и наследственность[18], то есть две причины, которые совершенно выходят из разряда механических и химических явлений и которые очевидно заключают в себе понятие о цели. Приспособление не что иное, как применение средства к цели. Когда, например, устройство глаза объясняется приспособлением организма к свету, то это означает, что организм, применяясь к законам света, сам себе строит орудие, посредством которого он может достигнуть своей цели — зрения; зрение же, в свою очередь, служит ему средством для иных жизненных целей. Свет не производит глаза; организм же производит глаз, сообразуясь с чуждым ему элементом, которым он пользуется как средством. Точно так же и наследственность не что иное, как передача известного типа, который в действительности не существует в зародыше, но становится для него целью развития. Иногда передача типических особенностей совершается чрез промежуток нескольких поколений, из чего ясно, что мы имеем тут дело не с механическою цепью причин и следствий, которая прекращается, как скоро прервано хотя единое звено, а с совершенно иным началом. Самое развитие организма происходит не по механическим законам. Никакая машина не проходит чрез периоды возрастания и упадка, становясь более совершенною в то время как устройство ее менее совершенно, и начиная изнашиваться именно тогда, когда устройство ее достигло возможного совершенства. Вообще, там, где действуют одни производящие причины, конец определяется началом, ибо он составляет только следствие действующих в начале причин; развитие же, напротив, определяется не исходною точкою, которая еще ничего в себе не содержит, а концом, заключающим в себе полноту жизни, к которой стремится органическое существо. Одними производящими причинами никто никогда развития объяснить не мог, ибо большее не объясняется меньшим. Все такого рода попытки заключают в себе не более как пустые фразы, среди которых невозможно отыскать сколько-нибудь ясные представления. Источник этих натяжек лежит в той путанице понятий, которая неизбежно рождается при недостатке философского понимания.
В стремлении все свести к механическим причинам естествоиспытатели приходят единственно к тому, что они внутреннюю целесообразность заменяют внешнею. Так, например, Вундт говорит: ''Всякая машина способна производить целесообразные движения и может, в случае нужды, посредством устройства регуляторов, быть приспособлена к изменчивым условиям ее деятельности"[19]. Но если машина действует целесообразно, то эта цель была вложена в нее устроившим ее разумом; она не сама себе ставит цели. Поэтому как скоро мы организм объясняем машиною, производящею целесообразные действия, так мы неизбежно должны признать внешнего строителя этой машины. Это и делает Логце, который значительно содействовал утверждению механического взгляда на организм. По его теории, эта машина устроена Богом, но так, что она может идти сама собою. Каким образом, однако, устроенная раз машина может сама приспособляться к разнообразнейшим условиям, притом так, что если один способ оказывается неприменимым, то избирается другой, этого до сих пор никто не объяснил. Ссылаться, как делает Вундт, на целую систему совершеннейших регуляторов, о которых мы не имеем ни малейшего понятия, значит выходить из пределов точной науки и вдаваться в область чистой фантазии. Никто не может указать машины, которая бы сама заменяла один способ действия другим, подобно обезглавленной лягушке, которая старается ногою потереть намазанное кислотою место, и если это не удается сделать одною ногою, то прибегает к другой. При механическом воззрении необходимо допустить, что разум, устроивший машину, постоянно сам вмешивается в ее действия и направляет ее движения. От предоставленной гармонии Лейбница приходится возвратиться к теории картезианцев. Тут, по крайней мере, есть какая-нибудь логика. Но что сказать о тех, которые, признавая в организме целесообразно действующую машину, совершенно устраняют понятие о разуме, не только управляющем, но и устрояющем? Какой тут остается смысл?
Итак, если индуктивная логика хочет вывести законы явлений, она не может обойтись без чисто логических, то есть умозрительных определений, которые служат связью всего человеческого познания. Без этого опыт превращается в случайное сопоставление явлений в том или другом уме. К этому и приходят последовательные защитники чистого опыта. Милль прямо отвергает теорию Спенсера, который высшим мерилом истины считает то, что противоположное немыслимо. ''Что для людей мыслимо или немыслимо, — говорит Милль, — это большею частью дело случая и вполне зависит от их опыта и от их умственных привычек"[20]. Очевидно, что мы приходим тут к полному отрицанию логики. По собственному выражению Милля, ''тут нет никакого общего закона, кроме того закона, что мысли каждого лица управляются и ограничиваются личным его опытом и умственными привычками"[21]. С устранением умозрительных начал в индуктивной логике не остается ничего, кроме законов случайного сочетания представлений. Но, по верному замечанию Вундта, законы сочетания представлений, без высшего руководящего начала, всего яснее раскрываются в видениях сна или в бреду сумасшедшего{{*?[20] Physiol. Psychol., S. 792.}}. Если с помощью умозрения индуктивная логика служит самым надежным руководителем опытного знания, то при отрицании умозрения она превращается в совершенную бессмыслицу.
Еще более необходимость чисто логических начал обнаруживается в дедукции, или выводе, которая, так же как индукция, или наведение, составляет необходимую принадлежность опытного знания. И тут Милль хочет заменить логику опытом. Он отвергает силлогизм как неспособный дать нам какое бы то ни было познание вещей. По его мнению, заключение, составляющее приложение общего правила к частному случаю, содержится уже в большей посылке, а эта посылка сама получается из наблюдения частных случаев. Следовательно, во всяком силлогизме есть логический круг. В действительности, говорит Милль, заключение делается от частного к частному, а не от общего к частному. Так, например, в силлогизме: все люди смертны; Сократ — человек; следовательно, Сократ смертен, очевидно, что первую посылку мы выводим из того, что все люди до сих пор умирали, и отсюда же выводится и то, что Сократ смертен. Обыкновенно люди в своих выводах даже и не прибегают к силлогизму, а прямо делают заключение от частного к частному. Силлогизм же служит только средством удостовериться, что заключение сделано правильно, ибо если оно имеет силу для одного случая, то оно точно так же должно иметь силу и для всех случаев такого же рода[23].
Милль не объясняет, на каком основании мы можем сделать заключение от частного к частному. Из того, что мы до сих пор ничего другого не видели, вовсе не следует, что иного ничего нет или что всегда так будет. Если бы логика предписывала подобное правило, как замечает сам Милль в другом месте[24], то негры, никогда не видевшие европейцев, имели бы полное право заключить, что все люди черны.
Заключение
от частного к частному мы можем сделать единственно чрез то, что мы частные случаи возводим в общий закон, то есть не иначе как чрез посредство общего начала. Мы вправе сказать, что Сократ смертен, потому что все люди смертны; но частичка все не дается нам опытом. Мы из опыта знаем только людей, доселе живших или живущих, но не тех, которые еще могут родиться. Мы делаем тут расширение опыта, которое одно дает нам право сделать заключение. Опыт не удостоверяет нас и в том, что ныне живущие люди непременно должны умереть; из опыта мы знаем это единственно о тех, которые уже умерли. Поэтому невозможно утверждать, как делает Милль, что силлогизм заключает в себе логический круг. Круг существовал бы в том случае, если бы мы заключение выводили из посылки, которая сама основана на заключении. Но пока Сократ еще не умер, никак нельзя сказать, что мы общую посылку, что все люди смертны, выводим между прочим из наблюдений над Сократом. Если бы Милль взял другой пример (а примеры найти нетрудно), то он, конечно, не пришел бы к такому выводу. Геометрия доказывает, что всякий треугольник, образуемый радиусами круга и соединяющею их хордою, есть равнобедренный, ибо радиусы всегда равны. Но положение о равенстве радиусов, которое составляет большую посылку этого силлогизма, выводится отнюдь не из наблюдений над означенными треугольниками, а из общего определения круга.
Заключение
следовательно, строго логически никогда не делается от частного к частному, а всегда от общего к частному, ибо частное связывается только общим.
Заключение
от частного к частному, или аналогия, допускается настолько, насколько в данном случае можно предполагать существование общего закона. Наблюдения над частными явлениями служат нам лишь указанием, что тут есть общий закон, и только тогда, когда мы в этом удостоверились, мы можем сделать правильное заключение. Если в жизни форма силлогизма обыкновенно опускается, то это происходит единственно оттого, что она разумеется сама собою. Приведение всех умозаключений в правильные силлогизмы было бы признаком педантизма. Но мы это делаем всякий раз, как нужно выяснить или проверить вывод. Если бы силлогизм сам по себе ничего не доказывал, то он не мог бы служить и проверкою доказательств. Допуская в этом отношении существенную важность силлогизма, Милль сам себя опровергает. Но значение этой проверки понимается Миллем совершенно навыворот. Мы удостоверяемся, что заключение правильно, если действительно тут есть общий закон и данный случай под него подходит. Следовательно, надобно сказать, что известное положение прилагается к данному случаю, потому что оно прилагается ко всем случаям того же рода, а не наоборот, что оно прилагается ко всем случаям того же рода, потому что оно прилагается к данному случаю. Последнее противоречит всякой логике, ибо это значит производить большее от меньшего.
Сам Милль, когда он говорит о дедуктивной методе, оставляет совершенно в стороне заключение от частного к частному. «Все, что в ней существенно, — говорит он, — состоит в суждении от общего закона к частному случаю»[25]. К этому приводятся все объяснения законов природы[26]. Таким образом, он, незаметно для себя самого, приходит к отвергнутому им силлогизму, ибо логика не знает другого способа делать заключения. Дедукция в опытных науках, которую Милль считает высшим цветом познания, в существе своем не что иное, как приложение формальной логики, действующей путем силлогизма, к результатам, добытым наведением. Но это приложение возможно единственно вследствие того, что самые индуктивные выводы заключают уже в себе логическое начало. Наведение есть вывод общего из частного; отношение же общего к частному есть отношение логическое, а не эмпирическое. Опыт дает нам исключительно частное; сколько его ни складывай, мы общего никогда не получим. Если бы общий закон был только суммою частных случаев, как утверждает Милль[27], то он никогда бы не простирался далее наблюдаемых случаев. Сведение общего закона к количественному понятию о сумме составляет одно из тех чудовищных посягательств на логику, которыми изобилует сочинение Милля. Общее получается из частного посредством логической операции, которая существенное отличает от случайного. Сущность же есть логическое, а не опытное начало. Только в силу этого логического начала мы существенное распространяем далеко за пределы наблюдаемых явлений и во всех отдельных случаях видим приложение общего закона. Это и дает нам возможность делать заключение, которое от частного к частному немыслимо.
Заключение
есть логическое действие, которое совершается в силу логических законов. Опыт дает для него только материал.
Отсюда вытекает и то, что логика везде одна и та же, к чему бы мы ее ни прилагали. Содержание познания может быть бесконечно разнообразно, но способы действия разума в приложении к этому содержанию всегда одинаковы. Действуя сознательно, разум непосредственно сознает и те логические законы, которыми он руководится. Результат этого сознания, сведенный в общую систему, дает формальную логику, которая таким образом, по существу своему, основывается на умозрительных началах. Наблюдение действий разума в познании вещей служит ей только материалом, из которого эти начала должны быть извлечены. Разум, руководимый прирожденными ему законами, вносит свет в хаос внешних впечатлений, разделяя сходное и различное, существенное и случайное, общее и частное, связывая явления непрерывною нитью и стараясь свести их к верховным началам, которыми объясняется все остальное. Следовательно, опыт руководствуется логикою, а не наоборот. Выводить логику из опыта — значит утверждать, что познающий разум не имеет своих собственных законов, что он все получает извне, а сам не что иное, как пустая коробка, в которой случайно встречающиеся впечатления связываются более или менее прочным образом в силу привычки. Как мы уже заметили выше, такой взгляд, в сущности, не что иное, как отрицание логики, превращение разумного познания в чистую бессмыслицу. К этому и приходит опытная школа в последовательном приложении своих начал.
- [1] МШ: Logic, I, р. 211; ср. Essay on human underst. В. I, ch. 2.
- [2] Logic, I, р. 307—308.
- [3] Ibid., р. 308- 309.
- [4] Logic, I, р. 363—364.
- [5] Ibid., р. 365—370.
- [6] Ibid., р. 376.
- [7] Logic, I, р. 376—377.
- [8] Ibid., р. 376, прим.
- [9] Ibid., II, р. 98.
- [10] Grundziige der physiologischen Psychologie, S. 647.
- [11] Logic, I, p. 389.
- [12]? Logic, I, р. 384—485; II, р. 111.*? Logic, I, р. 69—71.
- [13] Ibid., II, р. 111.
- [14] Logic, I, р. 364.
- [15] Mill: Logic, II, В. Ill, ch. 16, р. 42.
- [16] Ibid., I, В. Ill, ch. 3.
- [17] Logic, II, р. 346.
- [18] См. ''Natiirliche Schopfungsgeschichte".
- [19] Physiol. Psychol., S. 822.
- [20] Logic, I, р. 397.
- [21] Ibid., р. 398.
- [22] *?{{Logic, I, р. 397.
- [23] Logic, I, В. 2, ch. III.
- [24] Ibid., II, р. 346.
- [25] Logic, I, р. 513.
- [26] ??Ibid., р. 518, 526.
- [27] Logic, I, р. 525.