Лекция 4 Часть как модификация целого
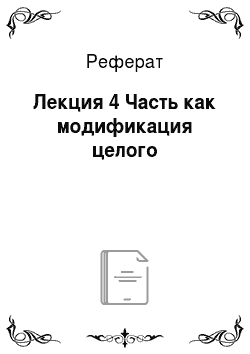
Существуя в качестве органа живого целого (мира-космоса), человек должен прежде всего научиться устанавливать разумный баланс между своей способностью познания и своей интуицией самоподдерживающейся жизни, мира как целого. Именно эта разумная интуиция стоит, например, за сократовской критикой чисто теоретических устремлений человека, которые могут разрушить гармонию его существования. В этом… Читать ещё >
Лекция 4 Часть как модификация целого (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Это же самое отношение («человек — полис») является очень показательным и в применении к осмыслению еще одной важнейшей категориальной пары — «часть» и «целое». Так же как и понятия тождества и различия, категории и части, и целого оказываются здесь связанными органическим, «живым» отношением, они как бы вырастают друг из друга, не будучи чем-то отдельным, совершенно отличным друг от друга. Так, человек принадлежит к государству и в этом смысле «меньше» государства, он часть этого государственного целого. Однако именно потому, что человек вступает в отношения с государством-полисом свободно (или — осмысленно, что в данном контексте то же самое), верным оказывается и обратное: полис (как идея) выступает частью по отношению к человеку (как идее), иными словами, выступает одним из аспектов человеческой природы. Подобное отношение понятий части и целого есть, по сути дела, еще одна вариация интуиции единства всего существующего как смыслового ядра античной онтологии. В самом деле, если мир в своей основе — Одно, то его невозможно поделить на части в смысле отдельных фрагментов. Это «Одно» обнаруживает свою неделимость всякий раз, когда предпринимается попытка представить его как совокупность многого. Именно эта интуиция стоит за словами греческого мыслителя V в. до н. э. Анаксагора из Клазомен: «…Ни у малого нет наименьшего, но всегда [еще] меньшее (ибо бытие не может перестать быть путем деления), и точно так же у большого есть всегда большее. И оно равно малому по множеству. Сама же по себе всякая вещь и велика и мала»[1].
Иными словами, «всякая вещь» — и часть мира, и мир в целом: все, что есть в мире как целом, есть и в каждой его части: «а так как и у большого и у малого равное число долей по количеству, то и на этом основании все должно заключаться во всем. И [следовательно, ничто] не может быть по отдельности, но все содержит долю всего. Так как наименьшей величины быть не может, то она не могла бы обособиться или стать сама по себе, но, как вначале, так и теперь, все вперемешку. Во всех [вещах] содержится много [веществ] и причем как в больших, так и в меньших [вещах] содержится равное количество [веществ], выделяющихся [из смеси]»[2]. Это количество является равным именно потому, что выступает количеством одного и того же. По большому счету и понятие части, и понятие целого по отношению к этому «одному и тому же», или Единому, есть нечто условное. Мы говорим здесь о «части» или о «целом», постоянно имея в виду Единое — как источник или основу всего, в которой часть и целое сливаются или постоянно переходят друг в друга. Взаимное превращение этих понятий в стихии Единого нагляднейшим образом демонстрируется в платоновском диалоге «Парменид». Попытка помыслить Единое как совокупность частей приводит собеседников к следующему выводу: «…Единое присутствует в каждой отдельной части бытия, не исключая ни меньшей, ни большей части, ни какой-либо другой. Следовательно, оно расчленено, коль скоро оно не целое; ведь, не будучи расчлененным, оно никак не может одновременно присутствовать одновременно во всех частях бытия»[3].
Однако сама по себе эта расчлененность Единого оказывается мыслимой только в том случае, если это же самое Единое выступает как целое: «Однако так как части суть части целого, единое должно быть ограничено как целое. В самом деле, разве части не охватываются целым?»[4] В результате неизбежным оказывается следующий парадоксальный вывод: «Следовательно, существующее единое есть, надо полагать, одновременно и единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное»[4]. Этот парадокс, так или иначе всегда «проглядывающий» в интуиции единства всего существующего, оборачивается вполне определенным образом мира, предстающим как особая целостность, которую можно было бы назвать органической, если в качестве основной характеристики организма рассматривать именно неделимость. В контексте этой характеристики еще более детально и глубоко продумывается исходная установка онтологии Единого: какую бы вещь (явление) мы ни рассматривали, ее субстрат («то, из чего») — всегда один и тот же. Помимо всего прочего э го означает и невозможность частичных изменений мира, частичных манипуляций с ним: то, что происходит (делается) в одной части мира, неминуемо отзовется во всех остальных его частях. Такой мир не требует никаких специальных «экологических представлений», коль скоро весь, целиком, выступает «окружающей средой» для того, кто мыслит себя существующим-в-мире.
Точнее говоря, «мир» в рамках такой установки — даже не среда (к примеру, для живого организма), но сам живой организм, одним из органов которого выступает мыслящий. Именно поэтому действия человека в мире есть, по сути дела, активность самого мира, его разумного органа, который, будучи разумным, не может повредить самому себе. Эта разумность прежде всего сказывается в самоограничении, в тех пределах, которые разум — как орган мирового организма — устанавливает самому себе. Организм как живая целостность характеризуется прежде всего способностью к самосохранению, спонтанному поддержанию этой целостности, и пытаться подменить эту спонтанность сознательным (рассудочным) действием — значит подвергнуть организм опасности.
Существуя в качестве органа живого целого (мира-космоса), человек должен прежде всего научиться устанавливать разумный баланс между своей способностью познания и своей интуицией самоподдерживающейся жизни, мира как целого. Именно эта разумная интуиция стоит, например, за сократовской критикой чисто теоретических устремлений человека, которые могут разрушить гармонию его существования. В этом отношении Сократ отнюдь не выступает как реакционер, противник прогресса в познании мира, но выражает установку, в каком-то смысле характерную для всей греческой культуры: ум как орган, «встроенный» в целое мира, не может быть оторван от главной задачи этой целостности — самосохранения и самовоспроизводства. Эта задача, по всей видимости, и имеется в виду Сократом, когда он говорит о «полезности» тех или иных знаний в воспоминаниях своего ученика, историка Ксенофонта. По свидетельству Ксенофонта, «вообще все он (Сократ. — Е. Б.) и сам исследовал со своими друзьями и изучал с ними лишь в том объеме, в каком это было полезно»[6]. «Полезность» здесь связана не столько с частичной, практической выгодой (хотя косвенно — и с ней тоже), сколько с ощущением гармонии целого, которое совпадает с целым миром. Отсюда и удивительно неопределенное «определение» домашнего хозяйства (казалось бы, чего-то совершенно конкретного, частичного, связанного исключительно с повседневностью человека), которое дается Сократом: «…хозяйство, согласно нашему определению, есть все без исключения имущество, а имуществом каждого мы назвали то, что полезно ему в жизни, а полезное, как мы нашли, — это все, чем человек умет пользоваться»[7].
Применительно же к организму можно говорить о том, что каждая его часть (что бы мы ни понимали под этой частью) пользуется всеми остальными частями: в рамках этой органической связи каждое отдельное целое (сущее) сохраняет себя только в силу того, что по мере возможности участвует в сохранении всеобщего целого. Эту пронизанность мира-космоса взаимной необходимостью (полезностью) всех его частей подчеркивает А. В. Ахутин: «Тот, кто назвал космосом всеобъемлющее в целом, имел в виду, разумеется, не просто порядок хорошо убранного дома, где все разложено по местам. Космос всего в целом — это жизнь мирового „хозяйствования“ в его днях, делах и событиях, строй согласномногообразного со-существования»[8].
В контексте подобного осмысления соотношения части и целого еще более явно высвечивается смысл того свойства греческой мысли, которое выше было названо «точечностью». Невозможность охватить весь мир системой всеобъемлющего знания, требование по отношению к мышлению каждый раз сосредоточиться на чем-то одном необходимым образом вытекает из интуиции неделимости, целостности всего, что есть. Эта неделимость, включающая в себя и самого мыслящего, может быть «схвачена» только в той или иной конкретной «модификации», иными словами, я каждый раз мыслю целое мира в том или ином его проявлении, которое и выступает под именем части: весь мир «стягивается в точку» той или иной идеи. Именно поэтому мыслить здесь одновременно означает непосредственно ощущать, чувствовать, соприкасаться с тем, что есть. А. В. Ахутин называет подобный способ непосредственного усмотрения смысла отдельной вещи на фоне целого «эйдетическим опытом»: «Эйдетический опыт тоже изолирует. Но его усилия подобны фокусировке, наведению на резкость. Изолировать — значит здесь собирать, формировать, индивидуализировать, обособлять, сосредоточивать сущее в его собственной форме, в том, чем оно всегда уже было и что оно всегда уже есть. В текучей неопределенности существования разумный (образованный) глаз различает целенаправленное становление, он выявляет в становлении становящееся существо, которое само по себе, естественно ошоопределяется, самообосо- бляется в мире»[9]. Но такая «фокусировка» осуществима только в том случае, если сам мыслящий выступает «частью» этого мирового целого.
То или иное сущее, которое «самообособляется» в мире, является видимым именно потому, что и тот, кто познает, и то, что познается, принадлежит одному и тому же органическому целому, выступая его органами. Это означает, что человек как существо, наделенное разумом (не будем забывать, что это тот же самый разум, который упорядочивает все в мире), принимает свою органическую связь с миром в качестве условия собственного существования. Осмысление этой живой связи получает выражение в понятии «благомудрия», «благоразумия» или «рассудительности», — эти слова чаще всего используются для перевода греческого слова «софросина». А. Ф. Лосев замечает относительно этого труднопереводимого слова: «Нам представляется, что правильным переводом было бы точное воспроизведение греческого термина, который буквально значит „целомудрие“. Но только… это целомудрие необходимо здесь понимать не в моральном смысле, но в смысле целостного, спокойно-уравновешенного и просветленно-гармонического разума»[10].
Подобным образом понятое целомудрие — это не что иное, как состояние души, соответствующее ее подлинному назначению — служить основой целостности всего человека. Это означает, в свою очередь, что душа здесь выполняет как бы двойную функцию: поддерживает свою собственную целостность, не позволяя себе оказаться раздробленной на множество разнонаправленных вожделений, и целостность тела, обеспечивая слаженную работу всех его органов. Так, в платоновском диалоге «Хармид» устами одного из героев (в свою очередь, ссылающегося на пифагорейца Залмоксида) утверждается: «…у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом, а между тем если целое в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке… Потому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова, и все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечить же душу… должно известными заклинаниями, последние же представляют собой не что иное, как верные речи; от этих речей в душе укореняется рассудительность, а ее укоренение и присутствие облегчают внедрение здоровья и в области головы, и в области всего тела»[11].
Итак, рассудительность, или «софросина», есть то, что отвечает за целостность как самой души, так и всего человека. Однако как раз в попытке понять, что есть сама рассудительность, и обнаруживается в очередной раз «пограничный» или «предельный» характер этого понятия. Рассудительность — это то, что действительно делает человека целым, но именно таким образом, что, обретая рассудительность, человек осмысляет свою принадлежность целому всего мира, понимает себя как «целое в целом». Именно поэтому рассудительность парадоксальным образом соединяет в себе знание и незнание. Этот парадокс подвергается глубокому анализу А. Ф. Лосевым в его работе «Учение Платона об идеях в его систематическом развитии». Исследователь, в частности, обращает внимание читателя на следующее определение рассудительности (у Лосева — «благоразумия») в платоновском «Хармиде»: «…все прочие суть знания [чего-нибудь] другого, а не себя самих, оно же одно есть и знание прочих знаний и себя самого»[12]. А. Ф. Лосев трактует это определение как «тезис самонаправленности, самопрозрачности или самосоотнесенности, необходимо присущей сознанию»[13], указывая при этом на неизбежность и другого платоновского вывода относительно рассудительности: будучи знанием о знании, она должна быть одновременно и знанием о незнании[14]. Но такое знание оказывается достижимым только для того, кто одновременно сосредоточен и на том, что мыслится (выступает предметом или содержанием знания), и на том, как или чем этот предмет мыслится, т. е. на самой мысли в ее реальном осуществлении.
Мы снова возвращаемся к мысли как к реальному событию, к парменидовскому тезису «Бытие и мысль — одно». Рассудительность есть одновременно целостное мышление и мышление целого, или бытия. Только охватывая мыслью «все в целом», человек соединяется и с собой (собирает воедино свои разрозненные «части»), и с миром. Именно это стремление видеть целое умственным взором свойственно, согласно Платону, философам, которые «…стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной…»[15]. Такое «мышление целого» не позволяет в конечном счете не просто «упустить из виду», но и отдать решительное предпочтение какой-либо части — неважно, идет речь о целом мира или о целом человека. Так, в адрес платонизма часто раздаются упреки в том, что он противопоставляет душу и тело человека, рассматривая последнее исключительно негативным образом. Упреки эти, однако, безосновательны: речь идет не о противопоставлении, но о соподчинении. Тело обретает свое истинное существование, становится гармоничным и прекрасным, только будучи полностью подчиненным душе как разумному началу. Пренебрежение телом, аскетическое «умерщвление плоти» в контексте этой позиции невозможны, поскольку тоже ведут к разрушению целостности человека.
- [1] Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. С. 531.
- [2] Там же. С. 532.
- [3] Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид. С. 374.
- [4] Там же.
- [5] Там же.
- [6] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993. С. 149.
- [7] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. С. 215.
- [8] Ахутин А. В. Античные начала философии. С. 291.
- [9] Ахутин А. В. Понятие «природа» в Античности и в Новое время («фюзис"и «натура»). С. 172−173.
- [10] Лосев А. Ф. История античной эстетики Кн. 2. С. 290.
- [11] Платон. Диалоги. С. 300.
- [12] Цит по: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. С. 326.
- [13] Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. С. 326.
- [14] См.: Там же.
- [15] Платон. Государство. С. 328.