М. О. Гершензон.
Художественная литература и воспитание
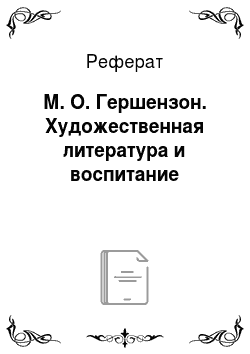
Внеклассное, самостоятельное чтение должно начинаться лишь тогда, когда ребенок научится понимать переносные значения и отвлеченные слова, т. е. приблизительно на 12-м году. Притом чтение ради простого развлечения должно быть изгнано. В рациональном воспитании такой вид развлечения не может быть допущен. Если взрослый человек не может обходиться без развлечения беседой, которая вместе с тем… Читать ещё >
М. О. Гершензон. Художественная литература и воспитание (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Если сказать, что вред, порождаемый книгами, настолько же преуменьшается в мнении общества, насколько преувеличивается польза, приносимая им, то это, пожалуй, назовут парадоксом, Но едва ли ктонибудь будет спорить против утверждения, что вред, причиняемый детям детской литературой в ее современном виде, далеко превышает ее полезность. Детское чтение — одна из наименее разработанных областей педагогики. Если на Западе, как и у нас, нет недостатка в частичных, так сказать, партизанских набегах на эту область, то попытки целиком покорить ее власти основные начала современной педагогики чрезвычайно редки. Поэтому нам представляется полезным изложить по-русски содержание одной немецкой книги, в которой автор ее, сам учитель и вместе с тем педагог-теоретик, пытается установить общие принципы, долженствующие лечь в основу разумной системы детского чтения. Это — вышедшая недавно вторым изданием (первым — в 1896 г.) книга гамбургского педагога Генриха Вольгаста «Das Elend unserer Jugendliteratur».[1]
Если попытаться этим способом определить результаты, достигаемые школой в деле пробуждения в ее питомцах любви и способности к чтению, то вывод окажется печальным, — при том для нас еще более, чем для Германии, которую имеет в виду Вольгаст. Мы читаем мало и плохо. Часть нашей молодежи, по оставлении школы, совсем или почти совсем забрасывает чтение: им школа не сумела внушить охоты к чтению. Другие, напротив, читают жадно и много, но чтение их, по качеству материала, представляет собой либо совершенно бесполезную трату времени, либо источник прямого вреда: в них школа не развила здорового литературного вкуса и способности выбора. Наконец, третьи охотно желали бы развить свой ум путем серьезного чтения, но не умеют справиться с делом и, тщетно побившись, отворачиваются от книги: в них школа не развила способности к плодотворному усвоению прочитанного. Эти три группы обнимают, без сомнения, большинство юношества. Охоту и способность к чтению выносят из школы лишь дети, исключительно одаренные или пользующиеся разумным руководством вне школы.
Где надо искать корень зла? У нас действуют в общем те же причины, что в Германии, но только с утроенной силой. Мы не будем останавливаться на вопросе о постановке в нашей средней школе классного преподавания родного языка и словесности; при современном положении этого предмета, когда исполнение программы поглощает все силы учителя и учащихся, единственным средством для развития литературного вкуса в последних является внеклассное чтение. Между тем школа у нас не только не руководит внеклассным чтением, но даже относится к нему с тайной, а иногда и явной подозрительностью и враждой: «В то время как учебник — излюбленный и избалованный сынок современных педагогов, хорошая книга для чтения — не больше как пасынок, испытывающий все притеснения и неприятности, которые свойственны этому положению»[2]. С другой стороны, родители лишь в редких случаях оказываются способными систематически руководить выбором книг для своих детей. В результате получается полная случайность и бессистемность внеклассного чтения, превращающая его из могущественного орудия умственного, нравственного и эстетического воспитания в источник дурных умственных привычек и в средство к извращению воображения и вкуса.
* * *.
Мы будем говорить здесь исключительно о художественной литературе для детей, т. е. о произведениях, облеченных в поэтическую форму. Целью чтения таких произведений должно быть, очевидно, развитие в детях охоты и способности к самостоятельному ознакомлению с истинно художественными созданиями литературы, т. е. развитие в детях того, что принято называть литературным вкусом. Спраши;
вается: что же должны мы давать для чтения детям, чтобы воспитать в них литературный вкус?
Эстетическое воспитание покоится преимущественно на воздействии образцов. Вкус есть род привычки; следовательно, он приобретается путем навыка. Теоретические разъяснения здесь бессильны; не входя в воду, нельзя научиться плавать, и эстетический вкус нельзя приобрести иначе, как путем непосредственного ознакомления с произведениями искусства. Не расхвалить стихотворение или музыкальную пьесу, а прочитать или исполнить их так, чтобы они произвели впечатление, — такова должна быть роль воспитателя в деле эстетического воспитания. Применительно к чтению из этих основных положений вытекает двоякое требование: чтобы воспитать в юношестве литературный вкус, необходимо, во-первых, знакомить детей с истинно художественными поэтическими произведениями; во-вторых, и это отрицательное требование, может быть, еще важнее первого, положительного, — необходимо тщательно оберегать их от чтения бездарных, мнимо художественных поэтических произведений.
Итак, книга для детей, носящая поэтическую форму, должна быть художественным произведением, а так как художественные литературные произведения принадлежат общей литературе, то специфическая детская литература теряет всякое право на существование. Это обстоятельство гораздо более важно, чем кажется на первый взгляд. Понятие детской литературы в смысле особого рода литературных произведений, созданных специально для детей и в общем могущих интересовать только их одних, должно исчезнуть. «Если ты хочешь писать для детей, ты не должен писать для детей» — в этом парадоксе формулировал свой взгляд на детскую литературу известный немецкий поэт Теодор Шторм[3], автор нескольких очаровательных детских рассказов. «Ибо, — продолжает он, — противохудожественно обрабатывать свой сюжет тем или иным способом, смотря по тому, будет ли читать твою вещь большой Петр или маленький Петя. Ввиду этого соображения обширный мир сюжетов суживается до очень малой сферы: приходится отыскивать такой сюжет, который, будучи обработан безотносительно к возрасту будущего читателя, а только сообразно своим внутренним свойствам, тем не менее оказался бы понятным и интересным как для зрелого человека, так и для ребенка». Эти слова Вольгаст называет «евангелием», доброй вестью детской литературы.
Требование, выставленное Штормом, — отнюдь не утопия. Надо помнить, что до филантропов совсем не существовало специальной поэтической литературы для детей. Гете, который в «Dichtung und Wahrheit» подробно рассказывает о читанных им в детстве книгах, свидетельствует, что в доме его отца источник литературных наслаждений был один для всей семьи, — и если сравнить, что читал маленький Гете, с тем, что служит духовной пищей для наших детей, то с трудом поверишь свежему преданию: там — мифы и сказания древних, Гомер, Вергилий, народные легенды средних веков, библия, отечественные и всемирные хроники, новейшие поэты, «Мессиада» Клопштока[4], Расин[5], Мольер, Корнель[6]; здесь — ничтожества по содержанию и форме, бескровные и лживые «повести для детей»!
Дело изменяется лишь с того времени, когда под влиянием новых педагогических идей Руссо и филантропов ребенок возводится на пьедестал как важнейший предмет попечения семьи и общества. Мысль, выраженная позднее Фребелем в словах: «Станем жить для наших детей!» — приобрела тогда всеобщее господство. Место безусловного подчинения детей родителям заняла обратная зависимость. Этот переворот нарушил единство семейного быта; между детьми и взрослыми открылась глубокая пропасть. К этому времени и относится появление поэтической литературы для детей. Все, что поддается изложению, — наука, религия, этика, поэзия — облекалось в доступную для детей форму и предлагалось им в виде приятной и легко переваримой пищи. Изредка произведения такого рода встречаются и гораздо раньше, в XVII и XVI, даже в XV в.; но детская литература возникает лишь во второй половине прошлого столетия.
II.
Вольгаст не останавливается подробно на вопросе о том, что надо разуметь под художественным литературным произведением; он заявляет даже, что определить сущность произведения искусства и невозможно, и бесполезно. Его критерий скорей отрицательный; его мысль можно mutatis mutandis выразить словами Гейне о музыке: «Я не знаю, что такое музыка, я не знаю даже, что такое хорошая музыка, но я очень хорошо знаю, что такое плохая музыка». Ближе всего к его представлению подойдет, кажется, определение Золя: «Произведение искусства есть кусок действительности, рассматриваемый сквозь призму известного темперамента». Как удобный практический критерий, он рекомендует следующее правило: повесть для детей должна возбуждать во взрослом человеке такой же и даже больший интерес, чем в ребенке.
Первое требование, которое мы предъявляем к художественному произведению, заключается в том, что оно не должно служить целям, чуждым искусству. Между тем две трети нашей детской поэтической литературы ставят себе целью поучение, т. е. сообщение детям известных знаний и наставление, т. е. внушение им известных моральных правил. Не говоря уже о том, насколько эти посторонние примеси умаляют эстетическую ценность художественного произведения, они вредны и с точки зрения самой тенденции.
Каждая наука имеет естественное право на соответствующую ее природе форму. Умение находить эту форму не есть нечто низшее, а есть результат проникновения в сущность данной науки. Уже поэтому популяризация научных сведений может быть признана законной лишь в том случае, когда ее берут на себя сами представители науки. Что фактическая верность и правильность оценки частей по их научной важности наиболее обеспечены в руках специалиста, это разумеется само собой. Между тем детская литература кишит произведениями, где авторы, далеко не будучи специалистами, в поэтической форме преподают детям историю, географию, этнографию, даже естественные науки. Последние находятся еще в сравнительно лучшем положении; всякий понимает, что было бы нелепо излагать развитие майского жука в форме драмы или химический процесс — в виде лирического стихотворения. Более всего страдают от популяризации в поэтической форме история и география.
Но даже в тех редких случаях, когда подобные произведения в научном смысле удовлетворительны, — самый способ усвоения детьми научных данных в беллетристической форме нельзя не признать крайне вредным. Как бы хитро и ловко автор ни нашпиговал свое сочинение научным материалом — маленького читателя больше всего интересует «история». Ребенок решителен и не знает угрызений совести; то, что ему покажется скучным, т. е. именно эти научные вставки, он, не колеблясь, пропустит, тем более что это не повредит пониманию фабулы. Это приучает читать скачками; проглотив таким образом книгу, с пропуском всех рассуждений, пояснений и пр., ребенок с поспешностью нечистой совести хватает другую. Но это еще не худший случай. Гораздо вреднее, если ребенок усвоит эти бессвязные и беспочвенные отрывки знаний и будет более или менее долгое время носить их в памяти, пока понемногу растеряет. Усваивая научный материал в оболочке увлекательного рассказа, ребенок не может оценить серьезность науки и преподавания. Материал, который предлагают ему школа и учебная книга, будет казаться ему уже неинтересным и скучным: то, что повесть дает ему, хотя, может быть, и в качестве досадной примеси, но все-таки в приятной и занимательной форме, он здесь должен усваивать путем напряженного внимания и повторения.
Насколько вредна в детской книге моралистическая тенденция, это мы сейчас увидим. Важно прежде всего указать на то, каким могучим орудием именно нравственного воспитания является знакомство с произведениями искусства.
Толстой называет главным свойством художественного произведения «цельность, органичность, то, чтобы форма и содержание составляли одно неразрывное целое, выражающее чувство, которое испытал художник». Благодаря этой органичности произведения чувства, выраженные в нем, охватывают душу юного читателя с неодолимой силой. Здесь, в художественном произведении, нет ненужных вставок, которые можно было бы миновать без ущерба для понимания; здесь нет ничего запутанного и неясного, что приучало бы ребенка читать не думая. Большая разница, затрудняется ли чтение неясностями или уклонениями книги или недоразвитостью читателя. В первом случае читатель испытывает против пропущенных мест нечто вроде отвращения, которое делает вторичное чтение их неприятным или даже невозможным; во втором случае читатель испытывает какое-то неудобство, похожее на угрызения совести, и оно обыкновенно заставляет его сызнова перечитывать книгу. Обаяние, какое производит на читателя всякое истинно художественное создание наглядностью своих картин и отсутствием пробелов в их изображении, приучает читателя как к внимательному и настойчивому чтению, так и к выработке ясных представлений. Такое чтение развивает и наблюдательность, потому что тот, кто раз внимательно проследил наглядное изображение какого-нибудь явления природы, созданное рукою истинного художника, тот при случае будет более зорко присматриваться к сходным явлениям в действительности; а насколько зоркость наблюдения и ясность представлений обусловливают правильность мышления, этого нет надобности доказывать. Чтение художественных произведений еще и тем способствует ясности мышления, что здесь общие суждения и выводы органически вырастают из обстоятельств и облечены в прозрачную форму, тогда как в бездарных морализирующих «повестях для детей» авторы щедро рассыпают обобщения без всякой надобности и без достаточных доказательств.
Сплошь и рядом детская книга прямо отучает своего читателя от умственной деятельности. Если событие изложено запутанно, если ландшафт изображен неясно, то при всех усилиях со стороны читателя они не вызовут в его воображении ясной картины. Вскоре ребенок уже и не пытается добиваться ясных представлений и равнодушно, почти не замечая их, скользит мимо всех подробностей, раз грубые черты сюжета могут быть поняты и без них. Это создает в ребенке одну из худших умственных привычек.
Эстетическое наслаждение обусловливается отчасти тем, что воображение читателя или слушателя воспроизводит образы, созданные художником. Эта воспроизводительная деятельность фантазии имеет огромное воспитательное значение; чем нагляднее и характеристичнее образы, предлагаемые поэтом, тем большую отчетливость и силу приобретает фантазия читателя. Ясно, каким вредным, искажающим образом должны действовать на фантазию подрастающего человека нечеткие, нехарактерные, кривые образы мнимо художественных произведений.
III.
Итак, поэтическое произведение для детей должно быть прежде всего произведением искусства. Спрашивается, какие требования на почве этого принципа должна предъявлять к детской литературе педагогика? Воспитание должно прежде всего принимать во внимание неразвитость ребенка. Более слабая познавательная способность, неразвитость чувства и слабость воли — вот что отличает ребенка от взрослого человека. Этими условиями и должен руководствоваться воспитатель при выборе книги для внеклассного чтения.
Эстетическое наслаждение возможно лишь там, где идейное содержание усваивается вполне или, по крайней мере, без крупных пробелов. Минутная задержка в виде непонятного слова или небольшого недоразумения, которое разъясняется на расстоянии немногих строк, разумеется, не идет в счет; но великоросс, который попытается читать Шевченко в подлиннике, из-за множества незнакомых слов не получит эстетического удовольствия. Тому же закону подчинено детское чтение. Ребенок должен быть в состоянии без труда усвоить существенную часть содержания читаемого; следовательно, приступая к чтению, он должен располагать уже довольно большим лексиконом, который заключал бы в себе и значительную часть отвлеченных слов и переносных значений. Кому случалось обучать чтению 8—10-летних детей, тот знает, какое большое количество слов приходится разъяснять при этом, — слов, непонятность которых детям обнаруживается неожиданно для учителя лишь во время преподавания. Когда еще почти каждое предложение содержит по одному или по два новых слова, ребенка ни в коем случае не следует оставлять наедине с книгой. Если сюжет интересен, то ребенок увлечется и не бросит книги; но тогда ему грозит опасность привыкнуть к чтению скачками, когда внимание без угрызений совести мчится мимо непонятных подробностей, лишь бы поскорее уловить грубые очертания фабулы.
Здесь речь не о том, чтобы чтение с первого раза достигало полной ясности всех подробностей. В методике классного чтения есть направление, которое требует, чтобы каждая пьеса «обрабатывалась» до тех пор, пока каждое слово и каждый оборот не будут усвоены детьми во всех отношениях. Это неуместный педантизм: разработка деталей убивает наслаждение целым. Материал для внеклассного чтения может даже, без вреда для эстетического воспитания, в отдельных пунктах превышать понимание детей. Дальман справедливо говорит: «Детская книга не должна ползти за ребенком, а должна наряду с понятным содержать и раздражающую вкус примесь непонятного». Если только книга соответствует мировоззрению ребенка в целом, по всему своему духу, по своему идейному содержанию, то о непонятности отдельных подробностей нечего заботиться. Так, дети редко могут понять те иронические намеки на общественные отношения, которые так обильно рассеяны в сказках Андерсена и даже Гримма; но было бы нелепо из-за этого отнять у детей эти прекрасные книги.
Еще крупнее различие между ребенком и взрослым в области чувства. Целые категории чувств, играющие более или менее важную роль в психике взрослого человека, совершенно чужды ребенку: таковы половая любовь, мистицизм, мировая скорбь, отчасти чувство природы. Очевидно, что поэтическое произведение, в котором подобное чувство служит темой или существенным ингредиентом, окажется недоступным для детей. Не то чтобы их надо было совершенно устранить из сферы детского чтения. Они играют такую важную роль в человеческом существовании, что писатель редко сумеет вырезать для поэтической обработки кусок жизни, не проросший этими жилками; но они не должны быть сюжетом произведения.
В числе условий, с которыми необходимо считаться при выборе книг для детского чтения, одним из важнейших является слабость и непостоянство детской воли. Взрослый человек может принудить себя дочитать книгу до конца, даже когда она его не интересует. Ребенок не способен на это. Правда, его можно заставить дочитать книгу, но ведь наша цель — пробудить в нем эстетическое удовольствие. Ребенка надо заманить, увлечь. Первоначально ребенку доставляет удовольствие только фабула. Из этого интереса мы хотим путем воспитания выработать эстетический интерес, обращенный преимущественно на форму. Какова же должна быть детская книга, раз мы видим в ней орудие эстетического воспитания?
Предметный интерес, интерес к фабуле, очень сильно разнится от эстетического интереса. Первый спешит от события к событию и оценивает их лишь по степени странности, необычности; второй менее требователен: события привлекают его лишь правдивостью и яркостью их изображения. Здесь нам доставляет наслаждение не чудовищность или странность происшествия, а пластическая наглядность, с которой оно изображено, не черты небывалого героизма или неслыханной жестокости в характере и поступках действующих лиц, а верность характеристики, жизненность, реальность. Быть может, при чтении с исключительным интересом к фабуле собственная фантазия читателя работает более интенсивно. Автор только наметил характер или обстановку, часто ложными и противоречивыми чертами; но характер или событие одним или несколькими штрихами перенесены в такую необычную сферу, представляют собою обломок таких огромных размеров, что фантазия не в силах устоять против соблазна добавить недостающее для получения более или менее ясной картины.
Обе эти склонности, как показывает наблюдение, в зародыше присущи детскому уму. Ребенок имеет особое пристрастие ко всему необычному и чрезмерному; но вместе с тем он требует, чтобы изображение или рассказ были доведены до мельчайших подробностей. Безграничное обаяние, которое производит на детей «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, объясняется именно тем, что он в идеальной степени удовлетворяет обеим этим потребностям. Вспомним фабулу этой повести: бегство из родительского дома, кораблекрушение, одиночество на острове, беспомощность во время болезни, людоедство, борьба с дикарями и т. д. — все крайне необычные и удивительные происшествия. Что же касается обработки сюжета, то вот что говорит об этой книге Геттнер:
«Дефо изображает удивительные подвиги и приключения своего героя как настоящий художник. Все рассказано так ясно и просто, все так естественно и непосредственно вытекает из положения и настроения героя в каждый данный момент, что мыслящий человек действительно читает Робинзона с той же радостью и с тем же увлечением, как наивный ребенок, еще не научившийся отличать вымысел от правды. Изумительное искусство, с которым наш поэт достиг этой принудительной достоверности, заключается в необыкновенной тонкости и правдивости психологической характеристики и, что в высшей степени важно, в его чрезвычайно одушевленной живописи деталей, т. е. в том, что он с любовью и старанием выписывает даже такие подробности, которые кажутся совершенно неинтересными и незначительными».
Руссо недаром требовал, чтобы Робинзон долгое время оставался единственной книгой для чтения ребенка. Повторное чтение такого художественного произведения, соединяющего в себе увлекательность фабулы с художественной детальностью изложения, настолько же ослабит грубое и опасное увлечение необычным, насколько углубит наслаждение художественностью обработки. По мере того как происшествия, при первом чтении поразившие фантазию ребенка своей странностью, в силу повторения теряют характер необычайности, внимание ребенка начинают привлекать занимательные подробности. Картины, носившиеся перед духовным взором автора, начинают все ярче и рельефнее вырисовываться в воображении читателя, и по мере того, как они становятся более отчетливыми, т. е. более похожими на свой прообраз, живший в душе поэта, — растет и наслаждение, доставляемое ими.
Не следует также забывать, что фабула влияет как жизнь — отталкивая или поощряя. У более энергичных или более впечатлительных натур инстинкт подражания, всегда очень деятельный, черпает пищу из чтения; при этом он обращается либо на фабулу, либо на изложение. Когда юный читатель сам начинает писать рассказы или поэмы, это значит, что он стоит уже на высшей ступени эстетического восприятия. Этой ступени достигают немногие дети. Обыкновенно ребенок не идет дальше подражания подвигам книжного героя. В газетах нередко встречаются известия вроде того, что 12—14-летний мальчик, начитавшись Эмара, убежал из дому с целью пробраться в Америку к команчам. Чаще дело ограничивается подражанием в игре. До более серьезных подражаний, требующих смелости и выдержки, дело доходит лишь в том случае, когда влияние примера падает на подготовленную почву, т. е. когда в ребенке дремлет склонность, соответствующая данному сюжету.
•к «к 'к
Эти соображения указывают путь, по которому должно идти литературно-эстетическое воспитание ребенка.
Внеклассное, самостоятельное чтение должно начинаться лишь тогда, когда ребенок научится понимать переносные значения и отвлеченные слова, т. е. приблизительно на 12-м году. Притом чтение ради простого развлечения должно быть изгнано. В рациональном воспитании такой вид развлечения не может быть допущен. Если взрослый человек не может обходиться без развлечения беседой, которая вместе с тем удовлетворяет его потребность в физическом отдыхе, то для детей, в часы бодрствования не знающих этой потребности, естественным развлечением является игра. Наблюдение показывает, что инстинкт деятельности есть важнейшая отличительная черта всякой неиспорченной детской натуры. Ребенок доволен и счастлив, пока он может действовать. Спенсер, положивший эту мысль в основание своего трактата о воспитании, приводит в подтверждение ее слова Фелленберга: «Опыт убедил меня в том, что лень в молодых людях настолько противоречит их естественной склонности к деятельности, что, если она не есть результат ложного воспитания, она почти всегда связана с каким-нибудь телесным недостатком». Поэтому игрушка тем лучше, чем больший простор она открывает самостоятельной деятельности ребенка: складной дом или куча песку — его любимая игрушка. Школа производит революцию в жизни ребенка. Наша школьная педагогика еще очень далека от мысли, что основной и исходной точкой всех ее мероприятий должен быть присущий детям инстинкт деятельности. В школе ребенок приобретает два мало соответствующих его природе навыка: он научается читать и сидеть тихо. С этими двумя способностями вступает в союз свойственная всем детям склонность к слушанию историй, известная эпическая потребность, — и вот перед нами маленький пожиратель книг. Его натура искажена; то, что он по своей природе должен был бы любить — игра и движение, — сравнительно с чтением теряет всякую прелесть. Для нормального ребенка упражнять в физической работе свои силы, внешние чувства и ум — наслаждение; ребенку, пристрастившемуся к книгам, игра и работа в тягость.
Итак, количество часов, отводимых чтению, должно быть строго определяемо воспитателем.
Собственно детской книгой является сказка, как народная, так и искусственная, с нее и приходится начинать. В мальчиках скоро обнаруживается склонность к истории. Из поэтической литературы этой потребности удовлетворяют народные сказания, но чтение последних требует внимательного надзора. Если справедливо, что развитие ребенка совершается аналогично историческому развитию человечества, то в жизни ребенка должен быть период, когда инстинкты насилия требуют себе пищи. Таким периодом, по-видимому, и является то время, когда мальчик увлекается чтением легендарных преданий. Так как занимательность этих книг, в которых господствует атмосфера давно исчезнувшего, странного и грубого культурного строя, обусловлена исключительно фабулой, то чтение их вызывает наивных читателей на подражание, и картины насилия, мести, жестокости едва ли проходят бесследно пред глазами ребенка. Очевидно, что обязанность воспитателя — не удлинять, а сокращать этот период господства насильственных инстинктов; поэтому литературу сказаний следует давать в руки ребенку лишь с большой осторожностью. То же самое относится и к рассказам из индейской жизни. Там, где этот опасный материал обработан настоящим поэтом и облечен в художественную форму, там нечего бояться дурного влияния. Купер не опасен, но опасен легион его подражателей. Робинзон и Купер представляют удобный переход к историческим рассказам и романам.
Книги, которые мы даем в руки ребенку, должны быть во всяком случае истинно художественными произведениями. Повторное чтение тем более необходимо, чем более сюжет книги содержит в себе необычного, способного раздражить присущий детям ненасытный интерес к фабуле. Здесь, как и во всех отраслях[7] произведения, ребенка надо приучать отчетливо видеть и слышать, зорко и всесторонне наблюдать.
Книга, которую читает ребенок, должна отличаться кристальной ясностью формы и отчетливостью рисунка. Это необходимо там, где фабула увлекательна, для спасительного противодействия, где сюжет недостаточно интересен — для того, чтобы увлечь образами. Здесь задача художественно-литературного чтения совпадает с задачей воспитания вообще. Школа стремится к выработке в своих питомцах ясных представлений, понятий и суждений; но та область, которая непосредственно граничит с эстетической и отчасти совпадает с ней, — воспитание и упражнение внешних чувств — находится в полном пренебрежении. Дело эстетического воспитания выиграло бы бесконечно много, если бы внешние чувства развивались до высшей степени остроты и силы. Много выиграло бы от этого и дело воспитания литературноэстетического вкуса, как ни далека кажется эта область от сферы действия внешних чувств: в уме, привыкшем точно улавливать черты действительности, поэтические образы находили бы благодарную почву, и, напротив, нереальные образы поддельной поэзии такого читателя не могли бы ввести в заблуждение.
Разумеется, дети должны читать не все, что доставляет им удовольствие; но все, что они читают, должно доставлять им удовольствие. Мы должны воспитать поколение, которое любило и умело бы наслаждаться. Радость жизни одержала верх над аскетизмом; но он оставил нам в наследство недоверие и подозрительное отношение к наслаждению.
Воспитание должно позаботиться сделать наслаждение спутником и другом человека, и воспитание литературного вкуса, — быть может, вернейший путь к этому, потому что дар поэтической восприимчивости есть, после музыкальности, самое распространенное эстетическое чувство.
Труды педагогического общества, состоящего при Императорском Московском университете. — Т. 1. — М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1900. — С. 91—108. (Доклад, читанный в публичном заседании Московского педагогического общества 23 октября 1899 г.).
Вопросы и задания
- 1. В конце прошлого века Гершензон утверждал: «Школа у нас не только не руководит внеклассным чтением, но даже относится к нему с тайной, а иногда и явной подозрительностью и враждой». Изменилось ли это положение за сто лет? Приведите в доказательство своих утверждений выдержки из работ современных методистов.
- 2. Что такое «медленное чтение», по Гершензону? Насколько вам удается использовать этот прием в преподавательской практике? Если не удается, то — почему?
Сведения о методисте
Судя по воспоминаниям современников, Михаил Осипович Гершензон (1869—1925), прославленный пушкинист, не отличался легким характером. Впрочем, возражения собеседников слушать он умел и порой даже соглашался с ними, но чаще отмахивался и, не вступая в полемику, резко менял тему разговора. Разве назовешь такой характер подходящим для педагога? Но к педагогике он тянулся всегда, на протяжении всей своей творческой жизни. На рубеже веков Гершензон начинает свои занятия педагогикой и методикой. Поначалу его интересовали мысли философов о школе и об образовании, воспитательное значение литературы. Но чем больше вникал он в эти вопросы, тем более ясно вырисовывалась перед ним главная проблема методики преподавания литературы, вытекавшая из литературоведческой проблематики:
«Что есть предмет истории литературы, другими словами — что следует понимать под термином литература? Вот первый и главнейший вопрос нашей дисциплины. Пока он не решен — она не начала существовать, а от верности его решения зависит правильность ее приемов, а следовательно, и бурность и плодотворность выводов, которые она передает обществу в поучение и руководство».
Так он писал в послесловии к книге Г. Лансона «Метод литературы». Помимо этого, он обращал, внимание современников на смешение истории литературы и истории общественных идей и эмоций.
По своим историософским взглядам Гершензон был близок славянофильству. Об этом говорит его работа «Исторические записки. (О русском обществе)», сочувственная славянофильским идеям, а также проникнутая некоторыми сходными идеями его статья «Творческое самосознание», напечатанная в знаменитом сборнике «Вехи» и вызвавшая сотни откликов.
«Великая мечта воодушевляла славянофилов. Исходя из факта органической цельности народного бытия, они утверждали, что высшая образованность должна являться естественным завершением народного быта, должна вырастать из него, как плод из семени. Между смутным чувством народной массы и высшими проявлениями национального творчества в искусстве и мышлении и должна существовать, говорили они, закономерная последовательность, связывающая всю народную жизнь в одно целое: „несознанная мысль, выработанная историей, выстраданная жизнью, потемненная ее многосложными отношениями и разнородными интересами, восходит силою литературной деятельности по лестнице умственного развития от низших слоев общества до высших кругов его, от безотчетных влечений до последних ступеней сознания“, — ив этом виде она является уже не остроумной идеей, не диалектической игрой, но глубоко серьезным делом внутреннего самопознания», — писал Гершензон.
Гершензон имел невероятно высокую репутацию в среде писателей и критиков — прямо скажем, не в самой доброжелательной среде. Он был человеком, который «сам себя сделал». Одаренный от природы, он всю свою жизнь разрывался между множеством своих интересов и привязанностей. Родившийся в небедной еврейской семье, он после первого же выбора был обречен на борьбу. Отец — разорившийся в конце концов купец 2-й гильдии — был против его занятий гуманитарными науками — отвлеченными и неприбыльными.
Ему всегда приходилось быть единственным, укладываться в ту позорную крохотную процентную норму, которой царское правительство ограничивало участие иудеев в академической жизни. Для того чтобы стать студентом российского университета, иудей должен был окончить школу с золотой медалью. Таковой медали Гершензон не был удостоен в школе[8], и поэтому он направился в Берлин, где в течение некоторого времени учился в политехникуме. Оттуда он направил прошение с просьбой зачислить его в качестве вольнослушателя на филологический факультет Московского университета. В ответ он неожиданно получил извещение о том, что он зачислен в статусе, на который Гершензон и не рассчитывал: он стал не вольнослушателем, а студентом. В чем же дело? Получилось так, что в этот год никто из единоверцев Гершензона не изъявил желания стать филологом, и поэтому он оказался в той самой, официально допустимой, «процентной норме». Этот случай был настолько невероятным, что отец Гершензона решил, что его сын предал свою веру ради карьерных соображений, и отказал ему в материальной помощи. Студенты должны были ходить в форме и даже иметь для особо торжественных случаев шпагу. На это у Гершензона денег уже не было: он ходил в старом студенческом сюртуке и невесть откуда взявшейся николаевской шинели, с бобровым воротником и едва не доходившей до колен пелериной. Обе полы огромной шинели приходилось все время придерживать руками…
Осенью 1899 г. Михаил Гершензон выступил с докладом о воспитательном значении детской художественной литературы. Именно с нее начинается Гершензон-методист, ученый, внимательно следящий за наиболее интересными новинками мировой педагогики (см. далее).
Хотя Гершензон не любил, когда его называли критиком (сам себя он называл историком), многие подчеркивали точность и непредвзятость его оценок, а также вкус, никогда Гершензона не подводивший. «Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались, — вспоминал Владислав Ходасевич. — Но и здесь было у него два „пунктика“, против которых не помогало ничто: во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения; во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстопной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это — пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе: безвкусица. Но Гершензон настаивал на пошлости. Так и не сговорились»[9]. Однако вкус критика и вкус читателя — вещи, как известно, разные, иногда слишком разные. И в первом Гершензон сомневался куда реже, нежели во втором.
Как сблизить эти оценки? Главную сложность Гершензон видел в том, что читатель захвачен вихрем времени, у него нет времени остановиться, задуматься над прочитанным: «Современный читатель… на бегу, мельком улавливает тени слов и безотчетно сливает их в некий воздушный смысл, столь же бесплотный, как слагающие его тени. Ища прежде всего быстроты, мы разучились ходить; теперь только немногие еще умеют читать пешком, — почти все читают велосипедно, по 30 и 40 верст, т. е. хотел сказать — страниц в час. Спрашивается, что они видели в этих быстро промелькнувших страницах, могли ли что-нибудь заметить и разглядеть?»[10]
Чтение в XX в. перестает быть наслаждением, и некому разорвать порочный круг: читатель спешит, торопится прочитать как можно больше, и литература словно мстит, скрывая от него замечательные черточки, которые непременно пропустишь на бегу, скрывая свои глубины. Медленное чтение — вот первая и главная методическая заповедь Гершензона. Только при следовании ей читатель начинает открывать сокровенные тайны литературы.
Современные уроки по «Евгению Онегину» трудно себе представить без обращения учителя к работам В. Г. Белинского и Ю. М. Лотмана. Такие обязательные для обращения строки есть и в работах Гершензона:
«…Татьяна ждет ответа на свое письмо.
Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет, как нет.
Бледна как тень, с утра одета, Татьяна ждет: когда ж ответ?
Это очаровательное, так легко сказанное «с утра одета» говорит многое. Оно говорит прежде всего, что Татьяна с уверенностью ждала — не ответного письма от Онегина, а самого Онегина (в чем тонкое… чутье ее и не обмануло). И оно показывает ее нам в эти дни с утра причесанной, затянутой, одетой не по-домашнему, — а тем самым косвенно обрисовывает и ее обычный затрапезный вид, когда она вовсе не была «с утра одета», а может быть, до обеда нечесаная, в утренней кофте и туфлях упивалась романом. Так много содержания в трех легких словах!"[11]
В другой работе о Пушкине, наблюдая над способом повествования в «Евгении Онегине», Гершензон подмечает связь внешне объективного, нейтрального изложения с внесением в текст психологического восприятия персонажа:
«Вот пистолеты уж блеснули, Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой На полку сыплется. Зубчатый, Надежно ввинченный кремень Взведен еще…
Это — не объективная картина, которую мог бы от себя, для читателя, нарисовать художник: здесь воспроизведены лишь те звуки и движения, за которыми напряженно следят Онегин и Ленский, ожидая призыва к дуэли"[12].
Гершензон обладал поистине энциклопедическими знаниями. Удивительной была и работоспособность Гершензона. Он успевал писать книги по истории российской культуры, словно запечатлевая навечно ее лучшие страницы, регулярно выступать с рецензиями и обзорами. Что же отличало его понимание литературы? В уже цитировавшемся нами послесловии к книге Г. Лансона он писал:
«Раз основной признак литературы — художественность формы, то очевидно, что изложение эволюции литературы по какому-либо другому признаку не достигает цели… Тайна искусства есть тайна, и дарование художника можно только описать извне, но не объяснить. Почему обыкновенный человек, постигнутый горестью, весь поглощается ею, а художник о своей споет песнь, живущую потом века? И какие чары заключены в этой песне, почему она так волнует меня, не пережившего ни этой, ни даже подобной горести? Ничего этого мы не знаем. Знаем только, что иным людям присущ дар непосредственного и целостного умозрения, что называют интуицией… И вот, отличительное свойство художественной интуиции есть то, что ее содержание неотделимо от формы, в которой оно дается. Ее содержание не может быть изложено в логических терминах: оно может быть только непосредственно передано в образах, красках, звуках или ритме слова…» (С. 64—65.).
Один из оригинальных методистов 20-х гг. М. Григорьев вспоминал, что Гершензон называл литературное произведение «загадочной картинкой». Загадки же, по Гершензону, полагалось отгадывать лишь интуитивным озарением.
Наиболее развернуто основные принципы интуитивизма Гершензон изложил в книгах «Тройственный образ совершенства» (1918 г.) и в небольшом сборнике, включавшем в себя три статьи под названием «Видение поэта» (1919 г.).
В художественном произведении Гершензон выделял 3 элемента: 1) элемент игры «в смысле бескорыстного отношения художника к миру явлений, духовной свободы в созерцании его»; 2) элемент вдохновения или экстаза, который связан с первым элементом; 3) элемент познания или «углубленного видения, которое дается художнику именно в силу свободного вдохновения, присущего ему в минуты творчества»[13].
Третья часть книги Гершензона названа «Поэзия в школе (план реформы)». Ее мы также предлагаем вниманию читателя (см. далее).
В предложениях Гершензона многим виделся уязвимый момент: как быть со вкусом учащихся? Если они будут упиваться впечатлениями от «медленного чтения» и получать от учителя или из учебника некоторую информацию о писателях, то как же научатся отличать истинно художественную литературу от беллетристики и низкопробного чтива? Как ребята смогут понять, почему одно произведение считается «классическим», а другое нет, словом, откуда они узнают, «что такое хорошо и что такое плохо» в литературе? Да от своих же товарищей-одноклассников, отвечал Гершензон. Если ходить на уроки литературы нет необходимости, то тем самым будет решена главная проблема учебного процесса — проблема мотивации. Через мотивацию и пролегает дорога к воспитанию художественного вкуса. Нельзя почувствовать красоту того, к чему тебя принуждают. Трудно полюбить то, с чем ты имеешь дело по необходимости, по обязанности. Зато когда хотя бы малая часть учеников начнет самостоятельно читать книги и интересоваться литературой, то непременно будет делиться впечатлениями с однокашниками. Для общения потребуется время, и таким временем могут очень кстати оказаться уроки литературы. На таких вот наивных посылках и покоилась предлагавшаяся Гершензоном система преподавания литературы.
Что же в методике Гершензона привлекало учителей 20-х гг. Интуитивистский метод преподавания литературы исходил из ощущения красоты литературы. Он был своеобразной альтернативой формальному методу, который, по мнению поверхностных словесников, «вивисекцировал» литературу и потому якобы был связан с потерей целостного впечатления от художественного произведения. Формальный метод они понимали именно как «формализм» — некую замкнутую школу, исходившую именно из замкнутости литературного произведения. Бинарные оппозиции, термины «материал», «прием» и пр. не были понятны новым учителям, пришедшим в школу после революции и не имевшим университетского образования. Интуитивизм был «ближе к натуре», он требовал лишь эмоционального восприятия и необязательно точного исследования, на чем настаивали формалисты.
Например, на излюбленной теме Гершензона—"Творчество А. С. Пушкина" — М. А. Рыбникова (о ней см. отдельную главу в книге) демонстрировала, каким образом можно сблизить интуитивистский метод и реальность новой школы.
Первый этап: Учитель кратко рассказывает о биографии поэта и распределяет темы небольших устных докладов («Лицейские друзья Пушкина», «Пушкин и декабристы», «Семейная жизнь поэта», «Пушкин в Михайловском» и т. д.).
Второй этап: Каждый из учащихся заучивает примерно по 5 стихотворений Пушкина для выразительного чтения и «цитирования».
Третий этап: на пушкинском вечере учащиеся воскрешают важнейшие моменты жизни Пушкина, «украшая свою речь обильными строками лучших стихов поэта». Для придания вечеру живости можно инсценировать целиком или отдельные сцены из «Бориса Годунова», а в младших классах — сказки. Этому может предшествовать экскурсия по пушкинским местам или организация выставки иллюстраций к пушкинским произведениям, в том числе — иллюстраций, выполненных самими учениками.
Главное: параллельно всему этому идет будничная классная работа (т.е. ни о какой отмене уроков литературы Рыбникова, разумеется, и речи не вела). Основной вид деятельности во время классной работы — чтение и разбор произведений, и прежде всего — излюбленное Гершензоном медленное чтение текста, чтение в классе вслух и наизусть, споры вокруг изучаемого произведения и защита учениками различных взглядов.
Словом, чтобы идеи Гершензона могли найти воплощение в школьной практике, потребовалась их реализация в творчестве такого талантливого и яркого педагога, как М. А. Рыбникова. Литературоведческие идеи получили педагогическую интерпретацию Рыбниковой, сумевшей сделать их вполне реализуемыми в своем педагогическом творчестве, особенно на раннем этапе.
«Толчком было крушение бывшего восьмого класса, — и за ним последовала в моей практике гибель хронологической неизменности. Но я искала, конечно, поддержки извне. И нашла ее. Первое — это интенсивная переработка программ по всем учреждениям и инстанциям. Русская педагогика с 1917 г. по текущий 1921 г. переживала период неслыханного разрушения и увлекательного строительства. Гибли школы, курсы, предметы, факультеты, и рядом росли детские дома, колонии, рождались новые предметы и новые приемы преподавания. Мудрено ли, что и наш предмет; словесность, подвергся пересмотру и перестройке. Сократили древность, изгнали публицистику, прибавили с левой стороны Успенского и Горького и таким способом пытались устанавливать новые программы. Но всегда при составлении этих программ старались дать нечто наиболее приемлемое и удобопонятное.
Однако, находились чудаки, которые выставляли положения совершенно неожиданные и крайние. К ним принадлежал, между прочим, М. О. Гершензон, который в докладе своем Наркомпросу предложил уничтожить в школе историю литературы, а изучение литературы сделать для учеников необязательным. Эта статья напечатана теперь в его книжке «Видение поэта» под заглавием «Поэзия в школе» (план реформы). М. О. Гершензон высказывается против аналитического разложения художественного целого, против историко-литературного метода в школе, против хронологического порядка чтения литературных памятников. Отсылаю всех интересующихся к страницам названной книги и скажу, конечно, статья эта, «Поэзия в школе», была для меня большой поддержкой и опорой, хотя надо оговориться, что автор ее очень далек от самой практики преподавания" — так писала о Гершензоне Рыбникова[14].
После революции Гершензон продолжает активную работу, хотя быт его не просто ухудшился: он стал катастрофическим. Известна «Переписка из двух углов» Гершензона и Вяч. Иванова (Пг., 1921). В ту пору всецело живший в культуре Гершензон обреченно писал: «Какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагими… помня из прошлого только одно — как было тяжело и душно в тех одеждах и как легко без них». Вяч. Иванов отстаивал в этой переписке устоявшиеся культурные ценности, не разделяя пафоса обновления, которым были проникнуты послания Гершензона. В XIX в. переписка Гоголя и Белинского, находившихся в двух небольших курортных городках, оказала неожиданно большое влияние на культурное развитие всей России. Через столетие деятели культуры уже не могли, как прежде, выезжать на воды. Им оставалось переписываться, лежа на больничной койке, когда вокруг была лишь разруха. Больничная палата в здравнице «для работников науки и литературы» стала вместилищем искренних, глубоких дум и переживаний. Порой казалось, что Гершензон захвачен этим вихрем истории, он видит в нем руссоистские тенденции, того самого «чистого», голого человека, за которого ратовал великий французский философ. Вяч. Иванов с ним открыто полемизировал, видя в разрушении — лишь разрушение, причем разрушение культуры.
И все-таки выходят после революции несколько новых книг Гершензона, пожалуй, лучших его книг.
Казалось бы, сугубо книжный человек, отличавшийся исключительно аскетичным бытом (впрочем, этот аскетизм был вынужденным: он постоянно голодал, не имея возможности даже прокормить своих детей), Гершензон не мог иметь никаких импульсов к социальной работе. Однако именно Гершензон первым, еще в начале 1920;х гг. организовал Союз писателей — подлинно демократическую творческую организацию, целью которой была поддержка нуждающихся литераторов. Став первым председателем Союза, он, к счастью, не дожил до того времени, когда новый, реорганизованный Союз из инструмента поддержки писателей превратился в средство государственного и партийного давления на них.
Гершензон дожил до «философского парохода», на котором выслали его соавторов по «Вехам». Сам он не был репрессирован. Он попросту умер от голода.
к к к
Работы Гершензона, которые мы предлагаем вашему вниманию, в течение долгого времени были забыты. Но справедливо ли это? Ведь фактически заложенные в работах Гершензона идеи через практику Рыбниковой и ее истинных последователей в методике (истинных — потому что вряд ли кто-нибудь из методистов не считает себя последователем Рыбниковой) смогли дойти до наших дней и развиваться в работах по целенаправленному исследованию литературных способностей учащихся, по изучению механизма рецепции литературных произведений и т. д.
- [1] Нет надобности доказывать, что об успехах, достигаемых школой, следует судить не по учебным программам и экзаменационным листам, а по характеру и силе ее влияния на жизнь. Единственный верный критерий плодотворности ее работы — образ мыслей и деятельность взрослых. Разумеется, при этом нельзя упускать из виду и тормозящие влияния жизни; тем не менее общее правило остается в силе.
- [2] 2 Одесский И. Экскурсы в душевный мир учащихся // Вестник воспитания. 1899.Март. С. 60.
- [3] Шторм Теодор (1817—1888) — немецкий поэт и прозаик, автор известных новелл"Иммензее" (1852), «Ангелика» (1855), «Поле-Кукольник» (1874), «Рената» (1878),"Всадник на белом коне" (1888).
- [4] Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт. Его религиозная эпическая поэма «Мессиада», над которой он работал с 1751 по 1773 г., написана в 4-х т.
- [5] Расин Жан (1639—1699) — знаменитый французский драматург, один из основателей и теоретиков классицизма. Автор многих трагедий, в том числе «Андромаха» (1667)и «Федра» (1677), до сих пор остающихся в репертуаре многих известных театров мира.
- [6] Корнель Пьер (1606—1684) — знаменитый французский драматург, один из теоретиков классицизма. Его трагедии ставились в России начиная с XVIII в.
- [7] Здесь — компонентах.
- [8] Золотую медаль Московского университета он получил много позже: в 1893 г. еюбыла удостоена его работа «Афинская полития» Аристотеля и «Жизнеописания» Плутарха.
- [9] Ходасевич В. Некрополь. М., 1996. С. 103.
- [10] Гершензон М. О. Статьи о Пушкине. М., 1926. С. 13.
- [11] Там же. С. 14.
- [12] Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 111—112.
- [13] Гершензон М. Видение поэта. М.: Госиздат, 1919. С. 31.
- [14] Рыбникова М. А. Работа словесника в школе. М.—Пг., 1922. С. 14—15.