Декабристы.
Социальная справедливость в русской общественной мысли
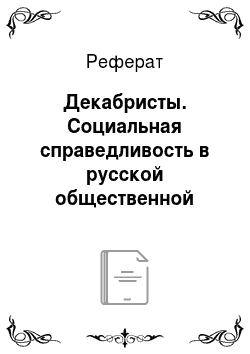
Значение Герцена для русской мысли в интересующем нас аспекте заключается в том, что он первым выдвинул мысль о том, что идея социализма, созревшая на западной почве, может осуществиться именно в России на благоприятной для нее основе крестьянской общины. Социализм при этом мыслился и как альтернатива буржуазному развитию в том виде, в каком оно проявилось на Западе, и как альтернатива… Читать ещё >
Декабристы. Социальная справедливость в русской общественной мысли (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Декабристы либо достижение договоренности с представителями еврейской общины о том, что евреи не должны «ставить себя в неприязненное отношение к христианам», либо переселение двух миллионов российских и польских евреев на территорию Азиатской Турции и создание там еврейского государства.
Общим у декабристов Северного и Южного общества было отрицание самодержавия и крепостничества и еще, пожалуй, тот «оледеняющий деизм», о котором писал впоследствии П. Я. Чаадаев, к рассмотрению взглядов которого мы и переходим.
Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856) вошел в историю русской мысли как автор единственного опубликованного при его жизни сочинения (первого «Философического письма»). На самом деле он написал гораздо больше, но практически все его сочинения и письма были опубликованы лишь после его смерти (некоторые письма не опубликованы и до сих пор). В 1808—1811 гг. он учился в Московском университете, поокончании которого участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в составе лейб-гвардии в заграничном походе русской армии. В 1821 г., пренебрегая открывающейся перед ним военной карьерой (его прочили в адъютанты Александра I), Чаадаев вышел в отставку. Путешествовал за границей, где познакомился со многими выдающимися учеными и философами, в том числе с Шеллингом. 1828—1831 гг. — годы так называемого затворничества Чаадаева, в течение которых он работал над главным своим произведением — «Философическими письмами». С 1831 г. Чаадаев начинает появляться в московском обществе и в последующие годы предпринимает неоднократные попытки опубликовать свое произведение. В 1833 г. он поселился во флигеле усадьбы Левашевых на Новой Басманной улице в Москве, где оставался до самой смерти. В сентябре 1836 г. в 15-м номере журнала «Телескоп» было напечатано (анонимно) первое «Философическое письмо», которое вызвало бурную (в основном негативную) общественную реакцию. По распоряжению Николая I издание журнала было прекращено, цензор А. В. Болдырев был уволен со своей должности и с должности ректора Московского университета, издатель Н. И. Надеждин сослан на год в Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), а Чаадаев объявлен сумасшедшим. Над ним был назначен медико-полицейский надзор, продолжавшийся до ноября 1837 г., когда он дал подписку ничего не печатать и ничего не писать. С этого времени его писания приобрели характер частных записок и «замечаний» на то или иное произведение его многочисленных друзей. Несколько особняком стоят «Отрывки и разные мысли», которые Чаадаев продолжал писать до самой смерти и которые как по объему, так и по глубине содержания следует отнести к лучшим его работам. Большое значение имеют также письма Чаадаев, особенно те, которые приобретали характер небольших трактатов на ту или иную тему.
Основная тема философии Чаадаева — историческая судьба России. Она явилась первым словом пробудившегося русского национального самосознания, на формирование которого в первой четверти XIX в. решающее влияние оказали победа России в войне с Наполеоном и поражение декабристов в 1825 г. на Сенатской площади. Мировоззрение Чаадаева сложилось в равной степени под влиянием обоих этих событий, чем и объясняется причудливое сочетание в нем элементов оптимизма и пессимизма. Из философских идей, имевших влияние на Чаадаева, особо следует отметить идеи французских традиционалистов (таких, как Ж. де Местр, Ф. Р. Ламенне и др.) и немецких идеалистов (в основном Ф. В. Шеллинга, но в какойто степени и И. Канта). В первом «Философическом письме» большого внимания заслуживает модель Запада, которую строит Чаадаев, считая, что Запад олицетворяет собой как бы тройственное единство: единство религии, единство культуры, единство нравственности. Исторические факты, противоречащие этой картине, Чаадаев отвергает либо осуждает (как, например, протестантизм). Западная Европа — единственно правильная форма цивилизации, и Чаадаев утверждает, что идеалы Царства Божия на земле (по его мнению, это основная цель социально-исторического развития) здесь в основном достигнуты. Все остальные цивилизации представляют собой более или менее извращенные формы европейской, тупиковые линии ее развития. Исключение Чаадаев делает лишь для исламского мира, сохраняющего верность идее монотеизма. Россия же, считает он, из-за принятия ею христианства от «презираемой всеми народами» Византии с самого начала своей истории оказалась как бы в промежуточном положении, не будучи цивилизацией ни европейской, ни азиатской, не будучи вообще «цивилизацией». Ее состояние можно сравнить с серединой магнита, которая не есть ни минус, ни плюс. В такой интерпретации исторического состояния России потенциально заложена возможность любого другого толкования. Один из вариантов такой интерпретации предложил впоследствии и сам Чаадаев, отчасти его реализовали славянофилы, для окончательного формирования идеологии которых первое «Философическое письмо» сыграло роль мощного катализатора. К частичному пересмотру своей концепции соотношения Запада и России Чаадаев приступил уже с начала 30-х гг. Непосредственной причиной этого пересмотра послужила Июльская революция во Франции 1830 г. — событие, которое ошеломило Чаадаев «У меня навертываются слезы на глазах, — писал он в сентябре 1831 г. А. С. Пушкину, — когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества»[1]. И в том же письме он так расценивает свою концепцию Запада: «Во мне это было верой, было легковерием бесконечным». Запад Чаадаева — это идеальная модель цивилизации. В первом «Философическом письме» она была отождествлена им с реальным историческим Западом, в 1830 г. он убедился в их несоответствии и еще раз, уже окончательно, убедился в этом в 1848 г., когда во многом соотношение России и Европы в его сознании поменялось местами. Однако в целом от «падения» Запада Россия мало что выиграла. Своей первоначальной оценке современного состояния России Чаадаев оставался верен до конца жизни. В своей поздней статье «L'Univers» он даже усугубил ее, считая, что Россия, «по-прежнему шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов», и к тому же теперь (во время Крымской войны) она вмешалась в политические дела Западной Европы («крутню Запада», по его выражению), и тем самым еще раз упустила свой шанс стать составной частью мировой цивилизации. Для этого России нужно только в ускоренном темпе, но вполне сознательно повторить у себя дома все этапы, пройденные Западной Европой в ходе ее исторического развития. Только в этом случае Россия может занять достойное место в мире; более того, Россия призвана разрешить все проблемы западноевропейской цивилизации. Легкая, почти невидимая грань отделяет подобные воззрения позднего Чаадаева от взглядов славянофилов. И тем не менее Чаадаев и славянофилы в целом стояли на противоположных позициях. Чаадаев уповал на развитие, звал вперед. Славянофилы мечтой жили в прошлом. Недаром Чаадаев окрестил их учения «ретроспективной утопией». Что касается современного состояния России, то оно оценивается лишь негативно: как постоянное и повсеместное отсутствие «идей долга, справедливости, права и порядка». Собственно философские взгляды Чаадаева, изложенные им во втором—пятом «Философических письмах», интересны гораздо меньше. Более плодотворной для будущего развития русской философии могла бы быть идея Чаадаева о синтезе философии, науки и религии, но поскольку эта его идея не была в полном объеме известна ни современникам, ни ближайшим по времени продолжателям, которые ставили перед собой подобную же цель, но решали ее вполне самостоятельно и независимо от Чаадаева, то и здесь приходится признать приоритет Чаадаева утраченным. Правда, это лишний раз подтверждает, что общее развитие мысли Чаадаева шло в правильном направлении. Наибольший интерес представляет историософия Чаадаев, которую он развивает в шестом— седьмом «Философических письмах». Здесь дан своеобразный прообраз идеи «осевого времени», сформулированной в XX в. К. Ясперсом. Прогрессивный ход развития мировой истории, по Чаадаеву, представляет собой последовательную смену форм монотеизма: ветхозаветный Израиль — протохристианское учение Платона — западноевропейское христианство (а именно католичество). Близок к «осевому времени» мусульманский Восток, очень далеки Япония, Китай, Индия (застывшие формы «уклонения»); Россия — пока нигде. Конкретные (и зачастую несправедливые) характеристики тех или иных исторических деятелей, которые дает Чаадаев, коробили многих его современников (в том числе и Пушкина), но в целом его историософия могла быть усовершенствована и в деталях уточнена. Заслуга Чаадаева состоит в том, что он первым в России начал мыслить систематически, научил русских людей «западному силлогизму». Он автор первой в истории русской мысли системы, которая синтезирует в себе религию, философию, историософию и то, что сегодня можно назвать социологией (в широком смысле слоГлава 8. П. Я. Чаадаев
ва). Эта система в отдельных своих пунктах подлежит критике, с ее частностями можно спорить и не соглашаться, но остается фактом, что только после Чаадаева русская философия стала философией в подлинном смысле слова. Идеи Чаадаева, оставаясь в течение долгого времени неизвестными в полном своем объеме, оказали мощное влияние (хотя иногда довольно опосредованным путем) на славянофилов и западников, почвенников, консерваторов и либералов. Одним из своих предшественников считали Чаадаева авторы сборника «Вехи» (1909). Многие идеи Чаадаева самостоятельно и в более развитой и систематической форме повторил В. С. Соловьев. «След, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу?»[2].
Младшим современником Чаадаева был Владимир Сергеевич Печерин (1807—1885), имя которого уже упоминалось. В 1831 г. он окончил филологический факультет Петербургского университета, обнаружив большие способности к древним языкам и классической филологии. С 1833 по 1835 г. Печерин с группой молодых ученых был в Германии (в Берлинском университете) с целью завершения образования. Вернувшись в 1835 г. в Россию, в звании и. о. экстраординарного профессора в течение семестра читал лекции по классической философии в Московском университете. Летом 1836 г. он навсегда покинул Россию (лишен российского подданства решением Сената в 1848 г.). В 1840 г. Печерин принял католичество, а в 1843 г. стал католическим священником. В течение 20 последующих лет он жил во Франции, Англии, Ирландии, получил известность как блестящий проповедник и оратор. Литературное наследие Печерина невелико по объему и состоит из писем, поэтических произведений, воспоминаний, известных под названием «Замогильные записки». Вообще все его творчество воспринимается только на фоне его личности: та или иная трактовка его личности предопределяет и оценку его творчества. В истории русской культуры Печерин — фигура символическая. Наиболее удачная формула-характеристика Печерина принадлежит Н. П. Анциферову: «Агасфер русской интеллигенции»[3]. С точки зрения Анциферова, в поэме Печерина «Торжество смерти» «в образе Петербурга проклятию предается весь период русского империализма, символом которого была Северная Пальмира»[4]. Из праведного негодования по поводу деспотического политического режима вырастает характерный для Печерина национальный нигилизм (его стихотворение, начинающееся со слов «Как сладостно отчизну ненавидеть…», приведено выше). Эти «безумные строки», ставшие впоследствии печально знаменитыми, Печерин, по его собственному признанию, написал в Берлине.
«в припадке байронизма»[5]. А. И. Герцен, посвятивший Печерину особую главу в VII части «Былого и дум», отмечает: «И этот грех лежит на Николае»[6]. Печерин принадлежал к тому слою невостребованных интеллектуалов («лишних людей», «интеллигентов»), которые не желали идти на службу в бюрократические структуры и не видели лично для себя выхода из сложившейся ситуации. Россию Печерин, как и П. Я. Чаадаев, представлял в образе Некрополиса (города мертвых), делать в котором ему было нечего. Субъективно свое положение в России Печерин представлял как жесткую альтернативу: либо духовная смерть, либо побег. Он избрал последнее. Характерно, что, очутившись на Западе, Печерин некоторое время находился под влиянием идей христианского социализма (в частности, творчества французского религиозного философа Ф. Р. Ламенне). По-видимому, католические симпатии и решение переменить веру пришли к нему позднее. Современники Печерина (в том числе и из лагеря славянофилов) понимали, что его национальный нигилизм является оборотной стороной его патриотизма, интеллектуальной честности и незаурядной смелости. И все же нельзя не признать, что в его лице наиболее остро сказалась болезнь русского духа, несущая в себе (если не принять соответствующих мер) угрозу гибели. Именно поэтому Печерин представляет собой интерес для истории русской философии не столько конкретным содержанием своего мировоззрения, сколько своей личностью, в которой нашла своеобразное преломление вечная тема русской философии: интеллигенция — Россия — народ, Россия и Запад, православие и католичество, «героизм и подвижничество».
Переходя к «вечному русскому спору», т. е. к спору западников и славянофилов, следует прежде всего отметить, что такие огромные явления, представленные к тому же столь громкими именами, совершенно невозможно рассмотреть и проанализировать в рамках небольшой статьи. Поэтому существенные моменты этой интереснейшей полемики придется опустить и сосредоточить свое внимание исключительно на понимании и решении теми и другими проблемы справедливости. Для этого понадобится ограничить и круг рассматриваемых лиц. Выберем по одной фигуре из того и другого лагеря: А. И. Герцена от западников и А. С. Хомякова от славянофилов.
С. Н. Булгаков в 1902 г. начал свою статью о Герцене такими словами: «А. И. Герцен принадлежит к числу тех наших национальных героев, от одного имени которых расширяется грудь и учащенно бьется сердце»[7]. Прошло сто с небольшим лет и ситуация резко изменилась: сегодня от имени Герцена мало у кого расширится грудь, у некоторых она непременно даже сузится, большинство же, скорее всего, оно оставит равнодушным. Такую метаморфозу, наблюдаемую не один раз в истории России, объяснить в общем-то нетрудно: ведь известно, что декабристы разбудили Герцена, Герцен, в свою очередь, начал будить всех подряд, и чем в конце концов завершилась эта всеобщая «побудка» хорошо известно — уж лучше бы они все спали богатырским сном! Примерно так может подумать современный читатель, более или менее знакомый с историей России. О неправильности такой оценки говорилось выше. Достаточно сказать, что своим предшественником Герцена считали и кадеты, и социал-демократы, и народники, кое в чем с ним сходился даже К. Н. Леонтьев. Герцен — это такая страница русской истории, мимо которой не может пройти никто. Его можно представить и как первого русского правозащитника, и как борца за свободу личности. Перефразируя слова Булгакова о Герцене, можно сказать, что личность Герцена выше его философии[8].
Значение Герцена для русской мысли в интересующем нас аспекте заключается в том, что он первым выдвинул мысль о том, что идея социализма, созревшая на западной почве, может осуществиться именно в России на благоприятной для нее основе крестьянской общины. Социализм при этом мыслился и как альтернатива буржуазному развитию в том виде, в каком оно проявилось на Западе, и как альтернатива российскому крепостничеству. Несмотря на то, что Герцен — автор замечательной книги «О развитии революционных идей в России», сам он к революции не призывал, а напротив, выдвинув свою идею «русского социализма», считал, что благодаря ей Россия сможет избежать тех негативных моментов, которых не удалось избежать Западной Европе (здесь Герцен развивает мысль Чаадаева о том, что отсталость России может стать ее преимуществом). Оказавшись на Западе, Герцен стал свидетелем кровавой революции в Европе и с тех пор был решительным противником «вспышкопускательства». Герцен не стал звать «Русь в топоры», как ему советовал Н. Г. Чернышевский, после чего от него отвернулась значительная часть революционно настроенной разночинной интеллигенции. Кроме того, он выразил свое одобрение реформам, начатым Александром II в статье с выразительным названием «Ты победил, галилеянин!» После поддержки им польских повстанцев в 1863 г. от него отвернулась и либерально настроенная часть русской интеллигенции. Умер Герцен в Париже в почти полной изоляции от тех «штурманов будущей бури», которых он якобы сам и пробудил.
По-другому, но не менее трагично сложилась и судьба признанного вождя и родоначальника партии славянофилов.
Алексей Степанович Хомяков (1804−1860) в 18-летнем возрасте сдал экзамен при Московском университете на степень кандидата математических наук, затем служил в армии. Был знаком со многими декабристами, но, не разделяя их политических взглядов, выступал против «военной революции». В 1829 г. он вышел в отставку и посвятил себя литературной и общественной деятельности. Хомяков известен как философ, богослов, поэт и публицист. Ему принадлежит разработка идеи соборности — специфического понятия русской философии, не имеющего точных эквивалентов в других языках. Этимологически понятие соборности связано со словом «собор», имеющим два основных значения: 1) собрание выборных или должностных лиц, созванное для решения каких-либо вопросов, 2) храм для совершения богослужения духовенством нескольких церквей.
По Хомякову, церковный Собор выражает идею «единства во множестве»[9], и в этом смысле православная Церковь, органично сочетая в церковной жизни два трудно соединимых принципа: свободу и единство, противоположна католической и протестантским церквам. В католической авторитарной церкви, считает Хомяков, есть единство без свободы, в протестантизме — свобода без единства, и только в Православии принцип Соборности, — хотя он и не осуществлен в ней во всей полноте — осознан как высшая Божественная основа Церкви. Историки русской мысли, отмечая близость концепции Соборности у Хомякова ряду концепций западноевропейских мыслителей (И. Канта, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха, О. Конта и главным образом немецкого католического богослова И. А. Мелера), все-таки считают ее вполне оригинальной. Идея Соборности после Хомякова стала основной идеей всего славянофильства (хотя далеко не все славянофилы употребляли само это слово). И. В. Киреевский, считая, что «развитие самобытного православного мышления… должно быть общим делом всех людей верующих и мыслящих»[10], по мнению В. В. Зеньковского, «подходит совсем близко к учению о Соборности» А. С. Хомякова[11]. Некоторую «социологизацию» понятия Соборность находим уже у К. С. Аксакова, который фактически отождествляет Соборность и общину, в которой, по его мнению, «личность свободна, как в хоре»[12]. Это уже определенный шаг назад по сравнению с Соборностью Хомякова, который все же понимал ее не как данность, а как заданность.
Дальнейшее развитие идея Соборности получила у В. С. Соловьева, который, по-видимому, вполне сознательно отказался от самого этого термина, желая тем самым отмежеваться от славянофильства (главным образом от его «эпигонов»). У Соловьева понятие Соборности трансформировалось в понятие «всеединства», которое он сам определяет следующим образом: «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не на счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, отрицательное, единство подавляет или поглощает входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия»[13]. Термин «Соборность» в русской философии возродил последователь В. С. Соловьева кн. С. Н. Трубецкой, который в своем учении о «соборной природе сознания» (в цикле статей «О природе человеческого познания») развивает и углубляет то, что было уже у А. С. Хомякова и И. В. Киреевского с учетом «философии всеединства» В. С. Соловьева. Идеал Соборности у С. Н. Трубецкого означает совпадение религиозны, нравственных и социальных начал и противостоит как индивидуализму, так и социалистическому коллективизму.
В эпоху «между двух революций» определенный «возврат к славянофилам» наметился у символистов, главным образом у В. И. Иванова, который, исходя из «предчувствия» «новой органической эпохи», создает свою театрально-эстетическую утопию, должную увенчаться повсеместной театрализацией жизни (страна «покроется орхестрами и фимелами») и созданием «обновленного соборного духа»[14]. При этом Иванов (как и его «консультант по философским вопросам» В. Ф. Эрн) опирался на идеи славянофилов о Соборности с учетом сказанного по этому поводу В. С. Соловьевым, С. Н. Трубецким и Ф. М. Достоевским (особое значение приобрела здесь идея «русского социализма» у последнего). Кроме того, в утопии В. И. Иванова нашла свое отражение концепция античности Ф. Ницше с ее диалектикой двух начал: аполлонийского и дионисийского. Аполлонийское начало, по Ницше и Иванову, символизирует меру, гармонию и вместе с тем начало индивидуации. Средством преодоления этого начала является начало дионисийское, начало коллективизма, Соборности, слияния всех воедино и — что, может быть, имеет наибольшее значение для России, — начало или принцип опьянения. В пародийно-трагическом виде этот идеал и был осуществлен большевиками: страна покрылась «орхестрами» и «фимелами» («тройками» и концлагерями), а учение о Соборности трансформировалось в лживый пропагандистский тезис о «монолитном единстве партии и народа».
В эмиграции понятие Соборности активно разрабатывал С. Л. Франк, который под Соборностью понимал «внутреннее органическое единство», лежащее в основе всякого человеческого общения, всякого общественного объединения людей. Первичной и основной формой Соборности Франк считал единство брачносемейное, затем религиозную жизнь и, наконец, «общность судьбы и жизни всякого объединенного множества людей»[15].
Строгое церковно-богословское значение термину «Соборность» вернули С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский. По Булгакову, Соборность (или «кафоличность») есть душа Православия и означает вселенскость, единую жизнь в единой Истине[16]. П. А. Флоренский отчасти возвращается к Соборности в понимании А. С. Хомякова. «Кафолический», или соборный, по его мнению, есть всеединый. «Но при действительной кафоличности формы Церкви содержание ее кафолично не в действительности, а только в возможности. В действительности же для вещества Церкви — верующих — кафоличность есть такая же задача, как и единство и нравственное совершенство»[17].
В современной светской русской философии наиболее удачным и приемлемым эквивалентом (а в каком-то смысле и альтернативой) понятия Соборности является понятие «солидарности», разработанное российским философам и-солидаристам и (главным образом С. А. Левицким, опирающимся, в свою очередь, на идеи Н. О. Лосского и С. Л. Франка). Понятие солидарности (или, более строго, «солидаризма») позволяет несколько смягчить абсолютизм и категоричность понятия Соборности и построить ее иерархию от солидарности внутрисемейной до общечеловеческой.
Мы специально так подробно остановились на понятии соборности, выдвинутом А. С. Хомяковым, чтобы показать: в длительной исторической перспективе идеи славянофилов оказались не менее жизнеспособными, чем идеи западников. Что касается точек соприкосновения западников и славянофилов, то их было немало. Укажем две: отрицание крепостничества и резкие неприятие царящего в тогдашней России произвола.
А. С. Хомякову принадлежат, например, такие строки, обращенные к России, которые можно было бы при незнании их настоящего автора приписать кому-нибудь из западников:
В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной, И лени мертвой и позорной, И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья, Ты избрана…[18]
Недаром А. И. Герцен сравнивал западников и славянофилов с двуликим Янусом: их головы смотрели в разные стороны, но сердце в груди билось одно.
- [1] Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 71.
- [2] Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1991. Т. 2. С. 284.
- [3] Анциферов Н. П. Указ. соч. С. 92.
- [4] Там же. С. 94.
- [5] Замогильные записки // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989. С. 161.
- [6] Герцен А. И. Указ. соч. М" 1957. Т. 6. С. 387.
- [7] Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии. 1895—1903. М"2006. С. 538.
- [8] У Булгакова: «Философия Герцена ниже его личности». (Там же. С. 570. — Курсив автора).
- [9] Хомяков А. С. Полное собрание сочинений: В 8 т. М., 1900. Т. 2. С. 312.
- [10] Киреевский И. В. Сочинения: В 2 т. М., 1911. Т. 1. С. 270.
- [11] Зеньковский В. В. Указ соч. Т. 1.4. 2. С. 18.
- [12] Там же. С. 36.
- [13] Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 552.
- [14] Иванов В. И. Борозды и межи. М., 1916. С. 275.
- [15] Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 58−59.
- [16] Булгаков С. И. Православие. М., 1991. С. 145 150.
- [17] Флоренский П. А. Понятие Церкви в Священном Писании // Богословскиетруды. М., 1974. Сб. 12. С. 129.
- [18] Хомяков Л. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 136—137. Цитата из стихотворения «России» (1854).