Джон милтон (1608—1674)
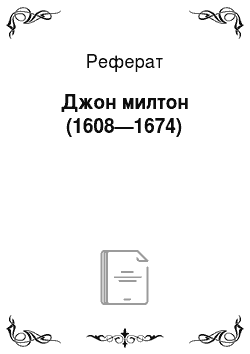
Однако этот путь не был прямым и легким. К работе над эпопеей Милтон всерьез приступил лишь много лет спустя. Пока же грозные события близящейся английской революции и гражданской войны почти целиком поглотили поэта. Вернувшись из поездки в Италию, Милтон вскоре включился в яростную полемику, которая закипела тогда в Англии. Отныне не поэзия, но проза надолго стала главным занятием его жизни. Его… Читать ещё >
Джон милтон (1608—1674) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Джон Милтон, бесспорно, является одним из самых крупных поэтов в истории английской литературы. Недаром же его соотечественники уже вскоре после смерти поэта поставили его на второе место после Шекспира. Влияние Милтона на английскую поэзию XVIII и XIX вв. было огромным. И хотя в XX в. поэта не раз критиковали за некоторые его идеи и даже за манеру стиха, он и сейчас прочно стоит на поэтическом Олимпе, привлекая к себе все новые поколения читателей.
Будущий поэт получил прекрасное образование в духе христианского гуманизма Ренессанса и XVII в. Еще в школе он свободно владел латинским и греческим языками, а позднее и древнееврейским. Великолепно знал он и современные европейские языки — итальянский и французский. По его собственным воспоминаниям, он с двенадцатилетнего возраста редко ложился спать раньше полуночи, отдавая все свои силы чтению и делая это не только по необходимости, но и ради удовольствия. Уже в 15 лет он попробовал свои силы и в поэзии, написав пока еще малооригинальное рифмованное переложение нескольких псалмов и тем отдав дань протестантской традиции, восходящей в Англии к началу XVI в.
После лондонской школы Милтон продолжил свое образование в Кембридже (1625—1632). Ему мало понравилась схоластическая философия, которую преподавали в университете, и он увлекся идеями платонизма, которые на манер Ренессанса пытался сочетать с христианской доктриной. Так еще в ранней юности начался длительный и упорный поиск собственного пути и в философии, и в религии, и в искусстве.
Свои первые стихи Милтон писал в основном по латыни (лишь одна треть его ранней лирики написана по-английски), опираясь на богатую традицию не только античности, но и Возрождения. Эти латинские стихи, часть из которых, очевидно, представляла собой нечто вроде школьных упражнений, наглядно демонстрируют быстро растущее мастерство поэта. Интересны они и тем, что в них Милтон сразу же занял резко антикатолическую позицию (эпиграммы «На пороховой заговор») и в гораздо большей мере, чем в английских стихах, затронул личные чувства. (Во всяком случае любовной лирики на родном языке поэт никогда не писал.).
Однако постепенно увлечение Овидием и другими римскими мастерами слова сменилось интересом к Данте, Петрарке и Эдмунду Спенсеру. Милтон очень рано осознал свое призвание поэта и понял, что писать он должен на языке Чосера и Шекспира. Его первое дошедшее до нас английское стихотворение «На смерть прекрасного ребенка, умершего от кашля» (1628) еще во многом подражательно. Милтон следует здесь традиции мелодического стиха Спенсера, а оригинальные интонации звучат лишь изредка. Кроме того, юный поэт пока еще не сумел художественно убедительно сплавить античные и христианские элементы эпитафии.
Но зато в следующем стихотворении — оде «На Рождество Христово» (1629) Милтон одержал свою первую творческую победу. В оду вошло написанное чосеровской королевской строфой введение и виртуозно отделанный гимн, состоящий из придуманных автором восьмистрочных строф со строками разной длины (трехстопные, четырехстопные, пятистопные и заключительный александриец) с весьма сложной рифмовкой (ааЗ, Ь5, ссЗ, d4, d6)‘. Тема[1]
оды — не столько ставшая уже привычной в подобных стихотворениях трогательная история рождения младенца Христа, сколько размышления автора о смысле Его воплощения. Вся пораженная первородным грехом природа ждет прихода Спасителя, Его рождению сопутствует неожиданно наступивший мир и покой, но само это рождение предвосхищает и день Страшного Суда, за которым последует вечное блаженство праведников. Развивающая традицию мелодического стиха Спенсера, ода искусно обыгрывает контрастные образы света и тьмы, музыки (гармонического порядка) и грубого шума (хаоса). Во всей оде уже видна рука будущего мастера. Написанное поэтом, которому только исполнился двадцать один год, стихотворение поражает цельностью общей панорамы и точной продуманностью каждой детали (в дальнейшем это станет характерной чертой всей поэзии Милтона). В отличие от недавней эпитафии античная традиция теперь уже органично сочетается с христианской. Аллюзия в XIV строфе оды на возвестившую возврат золотого века четвертую эклогу Вергилия, где, как считали в Средние века, было предсказано рождение Христа, получает закономерное развитие в следующей строфе с ее ссылкой на 84-й псалом с его не менее знаменательными строками о том, что «милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (11), в которых, согласно общепринятому христианскому толкованию, названы добродетели, явленные Христом. В целом же стихотворение — лучшее из написанного ранним Милтоном в спенсеровской традиции. Это блестящий эксперимент в духе барочной эстетики, проба пера, которая отлично удалась юному поэту.
Ища свой путь, Милтон испытал силы в традиции Донна и метафизиков. Под их влиянием он начал писать «Страсти» (1630?), но не закончил стихотворение, признав, что тема страстей Христовых была ему пока еще не под силу. (Впрочем, и позже он также избегал ее.) Кроме того, манера метафизиков в общем-то мало соответствовала своеобразию его таланта. Тем не менее он обратился к ней еще раз, написав еще одно стихотворение, знаменитую эпитафию Шекспиру, которую включили во второе фолио драматурга (1630). Милтон, как и Бен Джонсон, признавая величие Шекспира, видел в нем чудо природы, гения, писавшего спонтанно, по вдохновению и не заботившегося об отделке своих произведений. (Такой взгляд был характерен для большинства критиков XVII—XVIII вв.). Все стихотворение проникнуто неподдельной любовью к автору «Гамлета» и «Лира». Недаром же Милтон называет его «мой Шекспир». В ранней лирике поэта много аллюзий из Шекспира, а в дальнейшем в зрелом творчестве Милтона, «Потерянном рае» и.
«Самсоне-Борце», связь с Шекспиром станет еще более прочной и глубокой.
Юный Милтон экспериментировал и с третьей поэтической традицией эпохи, сочиняя стихи в духе Бена Джонсона, чья эстетика была ему ближе, чем поиски метафизиков. Так, в стиле Джонсона он сочинил эпитафию на смерть маркизы Уинчестерской (1631). Но особенно ярко джонсоновское сочетание классической строгости и утонченной манеры речи, сжатость и выразительность слога, грациозная изысканность формы, а также интерес к теории «юморов», позволяющий выделить доминирующую черту характера, проявили себя в диптихе Милтона с итальянским названием — «L'Allegro» («Веселый») и «II Penseroso» («Задумчивый»), который поэт, как полагает большинство исследователей, написал еще в Кембридже.
Стихотворения, вошедшие в диптих, образуют единое художественное целое, где обе части объединены по принципу эстетики барочных контрастов. Милтон противопоставляет два настроения лирического героя — веселье, далекое, впрочем, от бездумного легкомыслия, и светлую меланхолию, мало похожую на гамлетические сомнения. Спутники веселой Ефросины, одной из трех граций, — «игры, плутни, пыл, задор,/Непринужденный разговор» (пер. Ю. Корнеева). Меланхолию же сопровождают «терпенье,/Раздумье, самоотреченье». В первом стихотворении действие разворачивается в дневные часы, от раннего утра до заката солнца, во втором — в основном вечером и ночью. День веселого героя, начавшись с песни жаворонка, проходит на фоне своеобразной пасторальной георгики, а к вечеру мысли молодого человека обращаются к рыцарским турнирам, поэзии и музыке. Задумчивый же герой слышит песни соловья и отдаленный звон колокола, возвещающего вечерню, а его комнату в башне, где он предается уединенным штудиям, освещает свет лампы. Оба героя увлечены чтением. Но если веселый читает рыцарские романы, а также комедии Бена Джонсона и поздние драмы Шекспира, то задумчивый предпочитает Платона, Гермеса Трисмегиста, Софокла, Эсхила и Еврипида, а также Чосера, Тассо и Эдмунда Спенсера. Второе стихотворение кончается там, где началось первое — на рассвете.
Основанные на контрастном параллелизме, оба стихотворения дополняют друг друга, но второе на несколько строк длиннее. Очевидно, автор все же предпочитает задумчивость, внутреннюю сосредоточенность. Однако она важна для него не сама по себе, но как более высокая ступень по сравнению с веселыми забавами жизни; созерцание же, в свою очередь, на неоплатонический манер должно повести героя вверх, от уединенного размышления к познанию Бога.
Милтон очень точно продумал каждую деталь, обыграв все контрасты, но этот авторский «расчет» совсем незаметен. Стих диптиха льется совершенно непринужденно, вызывая восхищение легкостью и музыкальностью. Здесь поэт впервые проявил себя сложившимся художником, овладевшим секретами мастерства. Более поздняя поэзия Милтона сложнее и глубже, но никогда более он не писал так легко и свободно.
Получив ученую степень в Кембридже (1632), Милтон решил продолжить образование самостоятельно (дома в Лондоне и в Хортоне, отцовском поместье неподалеку от столицы) и глубже изучить историю, философию и литературу. Деловая карьера никогда не интересовала его, да и от желания принять духовный сан, о чем он помышлял в университете, поэт постепенно отказался. В период уже начавшегося предреволюционного брожения англиканская церковь все больше отталкивала его, и его симпатии начали склоняться к пуританству. Большую часть времени в 30-е годы Милтон уделял занятиям, постепенно становясь одним из самых образованных людей своей эпохи, чью эрудицию признали и за границей — в Италии и Франции, куда поэт отправился, чтобы завершить учение (1638—1639). Главной же его целью было подготовить себя к служению эпического поэта.
Эта подготовка отнимала у Милтона почти все силы, и писал он в это десятилетие довольно мало. Такая медлительность временами беспокоила поэта и его близких. Милтон попытался объяснить свое поведение в латинском послании «К отцу» (1632, но, возможно, и позже, вплоть до 1638), изложив там свои мысли о высоком предназначении поэта:
Не презирай же творений певца, вдохновенных вещаний, Ибо они, как ничто, являют души человечьей Вышний эфирный исток, семена небесного сева, И Прометеевых искр хранят священное пламя.
(перевод М. Гаспарова)
Даже если принять во внимание полушутливый тон эпистолы, эти и подобные им строки говорят сами за себя.
И тем не менее сомнения все же не оставляли Милтона. Он поведал о них в сонете «На достижении мною двадцати трех лет»:
Как быстро Время, ловкий юнокрад, На крыльях двадцать три уносит года!
Но мчатся дни — а все скудна природа Весны моей, что медлит невпопад.
И — внешне юн — себя на мрачный лад Настраиваю — не к лицу ль невзгода, Коль внутренняя зрелость и порода Не так в чести, как мужественный взгляд?
Но — больше, меньше ль мужества, но — скор Иль робок шаг мой к зрелости, измерен Он в соответствии с судьбою строго, Высокой или нет, но я уверен, Что Провиденье с Временем сей спор Решат: урок мой пред очами Бога.
(перевод Л. Прокопьева)
Ранее Милтон написал несколько любовных сонетов на итальянском языке в подражание Петрарке. Но здесь юный поэт, возможно, оттолкнувшись от опыта Донна, трансформировал традицию. Он решительно отказался от любовной тематики, наполнив стихотворение малопривычными для жанра личностными размышлениями. Легко увидеть здесь типичное для пуританства погружение в себя, дотошный самоанализ в сочетании с твердой верой в свое призвание, в тот особый путь, которым Бог ведет верных. Не нужно, однако, забывать, что призвание это поэтическое и потому с точки зрения радикально настроенных пуритан — греховное. Еще в XVI в. Филип Сидни защищал поэзию от подобных нападок пуритан, и Милтон в данном сонете, очевидно, продолжил эту традицию умеренного крыла английских протестантов.
Те немногие произведения, которые Милтон сочинил в 30-е годы, написаны в основном «на случай» или по заказу. Но это вовсе не значит, что они легковесны или малоинтересны. И в них тоже поэт поднимал волновавшие его вопросы и делал это, как всегда, серьезно, с полной отдачей. Таковы, например, написанные твердой рукой еще юного мастера стихотворения «К времени» и «К высокой музыке», где Милтон, глядя на бег часовых стрелок или слушая музыку, размышляет о парадоксе тленного и вечного, сиюминутного и бесконечного. Поэт осмысляет этот парадокс в духе христианского вероучения, совмещая его догматы (особенно во втором стихотворении) с неоплатоническими идеями о музыке сфер.
По заказу в эти годы Милтон сочиняет две пьесы-маски «Аркадийцы» (1632?) и «Комос» (1634). Подобные пьесы были тогда очень популярны. Они предназначались не для профессиональной сцены, но были рассчитаны на любительскую постановку при королевском дворе или во владениях какого-либо вельможи. Увлекались ими и студенты. Для масок шили роскошные костюмы и сооружали замысловатые декорации, а также писали музыку и ставили танцы. Почти всегда эти пьесы заказывали по какому-либо особому поводу (визит короля, свадьба, день рождения и т. д.). И главным в таких постановках был не столько поэт, хотя Бен Джонсон, например, сочинял для них прекрасные стихи, сколько режиссер, соединявший воедино все элементы театрального действа.
«Аркадийцы», по словам самого поэта, были частью представления, данного в честь вдовствующей графини Дерби и исполненного «благородными членами ее семьи, которые появлялись на сцене в пастушеском одеянии». В текст пьесы вошли три очаровательные песни-комплимента, а в главном монологе гения леса Милтон, опираясь на пасторальную традицию, вернулся к уже знакомой теме музыки сфер, которая, воплощая небесную гармонию, поддерживает порядок и на земле.
Особенно интересна вторая маска — «Комос», написанная в честь трехлетней годовщины назначения графа Джона Бриджуотера генерал-губернатором Уэльса и поставленная в замке Ладлоу. (Дети графа исполняли здесь главные роли. Духа-хранителя играл известный композитор Джон Лоуз, покровительствовавший поэту, а на роль Комоса скорее всего пригласили актера-профессионала.) Сюжет «Комоса» довольно прост, как и положено в жанре маски. Молодая героиня (ее зовут просто Леди) вместе с двумя младшими братьями отправляется в замок отца. Путь юных героев лежит сквозь лесную чащу, где царствует злой волшебник Комос, сын Вакха и Цирцеи. Дети сбиваются с пути, и братья на время оставляют героиню. Воспользовавшись этим, Комос обманом завлекает ее в свои владения, уговаривает отведать волшебный напиток и предаться радостям плоти, но Леди стойко отвергает его домогательства. В конце концов братья с помощью Духа-хранителя проникают в покои Комоса и прогоняют его, а нимфа Сабрина освобождает Леди из заколдованного кресла, куда ее поместил злой волшебник. Согласно законам жанра, добродетель побеждает порок, и действие благополучно завершается песнями и танцами.
Но, следуя традиции, Милтон в то же время и отступает от нее. Мысли поэта явно тесно в узких рамках жанра. Серьезность поднятых проблем, их религиозное осмысление плохо согласуются с привычной для маски развлекательностью, но именно эти черты вписывают пьесу в общий контекст творчества ее автора.
Комос и Леди исповедуют два противоположных взгляда на жизнь, две крайние философские позиции. Злой волшебник разделяет воззрения гедонистов, искавших чувственных радостей и призывавших ловить мгновение. Пытаясь соблазнить героиню, он говорит:
Краса — монета звонкая природы, И не беречь ее, а в оборот Пускать должны мы, чтоб она дарила Нам радости взаимные, которых Не вкусишь в одиночку. Увядают Упущенные годы, словно розы.
Не срезанные вовремя. Краса —.
Венец творенья, и ее призванье —.
Блистать на празднествах и во дворцах.
Где знают цену ей.
(перевод Ю. Корнеева)
Прославление чувственных радостей было хорошо знакомо Милтону как по античной литературе, так и по литературе Ренессанса. Эта же тема стала главной и в творчестве современных поэтов-кавалеров, с которыми автор «Комоса» совершенно явно полемизировал, сочиняя свою пьесу-маску.
Доводы Комоса звучат страстно и по-своему убедительно, но они не трогают героиню. Леди исповедует доктрину целомудрия, понимаемую Милтоном как героическая доблесть, которая вовсе не сводится к воздержанию, но воплощает собой особый образец совершенства, платонический идеал блага, осмысленный на христианский манер:
Клевещешь на природу ты, твердя, Что цель ее щедрот — нам дать возможность Излишествовать. Нет, она дарует, Питательница наша, их с условьем Не нарушать ее святых законов И строгую умеренность блюсти…
Но не довольно ль слов? Тому, кто смел С кощунственным презрением глумиться Над Чистотой, как солнце лучезарной, Могла б сказать я много. Но зачем?
Ни слухом, ни умом ты не воспримешь Тех сокровенных и высоких истин, В которые не вникнув, невозможно Значенье целомудрия постичь.
(перевод Ю. Корнеева)
Так в творчестве Милтона возникает тема искушения, тема осмысленного в религиозном духе нравственного выбора между добром и злом, рядящимся в одежды добра, которая потом снова встанет перед героями поздних произведений поэта (и перед Евой, и перед Христом, и перед Самсоном) и получит там более глубокое и художественно убедительное воплощение. Что же касается самого носителя зла — Комоса, то его образ — это первый набросок грандиозного характера Сатаны из «Потерянного рая».
Без сомнения, самым совершенным произведением молодого Милтона стала его траурная элегия «Люсидас» («Ликид»), написанная в 1637 г. на смерть Эдварда Кинга, одного из соучеников поэта по Кембриджу. Корабль, на котором плыл Кинг, затонул неподалеку от Англии в Ирландском море. Кинг был моложе Милтона, но они, безусловно, знали друг друга, хотя, может быть, и не очень близко. Тем не менее многое объединяло их. Оба писали стихи; оба в студенческие годы собирались принять духовный сан, и Кинг, в отличие от Милтона, остался верен этой идее. Кроме того, Милтон тоже в ближайшее время собирался отправиться в путешествие по морю. В смерти своего бывшего соученика поэт, окончательно перешедший в эти годы на позиции пуританства, скорее всего, увидел не досадную случайность (корабль натолкнулся на скалы), но особое действие промысла Божия и задумался и о своей собственной участи. Кто знает, вдруг и его, Милтона, Бог тоже вскоре призовет к Себе, не дав возможности раскрыть свои таланты.
Однако все личное скрыто в поэме благодаря условностям жанра пасторальной элегии. Сочиняя ее, Милтон откровенно обыгрывал богатую традицию, как античную, так и ренессансную (Феокрит, Бион, Мосх, Вергилий и, конечно же, Эдмунд Спенсер). Но взятое у предшественников (скорбь по умершему пастуху, траур природы, погребальное шествие и т. д.) поэт переосмыслил на свой лад, создав совершенно оригинальное произведение, которое стало лучшей английской траурной элегией. Стихотворения, написанные позже в этом жанре даже такими крупными мастерами, как Шелли или Мэтью Арнолд, явно проигрывают рядом с «Люсидасом».
Блестяще отделанная в каждой мелкой детали, элегия Милтона совершенно необычна по форме. Она состоит из 11 строф, разнящихся по длине — от 10 до 31 строки. Некоторые строки рифмуются, но вне жесткой закономерности, другие не имеют рифм. Размер — пятистопный ямб, хотя 14 строк написаны трехстопным ямбом. Интересно, что эти строки рифмуются не друг с другом, но со строками с пятистопным ямбом. Эпилог же по контрасту со всем предыдущим текстом неожиданно возвращает читателя к более привычной форме римской октавы. В целом, поэма состоит из пролога, трех частей, каждая из которых имеет свою длину, и эпилога. Изучив текст «Люсидаса», ученые пришли к выводу, что, сочиняя элегию, Милтон скорее всего отталкивался от модели итальянской канцоны, описанной Данте в трактате «О народной речи» и знакомой поэту по произведениям Тассо («Аминта») и Гварини («Верный пастух»). Если это так, то и эту традицию Милтон повернул в нужном ему русле, создав произведение, где намеренная условность сочеталась со свободой формы.
В прологе поэт Заявляет тему элегии:
Мертв Люсидас. До срока мир лишился Того, кому нет равных меж людей.
Как не запеть о нем, коль песнопеньям Меж нами каждый у него учился?
Так пусть к нему, кто на гребне зыбей Качается теперь в гробнице влажной, Доносит ветер горький плач друзей!
(здесь и далее перевод Ю. Корнеева)
Согласно пасторальной традиции, и герой (Кинг), и автор (Милтон) предстают в элегии в условных образах пастухов. Первая часть начинается с ностальгических нот: автор обращается мыслью к счастливым дням прошлого, которые оба юных пастуха проводили вместе, деля труд и забавы. Но «ты, пастух, ушел», и природа скорбит по ушедшему. Как боги могли допустить эту смерть? Автор, упрекнув было нимф, вспоминает, что даже муза Каллиопа не сумела спасти своего сына, величайшего из поэтов — Орфея, которого пьяные вакханки разорвали на части. Так в чем же тогда смысл жизни? Нужен ли был тот упорный труд, которому предавались юные пастухи, рассчитывая прославиться как поэты, если «слепая фурия» в тот миг, когда «цель уже видна» оборвала «нить краткой жизни»? В ответ на эти вопросы, напоминающие горькие сетования Иова, Феб с неба отвечает автору, что истинная слава не живет на бренной земле:
Увенчивает ею не молва, А лишь один владыка естества, Всезрящий и всевидящий Юпитер.
Лишь в горных сферах, где вершит он суд, Награды или кары смертных ждут.
Так столь важная для Милтона христианская проблематика вторгается в условно-античные декорации элегии. Ведь в древности у Юпитера вовсе не было функций судьи, выносящего окончательный приговор «в горных сферах». Первые читатели элегии хорошо знали, что это прерогатива иудеохристианского Бога, который лишь надел здесь античные одежды.
Во второй части элегии религиозная проблематика выступает на передний план. По-английски слово «shepherd» означает как «пастух», так и «пастырь». Обыгрывая это, Милтон вспоминает Кинга теперь уже как не успевшего состояться «доброго пастыря». Добрые пастыри так нужны сейчас в Англии:
Как жаль, что добрый пастырь умирает.
Но здравствует и процветает тот.
Кто не о стаде — о себе радеет…
Поэт не скрывает своих радикально-пуританских пристрастий. Присоединившийся к погребальному шествию апостол Петр «с двумя ключами», открывающими и закрывающими вход на небо, выступает с грозными обличениями англиканского духовенства, этих волков, рядящихся в овечьи шкуры, и предсказывает грядущую в скором времени кару.
В духе пасторальной традиции третья часть начинается с перечня цветов, которые «нальют слезами чашечки свои». Тело пастуха погребено в морской пучине, и холодные волны носят его прах. Смерть, казалось бы, празднует свою победу, а человек бессилен перед лицом безжалостной природы. Однако это не так:
Но, пастухи, смахните слезы с глаз.
Довольно плакать, ибо друг наш милый Жив, хоть и скрылся под водой от нас.
Языческие и христианские мотивы неразрывно сливаются в этих строках. Ничто в природе не умирает, но все возрождается и обновляется, подобно солнцу, спрятавшемуся на ночь и снова встающему утром. Так и душа умершего, обретя новую жизнь, возносится на небо:
Уйдя на дно, наш друг вознесся разом По милости Творца земли и вод К нездешним рекам и нездешним кущам. Где хор святых угодников поет Хвалу перед Престолом присносущим.
Жизнь победила смерть. В этом финальном видении потустороннего блаженства смерть осмысляется как новое рождение, а человек и враждебные ему природные стихии примиряются. Люсидас, найдя утешение в раю, вместе с тем стал покровителем плавающих по морю, добрым духом, через которого людям даруется Божья помощь и благодать.
В эпилоге, содержащем традиционное для канцоны обращение автора к своему произведению, поэт переходит от первого лица к третьему. После трагической гибели юного пастуха природа вновь обрела свою благую сущность, и автор может теперь вернуться к привычной жизни, оставив сомнения и найдя надежду: «С утра ему опять в луга и лес».
Так Милтон, как бы взглянув на элегию со стороны, разрешает сложное, симфоническое сплетение мотивов смерти и жизни, бренного и вечного, природы и Бога, поэзии и священства.
В свое время известный английский шекспировед Тилиард высказал мнение о том, что «Люсидас» на самом деле написан не столько о Кинге (его смерть — лишь повод для сочинения элегии), сколько о самом поэте, который пытается найти ответ на вечные вопросы о смысле жизни. Если это так, то эпилог элегии, возвращающий читателя после свободного полета стиха к жесткой основе римской октавы как бы символизирует возврат Милтона после всех его сомнений к уже твердо избранному им жизненному пути, к своему поэтическому призванию. Хотя Кинг, юный поэт, умер, поэзия вечна, и ради нее стоит жить и трудиться. Напомним, что римской октавой были написаны эпические поэмы Тассо и Ариосто, и обращение Милтона к ней в финале элегии как бы знаменует собой завершение поиска молодого поэта, его отход от пасторального и обращение к эпической традиции, в которой были созданы его поздние произведения. Именно таким путем — от пасторали к эпопее после Вергилия в Англии уже прошел Эдмунд Спенсер.
Однако этот путь не был прямым и легким. К работе над эпопеей Милтон всерьез приступил лишь много лет спустя. Пока же грозные события близящейся английской революции и гражданской войны почти целиком поглотили поэта. Вернувшись из поездки в Италию, Милтон вскоре включился в яростную полемику, которая закипела тогда в Англии. Отныне не поэзия, но проза надолго стала главным занятием его жизни. Его первый трактат «О реформации, касательно церковной дисциплины в Англии, и причинах, которые до настоящего времени служили ей помехой» (1641), как и несколько других, вышедших вскоре после него, посвящены делу борьбы с господствовавшей в стране англиканской церковью. В них поэт развивал мысли, уже высказанные в «Люсидасе» в обличении апостола Петра. Как и все пуритане, Милтон считал, что реформация еще не завершена, что церковь еще не до конца очищена от католического идолопоклонства и что главным препятствием такому очищению служит англиканская церковная иерархия, которую нужно упразднить, предоставив человеку возможность личного общения с Богом в душе, а не через посредство церковных ритуалов. Милтон в этих памфлетах стоит пока еще на достаточно умеренной позиции пресвитериан, которые не отрицали королевской власти, но считали, что во главе церковной общины должен стоять не епископ, а избранный народом пресвитер. Только так церковь можно вернуть к первоначальной чистоте апостольского века. Трактат «О реформации…» кончается молитвой о спасении Англии и о грядущем вскоре втором пришествии Христа, которое уничтожит всякую тиранию и принесет с собой мир и блаженство праведников.
В 1642 г. в Англии началась гражданская война, разделившая страну на два враждебных лагеря — сторонников короля и сторонников восставшего против него парламента. Милтон, разумеется, поддержал восставших. В этом же году поэт неожиданно для всех окружающих женился на юной Мэри Поуэл, девушке из роялистски настроенной семьи. Этот выбор, как быстро выяснилось, оказался неудачным. Вскоре после свадьбы жена Милтона уехала от него к родителям. Супруги воссоединились лишь три года спустя, во многом, очевидно, под давлением обстоятельств — события гражданской войны лишили Поуэлов средств к существованию. Во время разлуки поэт скорее всего понял, что его женитьба была ошибкой, поскольку отношения между ним и его женой на деле оказались очень далеки от его идеала супружества. Эти события личного плана послужили поводом для размышлений о природе брака и возможности развода, которые Милтон сформулировал в нескольких памфлетах. Первым из них была «Доктрина и порядок развода» (1643), за которой последовали «Тетрахордон» (1645) и «Коластерион» (1645), где поэт, ответив на нападки, развил и уточнил свои идеи. Милтон очень высоко ставил институт брака, основанный на взаимной любви и уважении супругов, на их духовной, а не только физической близости, признавая при этом мужа главой семьи. Развод тогда допускался лишь в случае прелюбодеяния. Но жизнь без любви ничуть не лучше. Милтон считал, что если взаимного чувства и понимания между супругами нет, то продолжение такого союза является «отвратительным варварством», преступлением как против самого института брака, так и против достоинства человека и его души и даже против блага христианства. В предложенном им реформировании церковных законов о браке Милтон видел часть великой духовной революции, которая, как ему казалось в тот момент, началась в Англии. По сути дела такие взгляды предвосхищали просветителей и их учение о естественной свободе человеческого чувства, но среди современников поэт не нашел понимания. Ведь его трактаты шли вразрез не только с католическими и англиканскими доктринами, но и с этикой пуритан, столь высоко ставившей традиционные семейные ценности. Так, против Милтона сразу же ополчились его недавние союзники пресвитериане. Это огорчило, но не охладило поэта. К тому времени он уже открыл для себя собственный путь, по которому протестантское учение об индивидуальной свободе христиан вело его как в вопросах этики, так и религии.
Самостоятельным был и трактат Милтона «О воспитании» (1644). Сочиняя его, поэт пошел против господствовавшего среди пуритан мнения о вреде традиционного классического образования как занятия языческого и бесполезного и о преимущественной пользе практических навыков. Милтон же развивал линию мысли гуманистов Ренессанса, начатую еще Эразмом Роттердамским, согласно которой классическое образование нужно было согласовать с догматами христианства. Милтон считал, что целью воспитания было исправить последствия первородного греха, научив человека знать и любить Бога и с помощью такого знания и любви обрести добродетель. Эта главная цель определяла собой и другую, не менее важную и неразрывно связанную с ней — подготовить человека к гражданскому служению на благо общества. Не отрицая значения науки, Милтон все же делал главный упор на изучение древних языков и литературы, написанной на них, знакомство с которой, наряду с изучением Библии, наилучшим образом должно было подготовить учащихся к жизни.
Самым известным трактатом Милтона стала «Ареопагитика» (1644). Поводом к его написанию послужил указ парламента (1643) о необходимости цензуры всех готовящихся к печати книг. Делясь своими мыслями, Милтон по сути дела вступил в развернувшуюся тогда в Англии дискуссию о религиозной терпимости. Трактат содержал высокую похвалу книге и ее пламенную защиту от предварительной цензуры, которую поэт считал пережитком католицизма.
По мнению Милтона, свобода обмена идеями абсолютно необходима для нравственного и интеллектуального развития человека. Люди должны пользоваться данным им Богом разумом в выборе чтения. Запреты же лишь ограничивают знание и затемняют истину, мешая поступательному движению мысли. Поэт верил в силу истины победить любые заблуждения в ходе свободной дискуссии. Насильно никого нельзя сделать праведным и добрым. Милтон утверждал, что в мире, где добро борется со злом и познание зла тесно переплетено с познанием добра, человек обязан самостоятельно осуществлять нравственный выбор, а необходимым условием свободы является свобода допустить ошибку. И здесь Милтон тоже шел своим путем. Его рассуждения, предвосхитившие идеи просветителей и признанные сейчас классическим литературным образцом защиты гражданских свобод, оказали, однако, весьма мало влияния на его современников.
В 1646 г. в свет вышло первое издание стихотворений Милтона, куда было включено большинство из написанных им к тому времени произведений как на английском, так и на латинском языке. В течение нескольких следующих лет поэт сочинял «Историю Британии», обширный компилятивный труд, первые четыре тома которого были закончены в 1649 г. Милтон снова вернулся к «Истории Британии» в 1655 г. и написал еще два тома, доведя свой рассказ до 1066 г., т. е. до Нормандского завоевания. После этого он прекратил работу. Все шесть томов вышли в свет в 1670 г. Хотя Милтон пытался дать более или менее рационалистическое объяснение истории (в духе Макиавелли) и поставил под сомнение множество легенд, укоренившихся в сознании англичан, в том числе и легенду о короле Артуре, в целом его понимание движения событий было близко пуританско-ветхозаветному. Когда народы отклоняются от пути истинного, их неминуемо ждет кара Господня — такова судьба бриттов и саксов, ставших легкой добычей иностранных завоевателей.
В эти годы Милтон на время сблизился с индепендентами, которые тогда занимали срединное положение внутри расколовшихся пуритан, между правыми пресвитерианами и левыми сектантами типа квакеров, рантеров и др. В 1649 г. Карл I был казнен, и Милтон сразу включился в острую полемику, развернувшуюся вокруг этого события. Вскоре поэт опубликовал памфлет под названием «Обязанности королей и правителей», где он вопреки господствовавшему тогда мнению о божественной природе королевской власти утверждал, что эта власть дана правителям народом, и если король становится тираном, то народ может свергнуть и даже казнить его. Кромвель и республиканское правительство быстро оценили этот памфлет. Через месяц после его выхода Милтон занял почетный пост латинского секретаря в Государственном Совете, что по современным меркам соответствовало положению заведующего канцелярией Министерства иностранных дел. Латинский язык был тогда международным, и в обязанности Милтона входило чтение международной корреспонденции и составление разного рода посланий иностранным государствам.
Другой негласной обязанностью Милтона было продолжение полемики с роялистами по поводу казни Карла I. В ходе этой полемики поэт опубликовал еще несколько памфлетов — «Иконоборец» (1649), «Защита английского народа» (1651) и «Вторая защита английского народа» (1654), которые получили широкий резонанс не только в Англии, но и во всей Европе.
Напряженный труд подорвал и без того слабое зрение Милтона, и в 1652 г. он окончательно ослеп. Формально сохранив пост латинского секретаря (для облегчения работы ему были даны помощники), поэт был вынужден сильно сократить нагрузку. В освободившееся время он, очевидно, начал диктовать «Потерянный рай», а также стал писать обширное теологическое сочинение «О христианском учении» (1656—1658), которое явилось плодом его длительных размышлений по вопросам веры и религии. Суждения Милтона были настолько неординарны, что он не решился опубликовать трактат при жизни. Его рукопись вышла в свет только в 1825 г. Взгляды поэта теперь уже сильно отличались от взглядов его былых союзников, не только пресвитериан, но и индепендентов. Богословская позиция Милтона, некоторыми чертами перекликавшаяся с учением левых сектантов-вольнодумцев, являлась по сути дела совершенно самостоятельной и в ряде случаев подводила его к предельной границе протестантизма, сближая с ересями (арианской, антиномианской и др.). Так, поэт не верил в догмат о троичности Бога, не верил он и в кальвинистское учение о предопределении. Милтон полагал, что душа умирает вместе с телом, чтобы вместе воскреснуть на Страшном Суде и получить воздаяние за прожитую жизнь. Поэт отрицал институт священства, считая единственным священником на земле самого Иисуса Христа. Признавая важность крещения, Милтон утверждал, что его должны принимать только взрослые, а миропомазание, исповедь, священство и брак он не считал таинствами и даже допускал возможность полигамии. Поэт думал, что все, что необходимо знать верующим, содержится в Библии, и только там. Церковь же не нужна, поскольку каждый христианин, водимый Святым Духом, обретает своего Бога, и каждый человек, будучи наделен свободной волей, сам отвечает за свои поступки перед Творцом. Парадоксальным образом подобные взгляды, казавшиеся неприемлемыми большинству современников Милтона, неожиданно нашли сторонников в наше время среди радикально настроенных протестантов.
Между тем республиканское правление, установленное в Англии после казни короля, постепенно начало колебаться. Еще в 1653 г. Оливер Кромвель разогнал парламент и провозгласил себя пожизненным лордом-протектором. Кромвель благоволил Милтону и оставил за ним пост латинского секретаря. Но в 1658 г. лорд-протектор умер, оставив власть своему сыну Ричарду, весьма слабому политику, который не знал, как удержать ее. В стране снова началось брожение, исподволь готовившее реставрацию монархии Стюартов. Милтон откликнулся на эти события новыми памфлетами — «Трактат о гражданской власти и церковных делах» (1659) и «Соображения, касающиеся наилучших способов удаления наемников из церкви» (1659), где он твердо отстаивал религиозную свободу. В 1660 г., почувствовав неотвратимо надвигающийся приход реставрации, Милтон опубликовал трактат «Скорый и легкий путь к установлению свободной республики», где в последний раз попытался защитить республиканские идеалы. Его голос не был услышан. В мае 1660 г. новый король Карл II, сын казненного Карла I, вступил на английский престол.
За истекшие двадцать лет Милтон почти не писал стихов. Исключением стали несколько поэтических переложений библейских псалмов и сонеты, в основном сочиненные на случай. Но, как и все, к чему прикасалось перо поэта, эти два десятка сонетов написаны серьезно, с полной отдачей сил. Возникшие как отклик на самые разнообразные события в жизни их автора, они сочетают личные и общественные мотивы, лирические, порой даже интимные переживания и гражданский пафос. Поняв сонет таким образом, Милтон чрезвычайно расширил его границы и придал написанным в этом жанре стихотворениям на случай статус высокой поэзии.
Милтон отказался от национальной шекспировской модели сонета (три катрена и заключительное двустишие) и предпочел итальянскую форму жанра (октава и сестина) с ее сложным равновесием частей. Многие английские предшественники поэта, в том числе Донн, использовали ее, но образцом для Милтона стали стихотворения двух итальянских мастеров, Джованни Делла Каза и Торкватто Тассо, которые научили его видеть в октаве и сестине единое синтаксическое целое, не распадающееся на привычные четверостишия и трехстишия. Причем движение мысли Милтон вслед за своим предшественником поэтом-метафизиком Джорджем Гербертом часто переносил из октавы в сестину или начинал мысль сестины в последней строке октавы. Речь поэта в сонетах звучит приподнято, обретая необычную свободу и гибкость в своем замедленном движении и тем уже отчасти предвосхищая стихи «Потерянного рая». При всей торжественности интонация Милтона очень разнообразна и передает целый спектр эмоций — от резкости и сарказма инвективы (сонеты в защиту трактатов о разводе), пламенного негодования («На недавнюю резню в Пьемонте») до скрытой, ушедшей внутрь, но от этого не менее сильной боли («О моей усопшей жене»). По преимуществу мужские рифмы отделаны точно. В целом же у Милтона малая форма сонета обрела неожиданное величие и монументальность, которых этот жанр в Англии не знал ни до, ни после.
С приходом эпохи реставрации для Милтона начались трудные времена. Как рьяный республиканец и автор памфлетов в защиту казни короля Карла I («Первая защита» и «Иконоборец» были публично сожжены), поэт оказался в опасности. Ему пришлось скрываться и на недолгий срок он даже попал в тюрьму. Но потом благодаря заступничеству влиятельных друзей его помиловали. Отныне поэта оставили в покое, предоставив ему возможность вести частную жизнь. Полностью отойдя от политики, Милтон посвятил все оставшиеся силы поэзии. Именно теперь им были написаны три главных произведения — «Потерянный рай» (первое издание 1667, второе, доработанное в год смерти, 1674), «Возвращенный рай» (1671) и «Самсон-борец» (1671).
Сочиняя «Потерянный рай», Милтон, наконец, осуществил свою давнюю мечту — написал эпопею. Этот жанр, по мнению современников поэта, был не только самым трудным, но и самым престижным. Считалось, что каждая национальная литература должна была иметь свою собственную эпопею. Ведь она была у древних греков и римлян — Гомера и Вергилия изучали в школе. Была она и у итальянцев, чей культурный опыт служил в Западной Европе эталоном в эпоху Ренессанса. Да и в XVII в. итальянский язык пользовался всеобщим уважением прежде всего благодаря поэзии Данте, Ариосто и Тассо. В Англии в XVI в. к жанру эпопеи обратился лучший поэт английского Возрождения Эдмунд Спенсер. Однако смерть помешала ему осуществить замысел — он успел написать только половину «Королевы фей». Произведения же других, менее одаренных поэтов не удались.
Свои силы как эпический поэт Милтон попробовал еще в ранней юности, сочинив латинскую поэму «Пятое ноября» в жанре малой эпопеи. Но он вскоре осознал, что писать надо на родном языке, и стал искать подходящий сюжет. Поначалу он решил продолжить опыт Спенсера и рассказать о подвигах короля Артура, восславив старую, добрую Англию. Но спустя несколько лет поэт отказался от этой идеи, очевидно, поняв во время работы над «Историей Британии», что ни короля Артура, ни рыцарей «Круглого стола» в реальности не существовало. Постепенно у Милтона начал. складываться новый грандиозный замысел, который, по его собственным словам, был «еще стиху и прозе недоступным». В поисках материала поэт обратился к Библии.
В первых строках «Потерянного рая» сам Милтон так сформулировал свою задачу:
О первом преслушанье, о плоде Запретном, пагубном, что смерть принес И все невзгоды наши в этот мир, Людей лишил Эдема, до поры.
Когда нас Величайший Человек Восставил, Рай блаженный нам вернул, —.
Пой, Муза горняя! Сойдя с вершин Таинственных Синая иль Хорива, Где был тобою пастырь вдохновлен, Начально поучавший свой народ Возникновенью неба и Земли Из Хаоса; когда тебе милей Сионский холм и Силоамский Ключ, Глаголов Божьих область, — я зову Тебя оттуда в помощь; песнь моя Отважилась взлететь над Геликоном, К возвышенным предметам устремись.
Нетронутым ни в прозе, ни в стихах.
Но прежде ты, о Дух Святой! — ты храмам Предпочитаешь чистые сердца, —.
Наставь меня всеведеньем твоим!
Ты, словно голубь, искони парил Над бездною, плодотворя ее, Исполни светом тьму мою, возвысь Все бренное во мне, дабы я смог Решающие доводы найти И благость Провиденья доказать, Пути Творца пред тварью оправдав.
- (книга I)
- (здесь и далее перевод А. Штейнберга)
Из этих первых строк «Потерянного рая» сразу же становится ясно, что Милтон решил придать рассказу о «первом преслушанье» человека вселенские масштабы, как того и требовал библейский первоисточник. В гигантской перспективе истории возникновение зла и «благость Провидения» неминуемо сопрягались вместе, тема потерянного рая обязательно предполагала и тему возвращенного рая благодаря искупительной жертве Величайшего Человека, Христа. Повествуя о грехопадении, поэт обратился и к творению мира, и к происхождению зла, и к божественному плану спасения человека, и даже к концу мира, после которого возникнет «новое небо и новая земля». Именно с точки зрения подобной гигантской перспективы истории и нужно рассматривать грандиозную битву добра и зла, которая бурлит на страницах поэмы. Поэтому и финал «Потерянного рая», как и подобает христианской эпопее, вопреки всему титанизму и трагичности этой борьбы, несмотря на «смерть и все невзгоды наши», несет с собой надежду и утешение. Только так по замыслу Милтона и можно было оправдать «пути Творца пред тварью».
Материалом, на который Милтон в первую очередь опирался, сочиняя «Потерянный рай», стали первые три главы «Книги Бытия». Исполненные глубочайшего смысла и породившие необозримое море толкований, эти главы тем не менее занимают всего несколько страниц. Эпопея же Милтона насчитывает 10 565 строк и, разумеется, выходит далеко за пределы ветхозаветного текста. Ученые много раз писали об источниках, которые поэт использовал при издании «Потерянного рая». Это и сама Библия во всем ее объеме, и ее толкования, и древнееврейские и греческие апокрифы, и античные памятники (прежде всего Гомер и Вергилий, но также Эсхил, Софокл и Еврипид), и раннехристианская богословская литература, и художественные произведения более позднего времени (Данте, Ариосто, Тассо, Спенсер, братья Флетчеры, Шекспир, Марло и некоторые другие авторы). Работая над текстом эпопеи, вводя в нее эпизоды, которых нет в Ветхом Завете, предлагая свою трактовку библейских событий, Милтон не просто опирался на всю эту огромную литературу, но коренным образом переосмыслил ее и предложил совершенно новое, оригинальное прочтение библейского сюжета.
Характерно, что в «Потерянном рае» сразу же за авторским вступлением следует рассказ о событиях, которых нет в Библии, но которые Милтон знал по апокрифам. Согласно апокрифической традиции, среди небесного воинства ангелов был один особенно любимый Богом. Возгордившись и решив сравняться с Господом, этот ангел поднял вместе со своими приспешниками восстание против Творца, но потерпел поражение и был низринут в преисподнюю и стал Сатаной, начальником всякого зла. Эпопея и открывается сценой, где Сатана, «разбитый, хоть бессмертный», приходит в себя после разгрома своих полчищ и решает продолжить борьбу с Богом. Обращаясь к соратникам, Сатана утешает их надеждой на завоевание небес. Однако теперь он уже понял, что силы неравны, и потому открытой войне он предпочитает путь тайного коварства. Военный совет падших ангелов принимает решение о том, что Сатана должен проникнуть в новосотворенную Богом землю, чтобы увидеть первых людей, которых Бог любит больше всякой твари и которые созданы для того, чтобы их потомство со временем заняло место падших ангелов. Задача Сатаны состоит в том, чтобы соблазнить людей «употребив обман /Иль принуждение».
В том виде, в каком Сатана появляется перед читателями, он буквально приковывает к себе их внимание, и сила этого поэтического гипноза продолжает действовать на протяжении всей эпопеи. Вот как Милтон описывает его в первой книге:
Приподнял он Над бездной голову; его глаза Метали искры; плыло позади Чудовищное тело, по длине Титанам равное, иль Земнородным —.
Врагам Юпитера! Как Бриарей, Сын Посейдона, или как Тифон, В пещере обитавший, возле Тарса, Как великан морей — Левиафан, Когда вблизи Норвежских берегов Он спит, а запоздавший рулевой, Приняв его за остров, меж чешуй Кидает якорь, защитив ладью От ветра, и стоит, пока заря Не усмехнется морю поутру, —.
Так Архивраг разлегся на волнах, Прикованный к пучине.
(книга I).
Первое, что бросается в глаза, — это могучий титанический облик Архиврага и его гневный, мечущий искры взор. Однако не все здесь так просто, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, сравнение с титанами, врагами Юпитера, и по ассоциации с главным из них — Прометеем, укравшим огонь с неба и давшим его людям, как будто бы говорит в пользу Сатаны. Известно, что его имя до бунта было Люцифер, т. е. несущий свет, что вроде бы, подтверждает эту параллель. И тут, как не раз отмечала критика, в сознании читателей могли возникнуть сомнения. Ведь дело Прометея было правым — он хотел помочь людям. Так, может быть, и Сатана тоже прав, и Бог наказывает его, как Юпитер наказал непокорного титана?
Но Милтон, словно предвидя подобный ход мыслей, в следующих же строках уподобляет Архиврага Левиафану, огромному и таинственному существу, о котором в «Книге Иова» сказано: «Нет на земле подобного ему: он сотворен бесстрашным; На все высокое смотрит смело: он царь над всеми сынами гордости» (41, 25—26).
Читателей, знакомых с текстом Библии — а Милтон писал именно для них, — ассоциации с «царем над всеми сынами гордости» должны были сразу же насторожить. А дальше идет ссылка на взятую из бестиариев историю о ките, которого моряки по ошибке приняли за остров, содержащая намек на обманчивость поспешных выводов, на сложность и неоднозначность образа Сатаны.
Под стать титаническому облику Сатаны и его громкие речи, которыми он старается приободрить своих предшественников:
Не все погибло: сохранен запал Неукротимой воли, наряду С безмерной ненавистью, жаждой мстить И мужеством — не уступать вовек.
А это ль не победа?..
Волею судеб Нетленны эмпирейский наш состав И сила богоровная; пройдя Горнило битв, не ослабели мы, Но закалились и теперь верней Мы вправе на победу уповать:
В грядущей схватке, хитрость применив, Напружив силы, низложить Тирана, Который нынче, празднуя триумф, Ликует в Небесах самодержавно!
(книга 1).
Но и в случае с этим монологом тоже не все так просто. По мнению критиков, подобная богоборческая риторика имела иронический подтекст. Читателям XVII в. она должна была напомнить бахвальство Порока из моралите, а возможно, и речи шекспировского Фальстафа, хотя Сатана в целом, все же ближе не столько Фальстафу, сколько елизаветинским героям — макиавеллистам, типа Яго или Эдмунда, с их беспредельным коварством и абсолютной беспринципностью. Да и сам Милтон, пользуясь правом эпического поэта вмешиваться в повествование, следующим образом прокомментировал этот монолог:
Так падший Ангел, поборая скорбь.
Кичился вслух, отчаянье тая.
Интересно, что по мере развития действия подобное отрицательное отношение автора к Сатане становится все более явно выраженным и в духе барочного искусства проецируется на его внешний облик. Из поверженного титана Сатана превращается в полководца, держащего демагогические речи перед своими приспешниками в Пандемониуме, затем в тайного агента, исподтишка наблюдающего за любовными утехами Адама и Евы, потом в жабу и, наконец, в змею. Какой контраст между богоборческой риторикой в начале поэмы и шипением, вылетающим из уст Сатаны, в конце!
И тем не менее обаяние личности Архиврага было настолько сильным, что уже младший современник Милтона поэт Джон Драйден назвал Сатану истинным героем «Потерянного рая». А позднее романтики даже решительно встали на его защиту. Уильям Блейк в «Браке неба и ада» сказал: «Причина, по которой Милтон чувствовал себя скованным, когда писал об ангелах и Боге, и свободным, когда писал о дьяволах и аде, в том, что он истинный поэт и был на стороне Сатаны, не подозревая этого» (р. 150). Блейка поддержал Шелли, считавший, что Сатана у Милтона в нравственном отношении превосходит Бога, а Белинский назвал всю эпопею «апофеозой восстания против авторитета».
Увидев в Боге тирана, а в Сатане бунтаря против несправедливости, романтики совершенно исказили замысел Милтона, для которого жесткая авторитарность была продуктом падшего мира и потому свойственна именно Сатане, который и повел себя как деспот, прервав военный совет в Пандемониуме, а Бог для поэта являлся носителем истинной свободы. Недаром же во «Второй защите» поэт писал: «…быть свободным абсолютно то же самое, что быть благочестивым».
Тем не менее у этой романтической «сатанинской» точки зрения нашлись сторонники и среди критиков XX в. На наш взгляд, автор «Потерянного рая», как свидетельствует и сюжет, и текст эпопеи, никогда не согласился бы с ними. Для верующего христианина Милтона при всей неортодоксальности его богословских взглядов Сатана — прежде всего носитель абсолютного зла, существо, движимое вопреки отдельным колебаниям и сомнениям, свидетельствующим о его былой славе, гордыней и ненавистью. Об этом и сам Архивраг говорит в монологе из IX книги:
Нет, не любовь, А ненависть, не чаянье сменить На Рай — Геенну привлекли сюда, Но жажда разрушенья всех услад, За вычетом услады разрушенья;
Мне в остальном — отказано.
Другое дело, что Сатана, возможно, помимо даже желания поэта, получился самым ярким и многогранным образом «Потерянного рая», персонажем, наделенным неукротимой энергией, необычайно динамичным, сочетающим привлекательность падшего ангела с таинственными иррациональными глубинами зла.
Большинство исследователей, как бы они ни трактовали Сатану, всегда признавали огромную художественную убедительность его характера. Иное дело Бог — Он нравился и нравится далеко не всем. Изображая Его, Милтон столкнулся с почти непреодолимыми трудностями. Ведь Бог был для поэта не только источником всякого блага, но и трансцендентным существом. Выражаясь словами небесного ангельского хора, Он Царь Всесильный, бесконечный, неизменный, Бессмертный, вечный, сущего Творец, Источник света, но незримый Сам…
(книга III).
Милтон не захотел последовать примеру Данте и изобразить Бога в виде символа струящегося света, но, опираясь на ветхозаветные тексты, придал Творцу антропоморфические черты. Бог у Милтона произносит длинные монологи, объясняя свои решения и поступки. Для этих монологов характерна высокая степень абстракции, простые, лишенные чувственности образы и отсутствие эмоционального накала речи. Это соответствовало замыслу автора, поскольку Бог был для него не обычным характером, но некоей аллегорической фикцией, где вечное и невыразимое передано путем конечного и доступного падшим человеческим чувствам. Поэтому и разные персонажи «Потерянного рая» видят Творца по-разному. Для Сатаны Он Бог-ревнитель, карающий непокорных, для Адама — добрый и милосердный отец, а для архангела Рафаила — источник счастья и радости.
Бог в «Потерянном рае» действует в основном через Сына, или Мессию — Христа. Мессия, а не Бог-Отец в эпопее осуществляет величественный акт творения, вызывая мир из хаоса; Мессия ведет победоносную войну с приспешниками Сатаны, Он же судит Адама и Еву, и Он же берет на Себя роль искупительной жертвы для спасения людей. По мнению большинства исследователей, антропоморфические черты в облике Сына оказались гораздо более уместными, чем в облике Отца. В целом образ Мессии получился достаточно убедительным, исполненным благородства, внутреннего достоинства и особого духовного аристократизма, что признали даже критики, не принявшие милтоновского Бога-Отца.
Долгое время читатели, не знавшие «Христианской доктрины», воспринимали Сына как вполне традиционное изображение Второй Ипостаси Пресвятой Троицы, не улавливая некоторых антитринитарных черт Мессии, которые проглядывают в эпопее. Особенно интересен в этом отношении отрывок из монолога Бога, Который, обращаясь к ангелам, говорит:
Вы, чада света, Ангелы, Князья, Престолы, Силы, Власти и Господства!
Вот Мой неукоснительный завет:
Сегодня Мною Тот произведен.
Кого единым Сыном Я назвал.
Помазал на священной сей горе И рядом, одесную поместил.
Он — ваш Глава. Я клятву дал Себе, Что все на Небесах пред ним склонят Колена, повелителем признав.
(книга V).
Даже если признать, что слова «Сегодня Мною Тот произведен» не содержат указания на то, что Мессия был рожден (begot) уже после ангелов, но являются аллюзией на 2-й псалом («Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя»), то и тогда подобное возвеличивание Сына, Его «коронация», кажутся абсолютно неуместными в отношении Лиц Пресвятой Троицы, «единосущной и нераздельной», хотя и психологически достоверно объясняют гнев и ревность Сатаны. В основном же в структуре эпопеи Сын по сравнению с Отцом играет если не служебную, то во всяком случае подчиненную роль.
Между небом и преисподней в «Потерянном рае» существует целая система пародийных соответствий, и высокое на барочный лад находит искаженное, как в кривом зеркале, отражение в низком. Роль трех Лиц Пресвятой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа — в преисподней исполняют Сатана, Грех и Смерть. Мистическому рождению Сына от Отца соответствует гротескно-неожиданное появление Греха из головы Сатаны. Богоборческие речи Архиврага в Пандемониуме контрастируют с исполненным пафоса самоотречения монологом Мессии в Небесном Совете. Мотивы поступков Сына и Архиврага полярно противоположны — Мессией движет самоотверженная любовь, а Сатаной — ненависть и желание мести. В общем Сын с Его любовью, милосердием, мудростью и готовностью к жертвенному служению служит антиподом Сатаны с его гордыней, своеволием, коварством и возведенным в абсолют эгоизмом.
Тем не менее ни Мессия, ни Сатана при всей важности их роли в сюжетной канве эпопеи не являются ее главными героями. Ведь Милтон писал о «первом преслушанье» человека, и такими героями для него, несомненно, были первые люди, Адам и Ева. Они, однако, появлялись в «Потерянном рае» далеко не сразу, только в четвертой книге, т. е. где-то ближе к середине эпопеи; первые две книги были целиком посвящены Сатане и его окружению, а действие третьей в основном разворачивалось на небе. Очевидно, такое смещение перспективы входило в намерения автора. Дело не только в том, что он, как и подобает эпическому поэту, начал свой рассказ in medias res, т. е. с середины. Нехарактерное для искусства Возрождения или классицизма, подобное смещение перспективы вполне соответствовало критериям барочной эстетики и было оправдано с художественной точки зрения. Согласно авторскому замыслу, Адам и Ева должны были стать объектом космической борьбы Добра и Зла. Изобразив сначала преисподнюю, а затем небо, Милтон наглядно показал расстановку сил перед началом этой борьбы.
В изображении Милтона райский сад, где читатели в первый раз видят Адама и Еву, предстает как некий пасторальный оазис, окруженный непроходимым зеленым валом деревьев и кустарников. Жизнь здесь течет по особым законам, властвовавшим до грехопадения. С одной стороны, она напоминает видения древнееврейских пророков о грядущем Царстве Небесном, где «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком» (Исаия, 11,6), а с другой — античные мифы о золотом веке человечества. В раю царит вечная весна, звонко поют птицы, пышно цветут цветы, а деревья приносят обильные плоды. Здесь нет ни ядовитых растений, ни роз с шипами, ни хищных зверей. Все тут исполнено райской гармонией, и Человек как венец творения — важнейшее звено этой гармонии. Знаменательно, что Милтон описывает райское блаженство, ставшее благодаря первородному греху недоступным падшему естеству человека, глазами Сатаны, который тоже может наблюдать его лишь со стороны, «без радости» взирая «на радостную местность». А это прием, типичный не столько для эпопеи, сколько для романа.
Увиденные завистливым оком Сатаны, Адам и Ева одарены «величием врожденным», наглядно воплощая религиозно-гуманистические идеалы Милтона.
В их лицах отражен Божественных преславный лик Творца, Премудрость, правда, святость, и была Строга та святость и чиста (строга, Но исто по-сыновнему свободна)…
(книга IV).
Адам и Ева чужды порокам и живут в полной свободе, которая во всем согласуется с волей Бога. Оба они физически прекрасны, и в «наготе своей державной» превосходят все прочие земные твари. Милтон изображает первых людей как вполне реальные земные существа и вместе с тем как полуаллегорические фигуры, олицетворяющие мужское и женское начало в человеке:
Для силы сотворен И мысли — муж, для нежности — жена И прелести манящей; создан муж Для Бога только, а жена для Бога, В своем супруге.
(книга IV).
На наш взгляд, было бы ошибкой упрекать Милтона в антифеминизме, как это делают некоторые критики. Согласно иерархии Великой Цепи Бытия, разделившей весь видимый и невидимый мир на своеобразную лестницу постепенно восходящих ступеней, на вершине которой стоял Бог, мужское начало на одну ступень выше женского. Милтон, как и Шекспир, верил в существование такой иерархии и осудил Сатану, который «возмечтал, /Поднявшись на еще одну ступень, /Стать выше всех». Однако в раю превосходство мужского над женским уравновешивалось их полной гармонией, где женское начало дополняло мужское, интеллект сочетался с чувством, сила с нежностью, и одно было невозможно без другого в идеальном союзе первых-людей. Нарушение этой гармонии, подчиненность придет позже, как следствие первородного греха. Перестановка же звеньев, подчинение мужского женскому, как в куртуазной модели любви, всегда казалось поэту нарушением законов Бога и природы и открыто осуждалось им.
Для Милтона любовь Адама и Евы как бы наглядно воплощает тот идеал брака, который поэт ранее провозгласил в своих трактатах. Любовь эта вовсе не лишена плотских радостей (они у Милтона знакомы даже ангелам), но сочетает духовную близость и физическое влечение, целиком подчиняя, однако, чувство разуму. Об этом прямо сказано в знаменитой эпиталаме, гимне брачной любви из IV книги эпопеи:
Хвала тебе, о, брачная любовь, Людского рода истинный исток, Закон, покрытый тайной! Ты в Раю, Где все совместно обладают всем, —.
Единственная собственность. Тобой От похоти, присущей лишь скотам Бессмысленным, избавлен Человек.
Ты, опершись на разум, утвердила Священную законность кровных уз, И чистоту, и праведность родства, И ты впервые приобщила нас К понятиям: отец, и сын, и брат.
Тебя я даже в мыслях не сочту Греховной и срамной, в священный Сад Проникнуть недостойной! О, родник Неиссякаемых услад семейных!
Твое нескверно ложе от веков И будет впредь нескверным; посему Угодники покоились на нем И патриархи.
Первые люди, которым Бог дал лишь одну заповедь — не вкушать плодов с древа познания, живут в раю в состоянии блаженной невинности, не подозревая о существовании зла и коварных замыслах Сатаны. Наделенный всеведением Бог, заранее зная о грядущем искушении и падении человека, тем не менее все же посылает в рай архангела Рафаила, чтобы «утвердить Адама в повиновении, поведать ему о свободе воли и уведомить о близости Врага». Парадокс всеведения Бога и самостоятельности поступков человека принципиально важен для Милтона. Растянувшаяся на несколько книг беседа Рафаила с Адамом играет ключевую роль в общем замысле эпопеи. К моменту создания «Потерянного рая» Милтон уже давно продумал свое отрицательное отношение к строгому детерминизму кальвинистской доктрины, допускавшей спасение лишь немногих избранных, и занял позиции, близкие более либерально настроенным арминианам. Последователи этого возникшего в Голландии религиозного движения в противовес кальвинистам учили, что ко спасению призваны все верующие, а власть Бога совместима со свободой выбора человека, чье достоинство немыслимо без свободной воли. В соответствии с подобными взглядами для находящихся в состоянии блаженной невинности Адама и Евы никакой разумный и ответственный выбор не возможен. Готовя первых людей к предстоящему испытанию, Рафаил рассказывает Адаму о мятеже непокорных ангелов, об их сражении с ангелами света и поражении Сатаны и его приспешников, о сотворении мира и человека и напоследок предупреждает о грозящей опасности. Только после беседы с Рафаилом, когда Адам располагает всем нужным ему знанием, чтобы быть счастливым в раю, он может сознательно воспользоваться свободой воли и осуществить самостоятельный выбор. И только тогда «первое преслушанье» человека и должно обрести космические масштабы, допустив на землю «смерть… и все невзгоды наши».
Используя нарративную технику, более присущую роману, чем эпопее, Милтон постепенно готовит читателя к моменту грехопадения. Намек на то, что оно возможно, хотя и не неизбежно, проскальзывает уже при первом знакомстве с Адамом и Евой. Едва появившись на свет, Ева сразу же поддается чувствам и, подобно Нарциссу, влюбляется в свое отражение в воде, а Адам уже в своем первом монологе, обращаясь к жене, говорит, что она ему дороже всего на свете (Dearer Myself than all, IV, 412), и тем самым неосознанно ставит ее выше Бога. Позже Адам жалуется архангелу Рафаилу, что красота Евы внушает ему страсть, готовую подчинить разум:
Познанье высшее пред ней молчит Униженно, а мудрость, помрачась В беседе с ней, становится в тупик, Подобно глупости.
(книга VIII).
Впоследствии уже ночью Ева видит посланный Сатаной сон, где она, вкусив запретный плод, возносится на небо. А наутро по настоянию Евы и вопреки желанию Адама герои расходятся в разные стороны райского сада, чтобы заняться работой поодиночке. В аллегорическом плане такая разлука чревата опасностями — разум расстался с чувством, и это значительно облегчает задачу Сатаны.
Конечно, у Евы есть собственный разум и своя свободная воля. Но в том-то и дело, что ее разум не может устоять перед хитросплетенной риторикой обернувшегося змеем Сатаны, и, подчинив волю чувствам, она делает роковой выбор. Ловко пользуясь лестью и коварным обманом. Враг убеждает запутавшуюся Еву нарушить запрет, отведать плод и, превзойдя «свой тварный жребий», стать равной Богу:
Зачем Его запрет? Чтоб запугать, Унизить вас и обратить в рабов Несведущих, в слепых, послушных слуг.
Он знает, что, когда вкусите плод, Ваш мнимо светлый взор, на деле — темный, Мгновенно прояснится; вы, прозрев.
Богами станете, подобно им Познав Добро и Зло.
(книга IX).
Вкусив запретный плод, «глотая неумеренно и жадно», Ева мгновенно меняется. Цельность ее натуры исчезает и, подобно соблазнившему ее Сатане, она становится хитрой и расчетливой. Поразмыслив, не сохранить ли в тайне от супруга свой поступок, чтобы превзойти его «преимуществом познанья», она все же решает открыться Адаму, но не из настоящей любви к нему, а скорее из эгоизма, из боязни потерять его, если Бог на самом деле прав и смерть настигнет ее:
Адам со мною должен разделить И счастье, и беду. Столь горячо Его люблю, что рада всем смертям, Но вместе с ним.
(книга IX).
В отличие от Евы, обманутой коварными речами Сатаны, перед Адамом, по-прежнему знающим отличие добра от зла, встает осознанный выбор — расстаться с падшей Евой, которую ждет смерть, или последовать ее примеру и тоже вкусить запретный плод. Выбор этот отчасти напоминает коллизию классицистической трагедии, где чувство противопоставлено разуму. Но если в классицистической драматургии выбор в пользу чувства мог иметь некий ореол доблести, как это, например, случилось, когда Драйден на свой лад переделал шекспировского «Антония и Клеопатру», назвав пьесу «Всё за любовь», то у Милтона при всей трагичности этого эпизода такого ореола нет. Поэт ясно дает понять читателям, что свободный выбор Адама определен не духовным, но плотским чувством и что страсть победила суверенный разум. Адам, объясняя свое решение, восклицает:
Я чувствую, меня влекут Природы узы, ты — от плоти плоть.
От кости кость моя, и наш удел Нерасторжим — в блаженстве и в беде!
(книга IX).
Сам же поэт, комментируя случившееся, говорит:
Волей перестал Рассудок править, и она ему Не подчинялась. Грешную чету Поработила похоть, несмотря На низкую свою породу, власть Над разумом верховным захватив.
(книга IX).
Для Милтона как верующего христианина подлинная свобода парадоксальным образом была заключена в послушании Богу и в жизни по Его законам, а без Бога свобода становилась своеволием и оборачивалась рабством греху. Вкусив запретный плод и тем противопоставив свою волю воле Бога, первые люди утратили такую свободу и познали грех. В один миг исчезло блаженство невинности, а с ним исчезла и гармония отношений с Богом и природой. Низшее победило высшее, и из идеальных полуаллегорических персонажей Адам и Ева превратились в простых смертных, которых ждет полная опасностей жизнь в хрупком и ненадежном мире. Действие эпопеи из космогонического плана переместилось в исторический.
Вслед за Библией Милтон рассматривает грехопадение как великую космическую трагедию, изменившую мир. Как высшее земное существо Адам был поставлен владыкой всей земной твари, и с его падением пала и тварь. Райская идиллия окончилась — животные стали дикими и хищными, а земля тюросла волчцами и терниями. Что же касается людей, то им отныне предстояло покинуть рай и в поте лица добывать себе хлеб насущный, борясь с болезнями и ожидая смерть.
Казалось бы, Сатана одержал полную победу. Но победа эта была лишь временной и отчасти даже мнимой. Узнав о грехопадении и грядущем суде над первыми людьми, Мессия сразу же заговорил о надежде умерить «правосудье милосердьем». Да и сами первые люди вскоре осознали свою вину и почувствовали раскаяние, что стало первым шагом на пути возрождения человека. Причем инициатива на этот раз принадлежала Еве. Забыв о взаимных упреках и победив отчаяние, Адам и Ева Пошли туда, где их Господь судил, Униженно пред Ним простерлись ниц.
Покорно исповедали вину И землю оросили током слез, Окрестный воздух вздохами сердец Унылых, сокрушенно огласив, В знак непритворности и глубины Смирения и скорби неизбывной.
(книга X).
Теперь Адам и Ева уже почти готовы к новой жизни вне стен райского сада. Но перед их изгнанием оттуда в ответ на покаянную молитву первых людей Бог дарует им надежду и утешение. Архангел Михаил по повелению Творца открывает Адаму судьбу его потомков вплоть до рождения Христа, а затем кратко и до конца мира.
Изложение библейской истории, где видения сменяются откровениями, занимает две последних книги эпопеи. Сочиняя их, Милтон пошел по иному пути, чем при создании предыдущих книг. Если раньше он, как уже отмечалось, дополнял и расширял краткий библейский рассказ о творении и грехопадении, то теперь он был вынужден выбирать наиболее важные для него моменты огромного текста. Критерием такого выбора послужило разработанное отцами Церкви типологическое, или прообразовательное, прочтение Библии, согласно которому главные события Ветхого Завета предвосхищали Новый Завет, и прежде всего рождение, служение и крестную смерть Христа. (Такими прообразами Христа считались, например, Авель, Енох, Ной, Моисей и т. д.).
Но, как верно отметили исследователи, это не единственный критерий отбора материала, который используется еще и по другому принципу. В этих главах между двумя уже ранее четко наметившимися планами эпопеи, — с одной стороны, Бог, абсолютное добро и справедливость, а с другой — Сатана, зло и беззаконие, — возник и третий, промежуточный план падших людей, в душах которых идет постоянная война добра и зла, и победа бывает как на той, так и на другой стороне. И тем не менее, как становится ясно из этих последних глав эпопеи, общее движение событий влечет человека вверх, к Богу. Проходя через горнило испытаний, человек будет расти и совершенствоваться. И однажды настанет день, когда от Девы родится Спаситель Иисус Христос, Который Своей крестной смертью искупит первородный грех и возродит человечество к новой жизни — именно так «семя жены сотрет главу змия».
Увиденная в этой перспективе, вина Адама может даже показаться «счастливой». (Ведь если бы Адам не согрешил, Христос не воплотился бы.) Во всяком случае так вину Адама осмыслил известный философ Артур Лавджой. Так ее на какой-то момент понял и сам Адам, который воскликнул:
О, Благодать, без меры и границ, От Зла родить способная Добро И даже Зло в Добро преобразить!
Ты чудо, большее того, что свет, При сотворенье мира извлекло Из мрака. Я сомненьем обуян:
Раскаиваться ль должно о грехе Содеянном иль радоваться мне, Что к вящему он благу приведет И вящей славе Божьей…
(книга XII).
И все же такое мнение ошибочно, ибо оно не раскрывает замысла автора эпопеи. Вспомним, что милтоновский Бог еще задолго до начала рассказа о грядущей судьбе людей однозначно отверг подобную точку зрения, сказав, что человек был бы Счастливей, если б знал Добро одно, А Зла не ведал вовсе.
(книга XI).
Смысл монолога Адама в другом. Вместо добытого путем ослушания трагического знания греха и смерти, человек теперь обретает благодаря откровению свыше истинное знание, а с ним надежду и утешение. Все это позволяет человеку установить новые отношения с Богом, приняв Его волю и поняв «пути Творца». С Адамом происходит примерно то, что произошло с Иовом, который, отвергнув далекие от сути вещей интеллектуальные конструкции своих друзей в конце библейской книги открыл для себя единственно правильные отношения с Богом, основанные на лично пережитом опыте веры и любви.
Перед тем, как покинуть рай, Адам говорит:
Сколько приобрел Я знанья, сколько мог вместить сосуд Скудельный мой. Безумьем обуян Я был, желая большее познать.
Отныне знаю: высшее из благ —.
Повиновение, любовь и страх Лишь Богу воздавать; ходить всегда Как бы пред Богом; промысел Творца Повсюду видеть; только от Него Зависеть, милосердного ко всем Созданиям Своим. Он Зло Добром Одолевает, всю земную мощь —.
Бессильем мнимым; кротостью простой — Земную мудрость.
(книга XII).
Как видим, Адам, подобно Иову, тоже открыл для себя истинную веру и любовь к Богу, а с ними и надежду обрести иной «внутри себя, стократ блаженный рай», уразумев важнейший христианский парадокс о том, что свобода заключена в послушании Творцу. Теперь первые люди могут начать новую, полную испытаний жизнь. Скорбя, но с миром в душе, Адам и Ева навсегда покидают рай.
Оборотясь, они в последний раз На свой недавний, радостный приют, На Рай взглянули: весь восточный склон, Объятый полыханием меча, Струясь, клубился, а в проеме Врат Виднелись лики грозные, страша Оружьем огненным. Они невольно Всплакнули — не надолго. Целый мир Лежал пред ними, где жилье избрать Им предстояло. Промыслом Творца Ведомые, шагая тяжело, Как странники, они рука в руке, Эдем пересекая, побрели Пустынною дорогою своей.
(книга XII).
Хотя в интонации этих заключительных строк «Потерянного рая» можно различить разные настроения, которые владеют героями — и грусть по прошедшему, и стоическое приятие настоящего, и смутное ожидание будущего, — голос автора звучит спокойно и немного отрешенно. После стольких катаклизмов, бурь, взлетов и падений наступило затишье, долгожданный катарсис. Милтон сказал все, что хотел, поставив точку в последней строке главного труда своей жизни.
Написанный в жанре ученой христианской эпопеи, «Потерянный рай», в духе ренессансных и постренессансных поэтик, вмешает в себя и целый ряд других, более мелких жанров — оды, гимна, пасторальной эклоги, георгики, эпиталамы, жалобы, альбы и т. д. Многие из этих отрывков написаны с таким искусством, что, взятые сами по себе, они представляют собой замечательные образцы лирики XVII в., которые повлияли на дальнейшее развитие английской поэзии. В тексте эпопеи можно также выделить и отчетливо ощутимые элементы драмы — недаром же Милтон вначале стал писать трагедию «Изгнание Адама из рая» («Adam Unparadized»), откуда он заимствовал знаменитый монолог Сатаны из IV книги. Всю эпопею, особенно в первой ее редакции, состоявшей из 10 книг, легко разделить на 5 «актов», а главный ее герой Адам, как и подобает герою трагедии, в силу трагической ошибки совершает падение от счастья к горестям. Кроме того, как указали критики, в тексте «Потерянного рая» есть сцены, напоминающие фарс (объяснение Сатаны с Грехом и Смертью во II книге), бытовой драмы (ссоры и примирения героев), а также маски (картины будущего в XI и XII книгах). Помимо этого в «Потерянный рай» включены и так называемые риторические жанры — дебаты о войне и мире в Пандемониуме, диалоги (о человеческой природе между Богом и Адамом в VIII книге и о любви между Рафаилом и Адамом в той же книге), трактат по астрономии, шестоднев, или рассказ о творении мира, и т. д. Если действие эпопеи охватывает всю вселенную, то и ее текст как бы в соответствии с этим грандиозным замыслом вмещает в себя большинство известных тогда жанров и их элементов. Такое жанровое многообразие свидетельствует не только о блестящем мастерстве Милтона, который сумел органично сочетать их, вписав и подчинив главному — эпическому, но и об исподволь начавшемся кризисе самого жанра ученой эпопеи, которая после «Потерянного рая» уже не знала великих свершений, постепенно уступив место роману, часто называемому эпопеей Нового времени.
Действие «Потерянного рая» развивается по-барочному динамично, постоянно перемещаясь с одного места на другое — из преисподней на небо, с неба — в райский сад и т. д., так что сцены советов в преисподней и на небе сменяются пасторальными в Эдеме, пасторальные — батальными и т. д., а завершает все грандиозная панорама будущего в XI и XII книгах. Время же действия формально соответствует классицистическому канону — 24 часам, но на самом деле благодаря отступлениям в прошлое, аллюзиям на настоящее и экскурсам в будущее оно сочетает несколько пластов. Это прежде всего время библейское, в котором живут герои и в котором разворачивается сюжет. Но также современность, совсем недавние события английской революции, которые подспудно дают о себе знать в «Потерянном рае», — они есть и в описаниях сражений небесных воинств с полчищами Сатаны (эти сражения ведутся согласно боевому искусству XVII в. с применением артиллерии), и в пафосе лирических отступлений автора, и в его стремлении, поднявшись над схваткой, осмыслить историю. И события сегодняшнего дня, периода царствования Карла II, эпохи, казавшейся Милтону мелкой, антигероичной и ассоциировавшейся для него с личными трудностями и невзгодами. Недаром же, размышляя о ней, поэт писал:
Я не охрип.
Не онемел, хотя до черных дней, До черных дней дожить мне довелось.
Я жертва злоречивых языков, Во мраке прозябаю, средь угроз Опасных, в одиночестве глухом.
(книга VII).
И, наконец, та самая панорама будущего, во многом ставшая уже прошлым, в конце эпопеи, которая отодвигает Сатану и его бунт на подобающее им второстепенное место.
«Возвышенным предметам», о которых поэт вел рассказ в «Потерянном рае», должна была соответствовать и особая форма стиха. Ища ее, Милтон отверг рифму как «изобретение варварского века» и обратился к белому стиху. Образцом для него послужили итальянские поэмы Триссино, Аламани и Тассо, равно как и пьесы Шекспира и его младших современников типа Филипа Мессинджера.
Действительно, стих «Потерянного рая» близок пятистопному ямбу английской драматургии XVI—XVII вв. Но есть здесь и важное отличие. По верному наблюдению критиков, основной метрической единицей эпопеи служит не столько стопа, сколько строка, состоящая из десяти слогов, что позволяет поэту весьма свободно обращаться с паузами и ударениями, достигая замечательной гибкости и свободы речи. И тут при всем их кардинальном отличии Милтона можно сравнить разве только с Шекспиром. Большинство строк эпопеи представляет собой законченное синтаксическое целое, хотя поэт также искусно пользуется и переносом мысли из одной строки в другую, и паузами посередине строки. Но при всем этом именно строка создает тот ориентир, на который постоянно вольно или невольно реагирует ухо читателя, и в конечном счете, тот фундамент, на котором держится все грандиозное поэтическое здание эпопеи.
В свое время Теннисон сравнил музыку милтоновского стиха со звучанием органа. Применительно к «Потерянному раю» такое сравнение верно, если учесть, что орган может заменить целый оркестр. Интонация Милтона весьма разнообразна и всегда соответствует ситуации — будь то сцены в Пандемониуме, на небе, в Эдеме, лирические отступления и т. д. Голос Милтона звучит то страстно и патетично, то просветленно и грустно, то мрачно и трагично, то отрешенно и спокойно. Стиль обычно приподнят и близок больше поэтической, чем разговорной речи. Поэтическим является и синтаксис Милтона, допускающий разного рода инверсии и отступления от привычного порядка слов. Лексика эпопеи по преимуществу литературная, с достаточно большим количеством латинизмов. Латынь тогда была международным языком образованных людей, и Милтон рассчитывал, что его читатели поймут и оценят второй, латинский смысл английских слов, содержащий нужные ему аллюзии. Слов же, в которых латинское значение английского слова было главным (liquid = flowing), в эпопее очень мало.
В отличие от ранней поэзии Милтона, где явно доминировали барочные черты, в «Потерянном рае» барочные элементы совмещаются с классицистическими, но барочные явно преобладают. Как верно заметили исследователи, с классицизмом Милтона связывает поиск гармонического сочетания разума и добродетели, пафос подражания древним (Гомеру и Вергилию) и монументальность формы эпопеи. (Эта последняя черта, впрочем, также присуща и барочному искусству.) С барокко — необычайные динамизм сюжета, его ярко выраженное драматическое начало, совмещающееся с эпическим и лирическим, столкновение и противопоставление различных планов действия (преисподняя и небо, космический бой и райская идиллия), смещенная гармония композиции, возвышенный слог и пышная риторика, яркие контрасты образов (тьмы и света), упомянутая выше система пародийных соответствий, многочисленные антитезы (небесная гармония и хаос преисподней, послушание Мессии и бунт Сатаны и т. д.), неожиданные метафоры и эмблемы, аллегорические характеры (Смерть и Грех). Однако в целом эпопея Милтона, как и творчество Шекспира, взрывает привычные представления о стилях, совмещая их и в них не умещаясь.
Некий молодой квакер Томас Элвуд вспоминал, что, прочитав рукопись еще не опубликованного «Потерянного рая» в 1665 г., он вернул ее автору со словами: «Ты так много рассказал здесь о потерянном рае, но что ты можешь рассказать о рае возвращенном?» Милтон якобы ничего не ответил, задумался, а потом сменил тему разговора. Но впоследствии поэт показал Элвуду свое новое сочинение «Возвращенный рай», сказав, что молодой друг предложил ему тему, о которой он раньше не задумывался. Вряд ли это на самом деле так. Большинство критиков полагает, что Милтон скорее всего подшутил над простодушным Элвудом. Ведь тема возвращенного рая достаточно четко просматривается в последних книгах «Потерянного рая». Правда, она возникает там только как рассказ о будущих деяниях Христа-Мессии. В новой же поэме Милтон сделал этот материал основой сюжета.
Во вступлении к «Возвращенному раю» поэт ясно сформулировал тему, указав на связь своего нового произведения с предыдущим и отличие от него:
Я пел доселе, как утратил Рай Преслушный человек, а днесь пою.
Как Рай людскому роду возвратил Престойкий Человек, что всяк соблазн Отверг и, Соблазнителя презрев Лукавого, осилил и попрал, И в пустошах воздвигся вновь Эдем.
(здесь и далее перевод С. Александровского).
Тема возвращенного рая традиционно ассоциируется с искупительной жертвой Христа, с Его страстями и воскресением. Несомненно зная об этом, Милтон все же обратился к другому евангельскому эпизоду, к искушению Христа в пустыне и Его первой победе над Сатаной, поскольку именно этот сюжет содержал в себе нужные для поэта параллели и контрасты с сюжетом «Потерянного рая». Первое «преслушание» человека лишило Адама и Еву рая, превратив Эдем в пустыню, а «престойкое» послушание Христа вернуло рай людям, «ив пустошах воздвигся вновь Эдем». В пустыне Сатана пытался соблазнить Христа, как он некогда соблазнил Адама и Еву. И Христос, как и первые люди, тоже должен был сделать выбор, пользуясь свободной волей, хотя в отличие от Адама и Евы, Он не поддался искушению и сумел победить Сатану. В обеих поэмах присутствует тот же самый «всесильный, бесконечный, неизменный» Бог. В обеих поэмах действие разворачивается на земле, на небесах и в преисподней. И в обеих поэмах Милтон во вступлении просит Святого Духа ниспослать ему вдохновение.
Однако в целом «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» очень сильно отличаются друг от друга по форме, по манере письма и по характеру главных действующих лиц — Христа и Сатаны.
«Возвращенный рай» написан в ином жанре, чем «Потерянный рай». Это тоже эпопея, но так называемая краткая эпопея (brief epic), которая состоит из четырех небольших книг. Образцом для подражания Милтону теперь послужили не произведения Гомера, Вергилия или Тассо и Спенсера, но библейская «Книга Иова», основная поэтическая часть которой написана в форме диалога. Соответственно в «Возвращенном рае» нет широкого охвата действия, космических битв и идиллических сцен, контрастных планов и лирических раздумий, как в «Потерянном рае». Главный и единственный конфликт «малой эпопеи» раскрывается в основном через диалоги Сатаны и Христа, искусителя и Того, Кто сумел этого искусителя победить.
Рассказ об искушении Христа в пустыне приводят два евангелиста — Матфей и Лука, хотя порядок изложения события у них различен. Милтон опирался на Евангелие от Луки (4, 1 —13), где искушение на крыше Храма в Иерусалиме является последним. Кроме того, поэт, как и в «Потерянном рае», использовал самые разнообразные источники, среди которых, помимо «Книги Иова», исследователи называют другие библейские страницы, а также «Диалоги Платона», «Георгики» Вергилия, «Королеву фей» Спенсера, поэму Джайлса Флетчера «Победа Христа на земле», равно как и многочисленные толкования Евангелий. Но, как и раньше, Милтон радикально переосмыслил источники, дав свое совершенно оригинальное прочтение новозаветного сюжета.
Действие «Возвращенного рая» начинается с крещения Иисуса Христа в водах Иорданских, когда Дух в виде голубя сошел на Христа, а звучащий с неба божественный глас назвал Его Сыном Возлюбленным. Сатана, став свидетелем крещения, решил испытать Христа, чтобы проверить, действительно ли Он Сын Божий.
Во время первого искушения Сатана, обернувшись старцем «в убогом вретище», предложил Христу, взалкавшему после сорокадневного поста, превратить камни в хлебы и накормить Себя и его. Но Иисус, быстро распознав, кто вступил с Ним в беседу, сразу же отверг предложение Сатаны как несовместимое с повелением Бога, согласно которому человек должен Не о единем хлебе жить, но каждом Глаголе Божьем…
(книга I).
Рассказ о втором искушении Христа, когда Сатана предложил Ему дать власть над всеми царствами вселенной и славу их, занимает гораздо больше места и делится на ряд эпизодов. Все попытки Сатаны основаны на том, что он думал, будто Христос стремится к земной власти и славе, но царство Иисуса «не от мира сего», и потому Он каждый раз рушит коварные замыслы Архиврага.
Череда искушений начинается с чувственного соблазна — пира, который Сатана открывает взору Христа:
Роскошный, пышный, царственный стол —.
Обилье блюд, волшебный аромат И вкус!..
Изысканными блюдами постав Благоухал, и чашники округ Застыли — всяк был юн и толь пригож, Коль Ганимед и Иглас, а вдали То чинно стыл, а то пускался в пляс Прелестный рой наяд и резвых нимф.
Что изобилья воздымали рог…
(книга II).
Но Христос с легкостью побеждает этот соблазн, назвав «не ядью эту ядь, но скверным ядом».
Затем следует искушение богатством, которое Иисус также отвергает, ибо «богатство — прах» и истинно счастлив тот, кто «собой владеет, обуздав /Стремленья, страхи, страсти…» Отвергает Он и искушение славой:
Что слава, коль не суета молвы, Не льстивая хвала народных толп?
А что народ — ужель не жвачный скот.
Не смерды, что достойному хулы Возносят гласом велиим хвалу?
- (книга III)
- (Заметим, что подобное представление о народе имело мало общего с евангельскими ценностями, но было скорее присуще шекспировскому Кориолану или, может быть, самому Милтону в трудный для него период эпохи Реставрации.)
Не желая сдаваться, Сатана предлагает Христу славу освободителя родного края от римского ига, и снова безуспешно. Отказывается Иисус и от трона римских императоров, считавшихся тогда властителями мира. Все величие Рима — ничто в сравнении с величием Его будущего царства. И тогда Сатана изобретает новый изощренный соблазн, которого нет в источниках, но который придумал сам Милтон — мудрость греческой цивилизации, необходимая, чтобы управлять вселенной.
Афины! Око Греции, искусств И красноречья матерь! Сколь умов Там родилось, не то нашло приют В самих Афинах иль невдалеке!
Вон роща Академи, где Платон Преподавал науки; там пичуг Аттических все лето льется трель, А вон Гиметт цветистый; гулом пчел Трудолюбивых часто он манит Ученого к раздумью; вон Илисс Журчащий ток стремит…
(книга IV).
В этой тираде Сатаны явно просвечивает неподдельная любовь самого автора к великим достижениям греческой мысли, изучению которой он посвятил столько лет своей жизни — к философам Платону, Аристотелю, Сократу, Зенону, перипатетикам, эпикурейцам и стоикам, к греческим поэтам Сапфо, Пиндару, Гомеру, к «строгим трагикам» Софоклу, Эсхилу и Еврипиду, учившим «нравственности мудрой». Взятые вне контекста, эти строки звучат как возвышенный панегирик классическому наследию в духе гуманизма Возрождения и XVII в.
Однако Христос отвергает и этот соблазн, ибо настоящую мудрость дарует лишь знание христианского Бога, недоступное язычникам. Только Бог — источник истинного света, просвещающего мир, язычники лишь видят этот свет как бы сквозь «тусклое стекло». Многие критики усмотрели здесь отказ Милтона от возникшей в юности и питавшей все его творчество любви к античности. Но нельзя забывать, что эпопея написана в форме дебата, и Христос вряд ли мог ответить иначе.
После этого остается лишь последнее искушение на вершине Храма в Иерусалиме, куда Сатана возносит Христа. Именно теперь Иисус, на деле доказав веру и послушание Отцу, подтверждает Свое сыновство. В ответ на предложение Сатаны броситься вниз Рек Иисус: «Негоже искушать Всевышнего». Изрек — и устоял, А Сатана повергся, поражен…
(книга IV).
В конце «Возвращенного рая» небесный хор поет хвалу Христу в честь Его победы, а Он Сам смиренно возвращается «под Материнский кров».
Сатана «Возвращенного рая» сильно отличается от своего предшественника из «Потерянного рая». В нем нет ни былого титанизма, ни силы, ни яркого красноречия. Он фигура гораздо более мелкая, персонаж не космического, но вполне земного масштаба, подобно фокуснику демонстрирующий разного рода земные соблазны, с самого начала сомневающийся в своей победе и страшащийся потерпеть поражение. Изменился и облик победоносного Мессии. Антитринитарные воззрения Милтона обозначились здесь особенно явно. Поэт изобразил Христа не столько как Богочеловека, сколько как идеального человека, образец смирения и послушания. В отличие от Адама и Евы нравственный выбор для такого героя всегда ясен и однозначен. Сам же Он, очевидно, напоминал первым читателям не знающего сомнений сэра Гайона из «Королевы фей», воплотившего там добродетель умеренности и воздержания, или — еще больше — стойкую героиню «Комоса», с честью и без особого труда преодолевшую все искушения.
По мере развития сюжета оба главных действующих лица переходят от незнания и сомнения к знанию и уверенности. Сатана, сомневавшийся в мессианском достоинстве Христа, в конце концов убеждается в Его богосыновстве, и, потерпев поражение, исчезает со сцены, хотя бы и «до времени». Однако и Сам Иисус у Милтона тоже сомневается или по крайней мере не до конца уверен в Своем избранничестве. У Христа в «Возвращенном рае» нет всеведения, и Он не помнит о Своей славе до воплощения. Богородица рассказывает Ему о Его чудесном рождении и призвании. На берегу Иордана Иоанн Креститель узнает Его. А затем раздается небесный глас, и Иисус понимает:
Приспел Урочный час … чтоб отречь Себя от безызвестности, начать Достойно власти, данной Мне с Небес, Деянья и свершенья.
(книга I).
Но только на вершине Храма в Иерусалиме эта вера становится истинным знанием и полной уверенностью. Только теперь Он готов начать подвиг Своего служения.
Хотя «Возвращенный рай» написан тем же размером, что и «Потерянный рай», голос Милтона-иоэта звучит теперь совсем по-другому. Здесь нет ни былой величавой поступи стиха, ни пышной риторики, ни сложной латинизированной лексики. Стиль и язык «малой эпопеи» прост и даже немного аскетичен. (Исключением служит лишь несколько сцен типа картины пира в пустыне или панегирика в честь греческой мудрости, где слышится эхо прежних нот.) Однако все это, на наш взгляд, вовсе не говорит об ослаблении таланта автора «Возвращенного рая», об «одряхлении» его музы. Милтон и теперь твердо владеет пером, зная, что ему хочется сделать. Только он ставит перед собой совсем иные задачи, чем раньше.
Некоторые ученые усматривают в этой намеренной и в то же время весьма искусной простоте стиля поэмы отход Милтона от барочных излишеств и его более явное сближение с классицизмом. Думается все же, что барочная эстетика с ее антитезами (противостоящие друг другу герои и их полярно противоположная нравственно-философская позиция), с динамикой лишь на последней странице достигающего кульминации конфликта по-прежнему играет важнейшую роль в «Возвращенном рае». Стиль же поэмы сознательно приближен к евангельскому первоисточнику, сильно отличающемуся от книг Ветхого Завета именно своей простотой и доходчивостью. Знаменательно, что и сам поэт устами Христа, поставившего под сомнение пышное красноречие язычников, говорит:
Витий ты восхвалял как образец Красноречивости: они порой Своей стране привержены и впрямь —.
Но много мельче Вестников, что Бог Наставил…
Чем проще речь — тем легче разуметь…
(книга IV).
В малой евангельской эпопее Милтон не должен был и не хотел повторяться. Намеренная простота стиля — важнейшая часть эстетического замысла поэта.
Среди ученых нет единого мнения о том, когда именно была написана трагедия «Самсон-борец», впервые напечатанная в одной книге вместе с «Возвращенным раем» (1671) и помещенная там после него. Большинство считает, что трагедия является последним поэтическим произведением Милтона. Но есть и предположение, что «Самсон-борец» был написан раньше, а потом отредактирован перед публикацией, хотя текстологический анализ и не подтверждает эту гипотезу. Скорее всего трагедия стала последним экспериментом Милтона в области крупной формы, завершившим задуманную им еще в молодости творческую программу. Вспомним, что еще в трактате «Обоснование церковного правления, выдвигаемое против прелатов» (1642) Милтон, размышляя о великой поэме, которую ему хотелось бы создать, вместе с большой эпопеей в духе Гомера, Вергилия и Тассо и малой эпопеей в духе «Книги Иова», назвал и трагедию в духе Софокла и Еврипида. В дальнейшем поэт попробовал свои силы во всех этих трех жанрах, хотя он вряд ли бы стал отрываться от длившейся много лет работы над «Потерянным раем» и его продолжением, «Возвращенным раем», чтобы написать драму, а затем вновь вернуться к эпическому жанру. Достаточно же громко звучащие в «Самсоне-борце» мотивы личного порядка (слепота героя, его одиночество среди наделенных властью врагов) исключают более раннюю, чем эпоха Реставрации, датировку трагедии, т. е. она не могла быть написана до начала работы над «Потерянным раем».
В предисловии к «Самсону-борцу» Милтон сказал: «Трагедия, если писать ее так, как писали древние, была и есть наиболее высокий, нравственный и полезный из всех поэтических жанров». В столь высокой оценке трагедии чувствуется не только возникшее в юности и сохраненное поэтом до конца жизни искреннее восхищение античной драмой, но и желание защитить театр, закрытый пуританами как рассадник разврата, от нападок своих недавних попутчиков и отстоять свое право писать трагедию. В эпоху Реставрации театр был вновь открыт, но это был театр, глубоко чуждый Милтону, как чужд ему был, при всей его любви к Шекспиру, и английский театр XVI — начала XVII в. Поэт превозносил античных авторов, дабы «защитить трагедию от неуважения, вернее сказать, от осуждения, которого в наши дни она, по мнению многих, заслуживает… чему виной поэты, примешивающие комическое к великому, высокому и трагическому или выводящие на сцену персонажей банальных и заурядных…» Но именно это смешение комического и трагического, низкого и высокого и было одним из главных принципов шекспировской драмы.
Милтон задумал и написал трагедию совсем иного рода, аналогов которой в английской литературе той поры не было. Она предназначалась не для сцены, но, как некогда пьесы Сенеки, для чтения. Но, конечно, не Сенека и не латинская драма послужили Милтону образцом для подражания, но древнегреческий театр, столь хорошо знакомый поэту еще с юности. Как показали исследователи, особенно явны в «Самсоне» параллели с «Прикованным Прометеем» Эсхила (небольшое число персонажей, простая, незапутанная интрига с главным героем на переднем плане) и «Эдипом в Калонне» Софокла, где слепого и беспомощного Эдипа посещают друзья и враги, а контраст между былой славой и нынешним бесчестьем героя комментирует хор и другие персонажи.
Совершенно очевидно, что Милтон осмыслил античную традицию, во многом опираясь на принципы поэтики классицизма XVII в. «Самсон-борец», пожалуй, самое близкое к классицизму произведение поэта. В трагедии соблюдены все три единства (места, времени и действия), в нее введен хор, повествующий о прошлом героя, комментирующий происходящие на сцене события и помогающий Самсону понять себя, а также вестник, рассказывающий о гибели героя, которая происходит за сценой. Вся композиция трагедии очень строго продумана и не допускает ничего лишнего. Однако, в отличие от античного театра, в пьесе Милтона действует не неумолимая судьба, одинаково карающая и правых, и виноватых, но Провидение, ветхозаветный Бог, являющий Себя в истории избранного Им народа, и потому внешне жесткоклассицистическая форма «Самсона» неожиданно вмещает в себя близкое барокко настроение кризиса, надлома, которое преодолевается лишь в самом конце пьесы. Милтон и теперь ломает привычные границы стилей, сплавляя воедино античное и библейское, барочное и классицистическое и подчиняя этот справ своему ярко индивидуальному видению мира и искусства.
Белый стих монологов трагедии при всей своей приподнятости льется легко и как-то по особенному напевно, в лучших местах не уступая стиху «Потерянного рая» и мало чем напоминая аскетическую манеру «Возвращенного рая». В хорах же «Самсона-борца» Милтон продолжил эксперименты, некогда начатые в «Люсидасе», введя непостоянный размер, возникающие изредка рифмы, быструю смену интонации и добившись эффектов, уникальных в истории английской поэзии.
За основу сюжета трагедии поэт взял главы из библейской «Книги Судей» (13—16), где Самсон изображен как один из вождей еврейского народа, совершивший целый ряд сказочных подвигов и прославившийся в борьбе с язычниками-филистимлянами. Милтон во многом следует библейскому тексту, рассказывая о различных эпизодах жизни героя словами хора или Маноя, отца Самсона. Но есть в трагедии и существенные отступления от источника. Так, поэт сделал Далилу не возлюбленной, но женой героя, придумал богатыря Гарафу и заставил Маноя просить филистимлян отпустить сына за выкуп на свободу. Однако основное отличие заключалось в том, как Милтон переосмыслил образ главного героя. Если в «Книге Судей» Самсон был показан как сравнительно простая личность, сродни былинным богатырям, то у Милтона он стал сложным трагическим характером, борющимся и страдающим, который проходит череду искушений и в конце концов принимает решение, достойное Божьего избранника. (О таком избрании ангел возвестил матери Самсона еще до его рождения.) Тема свободы воли и осознанного выбора играет важнейшую роль и в этом произведении Милтона.
Поэт обратился к последнему эпизоду из жизнеописания Самсона, когда он уже вкусил всю горечь страдания. Преданный Далилой, которая коварно выведала тайну его богатырской силы, заключенную в назорейском обете не стричь волосы, остриженный и ослепленный, герой томится в тюрьме в Газе. На время оказавшись в уединенном месте рядом с темницей, Самсон предается размышлениям о своих несчастьях:
Едва наедине я остаюсь, Меня, как кровожданный рой слепней.
Смертельно начинают жалить мысли О том, чем был я встарь и чем я стал…
Так неужель я, Божий назорей, Для подвига предизбранный с пеленок.
Взращен был лишь затем, чтоб умереть Слепым рабом и жертвою обмана, Вращая жернов под насмешки вражьи И силу, что Творец мне даровал.
Как подъяремный скот, на это тратя?
О! При столь дивной силе пасть так низко!..
Господь предвозвестил, что я Израиль От ига филистимского избавлю.
Где ж ныне этот избавитель? В Газе, На мельнице, средь узников в цепях, Он сам под филистимским игом стонет.
(здесь и далее перевод Ю. Корнеева)
В словах этого знаменитого монолога Самсона, который критики часто сравнивают с монологами софокловского Эдипа, слышится горечь разочарования, жалость к себе и растерянность. Герой не понимает воли Бога, хотя и не смеет Его обвинять, зная, что сам виновен в своих несчастьях, ибо разум у него оказался слабее «темной силы, грубой, неуемной». Мысль о вечном мраке слепоты приводит Самсона на грань отчаяния:
Я жалче, чем последний из людей.
Чем червь — тот хоть и ползает, но видит;
Я ж и на солнце погружен во тьму, Осмеянный, поруганный, презренный.
В тюрьме и вне ее, как слабоумный, Не от себя, но от других завися, Я полужив, нет, полумертв скорей.
Появившийся на сцене хор (иудеи из Данова колена) пробует поддержать Самсона, но, подобно друзьям Иова, лишь растравляет его раны, сравнив его былую славу с нынешним падением и обвинив его в том, что он не выполнил возложенной на него Богом роли защитника отечества. Слова хора о праведности путей Бога, хотя и абсолютно справедливы, все же не утешают героя, ибо он пока еще не осознал, в чем именно заключен смысл этих путей в отношении к нему лично.
Вслед за хором навестить Самсона приходит его престарелый отец Маной. Искренне любящий сына, но недалекий, Маной потрясен случившимся и с горя винит во всем Бога. Но Самсон сразу встает на защиту Всевышнего — он сам заслужил свои несчастья, и его нынешнее рабство лучше, чем его былая самонадеянность и духовная слепота:
За поступок, Раба достойный, рабством я наказан, Но даже в рубище, вращая жернов, Не ниже, не постыдней, не бесславней Я пал, чем став невольником блудницы, И нынешняя слепота моя Все ж не страшнее слепоты духовной, Мне мой позор увидеть не дававшей.
Подобное признание — уже шаг вперед навстречу духовному возрождению героя.
Не понимая этого, Маной рассказывает сыну, что ведет переговоры с филистимлянами о его выкупе в надежде облегчить его участь и вернуть домой. Очевидно, что для Маноя главными являются радости и спокойствие семейного крова, физическая и душевная, а не нравственная и духовная стороны жизни. И это первое искушение, которое преодолевает Самсон. Такая жизнь не привлекает его, и он хочет умереть здесь в рабстве, которое заслужил:
Мой дух надломлен, не сбылись надежды, Всем естеством я от себя устал.
Прошел стезею славы и позора Я до конца и ныне твердо знаю:
Уже не долго отдыха мне ждать.
Хор вторит Самсону, прося у Бога облегчить его страдания и послать ему мирный конец, «отдых от долгой муки». Хотя Самсон победил это первое искушение, растерянность и отчаяние пока еще не покидают его.
Следующий собеседник Самсона — его жена, филистимлянка Далила. Это, пожалуй, самый сложный характер трагедии. Вряд ли верно считать Далилу лишь вероломной обманщицей, как это делают хор и сам герой. Поэт не случайно из возлюбленной превратил ее в жену Самсона. Скорее всего она по-своему любит его, но эта любовь не имеет ничего общего с идеалами супружества, как их понимал Милтон, раскрывший их смысл в трактатах о разводе и воплотивший их в образах Адама и Евы. Но Далила — не Ева. Любовь Далилы — это страсть, стремящаяся подчинить себе любимого, поработить его, взять на себя роль единовластной госпожи в супружеском союзе. Иными словами, героиня трагедии на деле воплощает ту самую куртуазно-петраркистскую модель чувства, к которой Милтон всегда относился крайне отрицательно. Далила говорит:
Решила я, что, будучи свободен, Ты вновь уйдешь опасностей искать, И мне от страха за тебя слезами Кропить придется дома вдовье ложе, Тогда как здесь в плену ты у меня, А вовсе не у филистимлян будешь И я, ни с кем тобою не делясь, Смогу твоей любовью наслаждаться…
Вместе с тем Далила, безусловно, очень привлекательна, и любовь Самсона к ней была во многом сродни физическому влечению, которое не до конца покинуло его и сейчас. Именно поэтому он запрещает жене прикасаться к себе. Для него встреча и разговор с Далилой — это еще одно искушение, двойной искус недолжных супружеских отношений и чувственной страсти, который герой преодолевает, прогоняя жену. И тогда перед уходом она полностью открывает карты, говоря, что, предав Самсона, она поступила как патриот своего отечества (патриотизм не исключает эгоистической страсти с ее стороны), и теперь ее будут славить как спасительницу родного края. Эти слова в свете скорой гибели множества ее соплеменников и, возможно, ее самой под обломками храма звучат двусмысленно и даже иронично. Но ни хор, ни герой не чувствуют этой иронии. Самсон лишь подводит итог встречи, говоря:
Любви подчас размолвка не вредит, Но брак вовек с изменой несовместен.
В целом же беседа с женой, приведя Самсона в ярость, вывела его из мрака уныния и апатии и подготовила к новой встрече и новому искушению.
На этот раз Самсона посещает филистимский великан Гарафа, чтобы увидеть еще столь недавно внушавшего ужас его собратьям пленника и унизить его, посмеявшись над слепым богатырем. Теперь это уже искушение мирской славой, которую раньше так любил Самсон, удар по его гордыне. Ответ героя хвастливому и высокомерному Гарафе исполнен смирения, внутреннего достоинства и надежды, которая теперь начинает возвращаться к Самсону:
Я вижу в оскорблениях твоих И муках, мной терпимых по заслугам, Лишь справедливую Господню кару, Но верю, что простит вину мне Тот, Чье око и Чей слух не отвратятся От грешника, который покаянно К Нему взывает.
Вызов же Самсона на поединок заставляет Гарафу сбавить спесь и спешно ретироваться.
Последним к Самсону приходит служитель храма Дагона, чтобы пригласить героя выступить на празднике в честь этого языческого бога, показав свою силу. Вместе с отросшими волосами сила вернулась к Самсону, но он поначалу отказывается идти в капище, боясь оскверниться. Однако потом, передумав и полностью положившись на волю Бога, он соглашается. Перед уходом он говорит хору:
Я ощущаю, как во мне родится Порыв, который помыслы мои К необычайной цели направляет.
Я в капище пойду, хоть там, конечно, Ничем не посрамлю ни веру нашу, Ни тот обет, что дал как назорей.
Коль могут быть предчувствия правдивы.
День этот в веренице дней моих Или славнейшим, иль последним станет.
У слепого героя открылось внутреннее духовное зрение, и это последний этап на пути его возрождения. Теперь Самсон готов к новым подвигам во славу Бога.
Но подвиги эти он совершает за сценой. Маной и хор лишь слышат страшный шум и крики. Вскоре появившийся вестник рассказывает им, что Самсон, ухватившись за колонны и раскачав их, разрушил храм, под обломками которого погибли все самые лучшие и знатные филистимляне, а вместе с ними и герой, самой своей смертью одержав сокрушительную победу над врагами отечества. Размышляя о гибели сына, Маной говорит хору:
Довольно! Ни к чему, да и не время Сейчас скорбеть. Самсоном до конца Самсон остался, завершив геройски Свой путь геройский. Он врагам отмстил, И детям Кафтора по ближним плакать Придется много лет. Честь и свободу Он завещал Израилю, коль тот Окажется достаточно отважен И не упустит случай их вернуть.
Себя и отчий дом покрыл он славой, И — что всего отрадней — от него Не отвратился Бог, как мы боялись, Но милостив до смерти был к нему.
Смерть, которую отчаявшийся Самсон еще совсем недавно ждал как исход от страданий и позора, на самом деле открыла возродившемуся герою дорогу к подвигу и славе и подготовила грядущее вскоре окончательное освобождение его народа. Вспомним, что Голиаф, сраженный пращей Давида, — сын Гарафы.
Выражаясь словами хора. Всеведущее Провидение все привело к благой цели. Как и в «Потерянном рае», Творец оправдал «Свои пути пред тварью». Этой теме, заинтересовавшей его еще в молодости («Комос», «Люсидас») Милтон остался верен и на склоне дней, сочинив в конце жизни «Самсона-борца», одно из своих самых глубоких и совершенных творений.
Горбунов А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVI—XVII вв.еков. М., 1993.
Макуренкова С.А. Джон Донн: поэтика и риторика. М., 1994.
Павлова Т. Джон Милтон. М., 1996.
Самарин РМ. Творчество Джона Мильтона. М., 1964.
Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.
Carey J John Donne: Love, Mind and Art. L, 1981.
Leishman J.B. The Monarch of Wit. An Analitical and Comparative Study of John Donne. L., 1962.
- [1] Буквы в этой схеме означают рифмы, цифры — количество стоп.