Описание и повествование в романной прозе.
Эволюция образа неба в романе Е. И. Замятина «Мы»
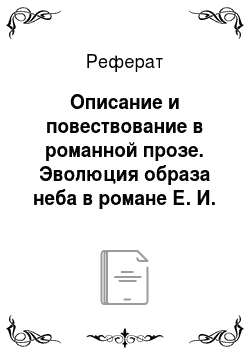
Конспективно Е. Замятин повторяет весь путь, пройденный душой его героя, в записи 34, конспекте: «Отпущенники. Солнечная ночь. Радиовалькирия. Полет мятежников, захвативших Интеграл». В начале полета нумерам «жутковато, серо, без лучей» (364), у них «серые, без лучей, лица», «тяжкие, чугунные пласты неба» (366). «Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо… Читать ещё >
Описание и повествование в романной прозе. Эволюция образа неба в романе Е. И. Замятина «Мы» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Жанровый синтез в романном пространстве. Динамический пейзаж. Роль пейзажа в развитии сюжета
Кажется, роман Е. И. Замятина изучен, если не с исчерпывающей полнотой, то все-таки достаточно глубоко, со стороны идеологической— прежде всего (роман антиутопия). В связи с этой именно характеристикой исследователей занимают и черты стиля. Однако «утопия» не исчерпывает всего содержательного плана повествования. Анализ хотя бы одной составляющей описаний романного целого, например образа неба, заставляет увидеть многословность, многоплановость, многомерность его внутренней формы, явно сужаемой нынешними определениями.
Обратившись к пейзажному описанию[1], мы показываем, что роман Е. И. Замятина — мистерия наоборот. в которой автор применяет принцип зеркального отражения. Если традиционно мистерия имеет вектор нисхождения в ад, а оттуда — восхождение к Богу, то в романе Замятина дан путь от мертвой души к ее воскрешению, и затем для автора дневника следует омертвение, для героини 1−330 — мученическая смерть ради спасения души. Мистериальный план разворачивается и в сюжете повествования, и в аккомпанементе этому сюжету в описаниях. Так, солнце (розовое, веселое), ясно (в начале и в конце романа) — это смерть чувств, мыслей героя, ясность мертвенности); туман, об лака, ветер, буря — пробуждение чувств, любви — жизнь души. Конфликт рациоцеитризма, рассудочности и эмоций, кажется, доведен писателем до логического конца.
Солнце в данном случае оказывается не только элементом пейзажа, по и символом (даже аллегорией) Благодетеля, Бога. Е. И. Замятин использует христианский образ, который «нисходит с небес. Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних"'12; «Благодетель — есть необходимая для человечества усовершепствовапнейшая дезинфекция» (346). Небо — образ сознания рассказчика, математика, нумера Д-503. Описание неба появляется уже во второй его дневниковой записи. «Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком…» (238). Ничем не испорченное, «неомраченное безумием мыслей» (240). Сознание нумера Д-503 такое же ясное, как у всех остальных нумеров: «…мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо» (238). Они едины и счастливы в своем единстве: глаза, «отражающие сияние небес, может быть, сияние Единого Государства» (265); «углубленная, строгая, готическая тишина» (265); «солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное — снизу» (264). Единство в понимании неба гражданами единого государства полемично по отношению к собственно христианскому единению в образе соборности. В соборности доминантна Гётерофония, по мнению П. А. Флоренского, свободное обращение к Богу каждого в отдельности в молитве, в литургии вообще, и общее, объединяющее всех чувство соборного обращения к Богу, когда «Я» и «МЫ» — не легион, а собор.
Туман, облачность — указание на зарождение души нумера Д-503. Не случайно облачность появляется сначала «внутри нумера». Затем она выплескивается наружу, нарастая по мере развития сюжета: «…облако на гладкой синей майолике» (253); «Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканыо и не видно: что там — дальше, выше» (275); «Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что[2]
там — выше? И если бы знать: кто — я, какой — я?" (279). От ясности к ощущению тайны, таинственности, и первый раз нумер осознает себя отдельно от остальных нумеров, первый раз он видит в зеркале отдельные черты своего лица. «Появление облаков» в сознании Д-503 связано с его новой знакомой, нумером 1−330.
Образ нумера I 330 — образ революции, в выдуманном Замятиным мире; эта женщина пытается разбудить от летаргического сна дремлющую душу нумеров, провести через туман, через «немое бетонное небо» к солнцу свободы мыслей, свободы выбора (ведь Бог в христианстве дает человеку выбор). Через этот путь проводит Е. Замятин своего героя, с неподражаемым мастерством художника, где каждое слово значимо, ясно, прозрачно.
Д-503 на протяжении романа находится на перепутье двух дорог: первая — это ясный, солнечный, безмятежный мир, к которому он привык с детства; вторая — мир смятенных чувств, мыслей, выплеснувшийся на всю окружающую природу. И все такое привычное, знакомое, а уже другое. «Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит… и пожилая луна улыбнется чериильно…» (270). Чувственно-душевная старость мира, его рационализм, книжность, выдуманность, неестественность охарактеризованы олицетворением и метафорой.
«…Сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее — и легче, и ближе, и уже нет границ между землей и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться» (282). Юнифы нумеров сотканы из тумана. Везде туман, и только два нумера, Д-503 и 1−330, «Мы шли двое — одно. Где-то сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным» (284). По существу, эти эпитеты — характеристики и внутреннего состояния героев, и мира вокруг — пасхально-праздничного, указывающего на воскрешение души героя в любви: «А без нее завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо — выкрашенная синим жесть, и сам я…» (326). Туман сгановится золотым, «розово-золотым» (285). Впервые туман вынесен рассказчиком в одно из названий своих записей. Д-503 прошел через туман, и теперь утро для него «розовое, прозрачное теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые и все до одного улыбаются — люди» (290). Цветовой эпитет не только поэтизирует рассудочно-механистически устроенный мир, для него теперь мир вокруг открыт заново, как это происходит в самый главный праздник православных — Пасху.
Солнце как образ Благодетеля, уже не ясное, безмятежное, оно «тускло подымалось, измученное полднем» (291). «Что со мной? Я потерял руль… я нс знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас обземь, или вверх — и в солнце, в огонь…» (292), «кругом — стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня» (293). Один и тот же образ оказывается наполнен диаметрально-противоположными смыслами. Душа, оказывается, — «неизлечимая болезнь». И вот, когда начинается лечение: «легкие, тяжелые тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стеклянного льда — евин- цовеют, набухают…»у «ветер хлопает темными крыльями о стекла окон» (316). Но теперь это не просто нумер Д-503, а человек, у которого проснулась душа, он знает тайну I, это знание подкреплено любовью. И все, что его окружает как бы подернуто пеплом, «вечерний розовый пепел — на стекле стен… иная эта розовость — сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет звонкая, шипучая» (304). Розовый пепел по сути — оксюморон, в нем соединены, кажется, диаметральнопротивоположные характеристики: розовый — жизнь, цветение, пепел — смерть, то, что остается после того, как отбушевал огонь: «В глазах у меня — рябь… Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо — все гугце темно-розовый, печальный пепел» (305). Что сожжено? Что возродилось из пепла розовым цветом? Отчего печаль? Без сомнения, параллелизм пейзажа небес и пейзажа души делает прозу Е. Замятина поэтичной.
А буря вовне и в душе нарастала, «над крышами метался огромный ветер, и косые сумеречные облака — все ниже…» (317). Сознание проснулось не только у Д-503, на протяжении романа его проявление Замятии сравнивает с метеором (318), а в том мире с «соскочившей на полном ходу ганкой» (318), от которых «вся прогулка застыла, и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн» (319). Чем «гуще» туман, тем отчетливее видит Д-503 окружающие предметы и, наконец, с торжеством восклицает: «Луна, — понимаете?» (321). «Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется, это было и все время, но услышал я только сейчас)» (323). Рождение души для героя связано с пробуждением любви, он боится и борется с чувством: «Но почему же во мне рядом и „я не хочу“ и мне „хочется“?» Герой молится: «Благодетель Великий! Какой абсурд — хотеть боли» (324). И это так похоже на молитву его предков.
«Ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат» (325) перед днем единогласных выборов, вдень которых «…было, как у древних перед грозой. Воздух из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рты» (330), — так встречает день появление Благодетеля. И, «будто пожару древних — все стало багровым» (331), «тысячи рук взмахнули вверх — „против“ — упали» (331). Но ничего не случилось: солнце не стало «четырехугольным» (333), не появились и люди «в разноцветных одеждах из звериной шерсти» (333). «Сквозь потолок — небо повсегдашнему крепкое, круглое, краснощекое» (333). Появляется образ «немого бетонного неба» (335). Кругом тишина, но наверху уже началась буря: «Во весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдельные зубчатые обломки» (347). Что же победит: солнце (утилитарно понятое счастье) или стихия (свобода)?
Но «счастье», «Единое Государство», не дремлет: изобретена формула абсолютного счастья — машина, которая излечивает от фантазии, «последней баррикады на пути к счастью» (353). Д-503 радуется, несет улыбку — как фонарь, высоко над головой. «Там, снаружи па меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины» (354). Сама природа против такой операции: «…там тучи — все чугуннее»
(356), «обломки чугунного неба летели» (357), река вздулась, ветер свистит, «весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху» (358), «хлопает по ветру белое знамя с вышитым золотым солнцем» (359). Стройные ряды нумеров «от ветра колеблются, гнутся» (358). «Как струя воды… разбрызнулись веером» (359), убегая от Хранителей, загонявших нумера на операцию. Ветер достигает своего апогея, его «тугие, хлещущие ветки» (360) окружают «немые свинцовые дома», «ветер гудит — как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна» (362). Образ несвободы, возвращенный сознанию героя как счастье, завершающий повествование, выписан и точно, и емко, и глубоко. Эпитет «чугунный» характеризует одновременно и цвет, и фактуру, и объем, и массу, противопоставляя невесомость живого и безмерную тяжесть оков мертвенного, упорядоченного, регламентированного существования.
Конспективно Е. Замятин повторяет весь путь, пройденный душой его героя, в записи 34, конспекте: «Отпущенники. Солнечная ночь. Радиовалькирия. Полет мятежников, захвативших Интеграл». В начале полета нумерам «жутковато, серо, без лучей» (364), у них «серые, без лучей, лица», «тяжкие, чугунные пласты неба» (366). «Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо… каплями холодного серебряного неба проступают звезды… И вот — жуткая, нестерпимо-яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было — немое — солнце» (366). «…Бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь» (367). «Запах синих молний» (370), и Интеграл вернули на Землю, мятежников предали. Д-503 снова остается один, «и вот — один. Ветер, серые, низкие — совсем над головой — сумерки» (372), сумерки, которые останутся с ним до «операции». Он совершает «убийство» предателя, но это «убийство» смехом. А вокруг «свитые из ветра канаты» (380), «какой-то огромный, до неба, железный круглый гул…»} «мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи» (379), Стену взорвали (379), «на западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и оттуда глухой, закутанный гул» (382). При последнем разговоре с 1−330 наш герой становится чужим для самого себя, «я двинул свои — чужие ноги, задел стул — он упал ничком, мертвый» (384): он предал ее, «на западе ежесекундно в синей судороге содрогалось небо» (384). Пейзаж становится метонимическим, по нему мы уже судим и о происходящем в душе героя. Синий цвет со звездами в православии образ Богородицы, радости всякого человека на земле, ибо она дала миру Спасителя. Так пейзаж указует и на исчезновение этой надежды для героя, на гибель души.
Д-503 бежит в Бюро Хранителей, его сознание, как «небо — пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха — тонкое — страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью» (384), он рассказал обо всех «врагах счастья».
Операция. «День. Ясно. Барометр 760» (388).
Жрица свободы, стихии, «вихревая, сверкучая», ТЗЗО закончила свои дни «в знаменитой Газовой Комнате», «под Куполом», из которого насос вытягивал так любимый ею воздух: с помощью электродов ее приводили в себя и снова сажали под Колокол (не на кол, как в древних варварских пытках-расправах), так продолжалось три раза «и она все-таки не сказала ни слова» (390). Но Е. Замятии дал в руки I возможность повторения попытки разбудить желание свободы счастья в нумерах. Именно она переправляет 0−90, которая ждет ребенка от Д-503, за Стену, теперь будущее станет строить его ребенок. «Раз число чисел бесконечно, какую же ты хочешь последнюю революцию?» (350).
Анализ только образа неба в романе позволяет указать на важные черты стиля писателя: его всемерное стремление использовать возможности и художественного, и жанрового синтеза (соединение прозаических и поэтических приемов развертывания содержания), на особую функцию сииестетических образов, способных создать внутреннюю форму художественного целого, в которой мистериальное, дневник и поэма не конфликтны, а взаимообусловлены.
- [1] Вслед за Л. И. Дмитриевской мы понимаем под пейзажем «многофункциональный художественный образ природы в литературном произведении, обладающий внутренней формой и содержанием, отражающийиндивидуальный авторский стиль и стиль эпохи». В романе выявлены доминантные для системы символистов образы природы: неба, солнца, тумана, дома — которые несут в себе многозначную семантику. (См. подробнее: Дмитриевская Л. Н. Портрет и пейзаж: проблема определения и литературного анализа. М. 2005.)
- [2] Замятин. Мы // Избранные произведения М.: Синергия, 1997.С. 327. Далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках с указаниемстраницы.