Восемнадцатая ХРИСТИАНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНОГО БЕЗБРАЧИЯ И МОНАШЕСТВА
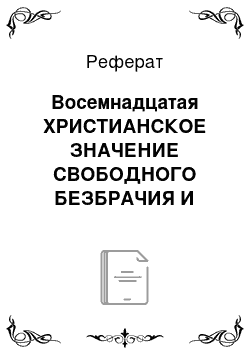
Жизнь вне мира, сверхъестественная жизнь, есть жизнь безбрачная по существу. Безбрачие — разумеется, не в качестве закона — заключается во внутренней сущности христианства. Достаточным доказательством этого служит сверхъестественное происхождение спасителя. Этой верой христиане освятили непорочную девственность как спасительный принцип, как принцип нового, христианского мира. Нельзя ради… Читать ещё >
Восемнадцатая ХРИСТИАНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНОГО БЕЗБРАЧИЯ И МОНАШЕСТВА (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Понятие рода и значение жизни рода исчезло с появлением христианства. Этим лишний раз подтверждается приведенное выше положение, что христианство не заключает в себе принципа культуры. Если человек непосредственно отождествляет род с индивидом и считает это тождество своим высшим существом, своим богом, если, таким образом, идея человечества служит для него объектом только как идея божества, то пропадает потребность в культуре: человек вмещает все в себе, в своем боге, и поэтому не чувствует потребности восполнять себя другим индивидом, представителем рода, созерцанием мира вообще — потребности, на которой только и покоится стремление к культуре. Но тем не менее человек достигает своей цели — он достигает ее в боге. Бог есть именно эта достигнутая цель, осуществленная высшая цель человечества. Но каждый индивид думает, что бог существует только ради него. Только бог и нужен христианам. Им не нужны ни другой индивид, ни род, ни мир; внутренняя потребность в другом отсутствует. Бог заменяет мне род, заменяет другого. Только отрекаясь от мира, обособляясь от него, я сильнее чувствую потребность в боге, живее ощущаю присутствие бога и чувствую, что такое бог и чем он должен быть для меня. Разумеется, и религиозный человек нуждается в общении, в общественном назидании. Но потребность в другом лице сама по себе вещь второстепенная. Спасение души есть основная идея, главная задача христианства, но это спасение заключается только в боге, только в сосредоточении на нем. Требуется деятельность для других как условие спасения, но основа спасения есть бог, непосредственное отношение к богу. И поэтому деятельность для других имеет только религиозное значение, основой и целью ее является отношение к богу, в силу чего она есть в сущности деятельность для бога, для прославления его имени, для распространения его славы. Но бог есть абсолютная субъективность, отрешенная от мира, сверхмировая, освобожденная от материи, жизни рода и тем самым от половых различий. Поэтому отчуждение от мира, от материи, от жизни рода есть существенная цель христианина[1]. И эта цель реализуется чувственным образом в монашестве.
Утверждение, будто монашество появилось впервые на Востоке, самообман. Во всяком случае, защищая это положение, надо оставаться справедливым и объяснять тенденцию, противоположную монашеству, не характером самого христианства, а духом, природой Запада вообще. Но чем тогда объяснить восторженное отношение Запада к монашеству? Нет, монашество вытекает из самого христианства; оно было необходимым следствием веры в небо, которое христианством обещано человечеству. Где небесная жизнь есть истина, там земная жизнь есть ложь; где фантазия есть все, там действительность — ничто. Земная жизнь теряет свою цену для того, кто верит в вечную, небесную жизнь. Или, вернее, она уже потеряла для него всякую цену: вера в небесную жизнь есть вера в ничтожество и бренность этой жизни. Я не могу представить себе загробной жизни без того, чтобы не томиться по ней, чтобы не окидывать жалкую земную жизнь взглядом сострадания или презрения. Небесная жизнь не может быть предметом, законом веры, не будучи в то же время моральным законом. Она должна определять мои поступки[2] для того, чтобы моя жизнь соответствовала моей вере: я не должен привязываться к преходящим благам этой земли. Я не должен и не хочу, ибо что такое все эти блага в сравнении со славой небесной жизни?[3]
Правда, качество будущей жизни зависит от качества, от моральных свойств этой жизни, но нравственность сама определяется верой в вечную жизнь. И эта соответствующая загробной жизни нравственность заключается в отвращении от этого мира, в отрицании этой жизни. Чувственное проявление этого духовного отвращения есть монастырская жизнь. Все должно в конце концов проявляться внешне, чувственно[4]. Монастырская и вообще аскетическая жизнь есть жизнь небесная, насколько она проявляется и может проявиться здесь, на земле. Если моя душа принадлежит небу, то мое тело не может и не должно принадлежать земле. Душа оживляет тело. Когда душа улетает на небо, покинутое тело умирает и вместе с ним умирает соединительный, связующий орган между миром и душой. Смерть, отделение души от тела, по крайней мере от этого грубого материального, греховного тела, есть переход на небо. Но если смерть —условие блаженства и нравственного совершенства, то единственным законом морали неизбежно является укрощение, умерщвление плоти. Нравственная смерть есть необходимое предвосхищение естественной смерти — необходимое потому, что было бы в высшей степени безнравственно достижение неба предоставить смерти чувственной, которая не есть акт моральный, но акт естественный, общий человеку и животному. Поэтому смерть должна возвыситься до акта морального, стать актом самодеятельности. «Я каждый день умираю», — говорит апостол[5] и это изречение основатель монашества св. Антоний сделал девизом своей жизни.
Мне могут возразить, что христианство стремилось только к духовной свободе. Пусть так; но что такое духовная свобода, не выражающаяся в поступках, не проявляющаяся в чувственной форме? Или ты думаешь, что твоя свобода зависит только от тебя, от твоей воли, от твоих мыслей? О, тогда ты сильно ошибаешься, значит, ты никогда не переживал истинного акта освобождения! Пока ты связан известным положением, известной профессией, известными отношениями, твои поступки невольно определяются ими. Твоя воля, твои убеждения освобождают тебя только от сознательных, а не от скрытых, бессознательных границ и впечатлений, заключающихся в самой природе вещей. Поэтому нам не жутко, мы не подавлены только тогда, когда мы пространственно, чувственно отдаляемся от того, с чем мы порвали внутренним образом. Только чувственная свобода есть залог истинной духовной свободы. Человек, действительно переставший духовно интересоваться земными благами, готов совершенно отказаться от них, чтобы окончательно облегчить свое сердце. Все то, чего я не признаю в силу своих убеждений, но от чего я еще не отрешился, тяготит меня, потому что противоречит моим убеждениям. Долой все это! Рука не должна удерживать то, что вылетело из головы. Только убеждение сообщает силу рукопожатию, только убеждение освящает обладание. Тому, кто должен обладать женой так, как если бы он не обладал ею, лучше не иметь ее вовсе. Обладать так, как будто не обладаешь, — значит обладать без убеждения в обладании, то есть в сущности не обладать вовсе. И кто поэтому говорит: обладайте этой вещью так, как если бы вы ею не обладали, — только деликатным, вежливым образом внушает вам не обладать ею вовсе. То, что становится чуждым моему сердцу, перестает принадлежать мне и свободно улетучивается. Св. Антоний решил отречься от мира, как только услышал слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и иди вслед за мной». Св. Антоний понял истинный смысл этих слов. Он пошел, продал свое имущество и роздал его нищим. Только этим он доказал свою духовную свободу от сокровищ этого мира[6].
Разумеется, такая свобода, такая истина противоречит современному христианству, утверждающему, будто господь хотел только духовной свободы, т. е. свободы, не требующей ни жертв, ни энергии, свободы иллюзорной, свободы самообмана — такой свободы от земных благ, которая заключается в обладании и наслаждении этими благами. Поэтому господь будто и говорил: «Иго мое легко». Как дико, как нелепо было бы христианство, если бы оно заставляло людей жертвовать сокровищами этого мира! Тогда оно и не годилось бы для этого мира. В действительности дело обстоит иначе. Христианство в высшей степени практично и житейски мудро: оно предоставляет освобождение от сокровищ и удовольствий этого мира естественной смерти — самоумерщвление монахов есть не христианское самоубийство, — а обладание земными сокровищами и наслаждение ими предоставляет нашей самодеятельности. Истинные христиане, правда, не сомневаются в истинности небесной жизни, сохрани боже! В этом они вполне согласны и теперь еще с древними монахами; но они ожидают этой жизни терпеливо, преданные воле божией, то есть воле своекорыстия, стремлению к наслаждению благами этого мира[7]. Но я гадливо и с презрением отворачиваюсь от современного христианства, где невеста Христова клянется вечным связующим, неопровержимым, священным, истинным словом божиим и при этом — о позорное лицемерие! — сама охотно исповедует полигамию, по крайней мере последовательную полигамию, которая, однако, в глазах истинных христиан мало чем отличается от полигамии одновременной, и я возвращаюсь с священным трепетом к непризнанной истине целомудренной монастырской кельи, где душа, вверенная небу, не имела греховной связи с чуждой ей земной плотью!
Жизнь вне мира, сверхъестественная жизнь, есть жизнь безбрачная по существу. Безбрачие — разумеется, не в качестве закона — заключается во внутренней сущности христианства. Достаточным доказательством этого служит сверхъестественное происхождение спасителя. Этой верой христиане освятили непорочную девственность как спасительный принцип, как принцип нового, христианского мира. Нельзя ради нерасторжимости брака ссылаться на такие места из Библии, как «размножайтесь» или «что бог сочетал, человек да не разлучает». Первое изречение, как заметили еще Тертуллиан и Иероним, относится только к незаселенной земле, к началу мира, а не к концу его, наступившему после непосредственного пришествия бога на землю. Второе изречение относится только к браку как установлению ветхозаветному. Иудеи интересовались вопросом, может ли человек разводиться со своей женой, и вышеприведенный ответ служил самым целесообразным решением этого вопроса. Кто раз вступил в брак, должен считать его священным. Взгляд на другую есть уже измена. Брак сам по себе есть индульгенция, обусловленная слабостью или, скорее, энергией чувственности, зло, требующее возможного ограничения. Нерасторжимость брака есть ореол святости, выражающий как раз противоположное тому, что ищут в нем ослепленные этим ореолом, сбитые с толку люди. Брак, как таковой, то есть в смысле совершенного христианства, есть грех[8] или по меньшей мере слабость, которая допускается и извиняется только с тем условием, чтобы ты ограничился одной — заметь!- одной женой навсегда. Короче говоря, брак освящается не в Новом, а только в Ветхом завете. Новый завет знает более возвышенное, сверхъестественное начало — тайну незапятнанной девственности[9]. «Если кто может вместить это, да вместит». «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся и замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны божии, будучи сынами воскресения»[10]. Итак, на небе люди не женятся; небо исключает начало половой любви как начало земное, мирское. Но небесная жизнь есть истинная, совершенная, вечная жизнь христианина. Если я предназначен для неба, я не буду связывать себя узами, которые уничтожаются моим истинным назначением. Если я сам по себе в возможности являюсь существом небесным, то я постараюсь осуществить эту возможность уже на земле[11]. Брак, отвергнутый небом, существенным предметом моей веры, надежды и любви, изгнан также и из моей головы и сердца. Мое сердце так переполнено небом, что в нем нет уже места земной женщине. Я не могу разделить свое сердце между богом и человеком[12]. Любовь христианина к богу не есть любовь абстрактная, или всеобщая, подобно любви к истине, справедливости, науке; это любовь к субъективному, личному богу, и потому это любовь субъективная, личная. Существенное свойство этой любви заключается в том, что она любовь исключительная, ревнивая, так как ее предметом является существо личное, и притом наивысшее, не имеющее себе подобных. «Будь верен Иисусу (а Иисус Христос есть бог христианина) в жизни и смерти; положись на его верность; он один может тебе помочь, когда все тебя покинут. Твой возлюбленный не хочет видеть около тебя никого другого; он один желает обладать твоим сердцем и господствовать в твоей душе подобно царю на троне». «Что значит мир без Иисуса? Без Христа всюду адская мука, с Христом везде небесное блаженство».. «Ты не можешь жить без друга, но если ты не ставишь выше всего дружбу Христа, твоя жизнь будет исключительно печальна и безутешна». «Люби всех ради Иисуса, а Иисуса — ради него самого. Один Иисус Христос достоин любви». «Бог мой, любовь моя, ты весь мой, а я весь твой». «Любовь… надеется и полагается на бога, даже если он не относится к ней благосклонно (или если это горько — non sapit), ведь любовь нераздельна со страданием…» «Ради своего возлюбленного любящий должен переносить все, даже тяжкое и скорбное». «Мой бог, мое все… в твоем присутствии мне все приятно, в твоем отсутствии все противно… Без тебя мне ничто не мило». «О, когда же наступит наконец тот блаженный, желанный час, когда ты окончательно сольешься со мной и станешь для меня всем! Пока я не удостоюсь этого, радость моя будет только частичной». «Когда мне было хорошо без тебя и дурно с тобой? Я скорее соглашусь быть бедным ради тебя, чем богатым без тебя. Я скорее соглашусь быть земным странником с тобой, чем владыкой неба без тебя. Где ты — там небо; где тебя нет — там смерть и ад. Я тоскую только по тебе». «Ты не можешь одновременно служить богу и радоваться тому, что происходит. Удались от всех друзей и знакомых и не думай о временных утехах. Верующие во Христа должны следовать заповеди ее. апостола Петра и смотреть на себя только как на странников и гостей в этом мире»[13]. Итак, любовь к богу как к личному существу есть настоящая, форменная, личная, исключительная любовь. Как я могу любить бога как бога и в то же время любить смертную женщину? Могу ли я ставить бога на одну доску с женщиной? Нет, душа, истинно любящая бога, не может любить женщину — это измена. «Всякий имеющий жену, — говорит апостол Павел, — думает только о жене; всякий не имеющей жены, думает только о боге. Женатый думает о том, как угодить жене, а неженатый — как угодить богу».
Истинный христианин одинаково не чувствует потребности ни в образовании — принципе мирском, противном душе, ни в любви (естественной). Бог вознаграждает его за скудость, за неудовлетворенную потребность в образовании, в любви, в женщине и семье. Христианин непосредственно отождествляет индивид с родом, поэтому он отвергает половое различие как тягостный, случайный придаток[14]. Только муж и жена вместе образуют действительного человека; муж и жена вместе есть бытие рода, ибо их союз есть источник множества, источник других людей. Поэтому человек, сознающий свою мужественность, чувствующий себя мужчиной и считающий это чувство естественным и закономерным, сознает и чувствует себя существом частичным, которое нуждается в другом частичном существе для создания целого, истинного человечества. Христианин, напротив, в своей исключительной, природной субъективности, считает себя существом, совершенным в самом себе. Но это воззрение исключает половой инстинкт как противоречащий его идеалу, его высшему существу. Поэтому христианин и должен был подавлять в себе этот инстинкт.
Разумеется, христианин чувствовал потребность в половой любви, но считал ее противоречащей своему небесному назначению, считал ее только естественной потребностью в том обыденном, презрительном смысле, какой придает этому слову христианство, а не потребностью моральной, внутренней, так сказать, метафизической, то есть существенной потребностью, которую человек может ощущать только тогда, когда не гонит от себя половой инстинкт, а скорее относит его к своей внутренней сущности. Поэтому в христианстве брак не считается священным, по крайней мере он считается таковым только мнимо, иллюзорно, ибо естественное начало брака, половая любовь, есть начало несвященное, отрицаемое небом.
А то, что человек исключает из своего неба, он исключает из своей истинной сущности. Небо — его сокровищница. Не верь тому, что он устанавливает на земле, что он тут разрешает и санкционирует: здесь он должен приспособляться; здесь встречается много неожиданного, что не укладывается в его систему; здесь он ускользает от твоего взора, ибо он находится среди чуждых существ, внушающих ему страх. Но наблюдай его тогда, когда он отбрасывает свое инкогнито и выступает в своем истинном достоинстве как гражданин небесного царства. На небе он говорит так, как думает; там ты услышишь его истинное мнение. Где его небо, там его сердце — небо есть его открытое сердце. Небо есть понятие всего истинного, благого, законного, того, что должно быть; земля есть понятие всего ложного, незаконного, того, чего не должно быть. Христианин исключает из своего неба жизнь рода; там род прекращается, там существуют только чистые, бесполые индивиды, «духи»; там царит абсолютная субъективность. Следовательно, христианин исключает из своей истинной жизни жизнь рода; он отрицает начало брака как начало греховное, зазорное, потому что безгрешной, истинной жизнью является только жизнь небесная[15].
- [1] «Жизнь для бога не есть естественная жизнь, которая подвержена тлению… Не должны ли мы томиться по будущему и относиться враждебно ко всему преходящему?.. Поэтому мы должны презирать эту жизнь и этот мир и всем сердцем стремиться к будущей славе и радости вечной жизни» (Лютер, ч. I, стр. 466, 467).
- [2] «Туда нужно устремлять дух свой, куда некогда он вознесется» (Meditat, sacrae Ioh. Gerhardt Med. 46).
- [3] «Кто стремится к небесному, тому не нравится земное. Кто жаждет вечного, тому преходящее тягостно» (Бернард, Epist. Ex persona Heliae monachi ad parentes). «Нетничего в этой жизни ближе нашему сердцу, как умереть возможно скорее» (Тертуллиан, Apol. adv. Gentes, гл. 41). Древние христиане праздновали поэтому не день рождения, как теперь, а день смерти (см. примеч. к Мин. Феликсу е rec Gronovii. Lugd. Bat. 1719, стр. 332). «Поэтому скорее следует советовать человеку-христианину, чтобы он терпеливо переносил болезнь, даже желал смерти, чем скорее, тем лучше. Ибо, как говоритсв. Киприан, ничто так не полезно христианину, как близкая смерть. Но мы предпочитаем слушать язычника Ювенала, который говорит: „Orandum est ut sit mens sanain corpore sano“ („Нужно просить о том, чтобы здоровый ум был в здоровом теле“)(Лютер, ч. IV, стр. 15).
- [4] „Тот совершенен, кто духовно и телесно отрешился от мира“. De modo bene vivendiad Sororem S. VII (из апокриф, соч. Бернарда).
- [5] 1. Кор., 15, 31; см., однако, Иеронима, De vita Pauli Eremitae.
- [6] Естественно, что христианство обладало такой силой только до тех пор, пока, какпишет Иероним к Деметрии, кровь нашего господа была еще тепла и вера таилась ещев свежей крови (см. об этом предмете у Арнольда, Von der ersten Christen Geniigsamkeitund Verschmahung alles Eigennutzes (1. с. В. IV, гл. 12, § 7—16).
- [7] Совсем иначе думали древние христиане. „Трудно, даже невозможно одновременнонаслаждаться настоящими и будущими благами“ (Иероним, Epist. Juliano). „Ты слишкомхитроумен, брат мой, если предполагаешь теперь участвовать в наслаждениях мира, а потом царствовать вместе со Христом“ (он же, Epist. ad Heliodorum). „Вы хотите нераздельно обладать и богом, и тварью, но это невозможно. Нельзя одновременно радоватьсяи богу, и тварям“ (Таулер, Ed. с. р. 334). Но разумеется, они были абстрактными христианами. А мы теперь живем в век примирения. О, конечно!
- [8] „Грешить — значит не желать совершенства“ (Иероним, Epist. ad Heliodorumde laude vitae solit.). Замечу, кстати, что приведенную здесь цитату из Библии о бракея толкую в том смысле, в каком ее понимает вся история христианства.
- [9] Брачное состояние не есть нечто новое или необычное, и даже язычники, руководствуясь суждением разума, считали брак благим и похвальным делом» (Лютер, ч. II, стр. 337).
- [10] Ев. от Луки, 20, ЗА—36.
- [11] «Кто желает войти в рай, должен отрешиться от всего, что несвойственно раю"СТертуллиан, De exhort, cast., гл. 13). „Безбрачие есть подражание ангелам“ (ИоаннДамаскин, Orthod. Fidei, lib. IV, стр. 25).
- [12] „Незамужняя помышляет только о боге, и у нее только эта мысль, а замужняя разделяет свою жизнь между богом и мужем“ (Климент Александрийский, Paedag., lib. II, гл. 10). Избравший жизнь одинокую помышляет только о божественном» (Феодорит, Haeretic. Fabul., lib. V, 24).
- [13] Фома Кемпийский, De imit., lib. II, гл. 7, гл. 8; lib. Ill, гл. 5; гл. 34, 53, 59. «О, какблаженна та дева, в груди которой, кроме любви ко Христу, нет другой любви!» (Иероним, Demetriadi, virgini Deo consecratae). Но конечно, это опять слишком абстрактнаялюбовь, которая в век примирения, когда Христос и дьявол стали жить душа в душу, не приходится по вкусу. О, как горька бывает истина!
- [14] «Женщина отличается от девы». «Посмотри, как блаженна та, которая утратиладаже имя своего пола. Дева не называется больше женщиной» (Иероним, Adv. Helvidiumde perpet. virg., p. 14, t. II. Erasmus).
- [15] Так как религиозное сознание в конце концов восстанавливает то, что оно вначале отвергало, и так как потусторонняя жизнь на самом деле есть не что иное, каквосстановленная земная жизнь, то должен быть восстановлен также и пол. «Они будутподобны ангелам и, следовательно, не перестанут быть людьми, так что апостол останется апостолом, а Мария — Марией» (Иероним, Ad Theodoram viduam). Но как в будущей жизни наши тела будут бес телесными, призрачными телами, так и пол неизбежнобудет там бесполым, только мнимым полом.