Московский лингвистический кружок
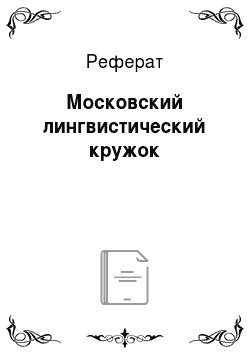
Рассматривая язык как материал поэзии, Г. О. Винокур в статье «Поэтика. Лингвистика. Социология» (1923) показывает, что в художественном тексте, в частности в поэтическом, материал произведения — язык — переразлагается и конструируется заново, поэтому поэтическое творчество — это работа над словом, произведением как вещью, обладающей определенной конструкцией, элементы которой… Читать ещё >
Московский лингвистический кружок (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Московский лингвистический кружок — объединение молодых исследователей, основанное в марте 1915 г. по инициативе группы студентов историко-филологического факультета Московского университета при активной поддержке руководителя Московской диалектологической комиссии Д. Н. Ушакова и одобрении, оказанном проекту устава академиками Ф. Е. Коршем и А. А. Шахматовым, как указывает Р. О. Якобсон в статье «Московский лингвистический кружок» (1976) (12, с. 365). Наиболее известными учеными МЛК, внесшими вклад в филологию, были Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур, в работе участвовали Б. В. Томашевский, В. В. Виноградов. Многие опоязовцы также сотрудничали с МЛК.
М. И. Шапир, опубликовавший данную статью Р. О. Якобсона, отмечает, что кружок «был едва ли не самым значительным объединением русских филологов — и по созвездию выдающихся талантов, и по влиянию (часто опосредованному и косвенному) на развитие филологической мысли, и по не востребованному до сих нор научному потенциалу. Вклад кружка в лингвистику и поэтику XX века, не только отечественную, но и мировую, не сравним с каким бы то пи было другим. Но отсутствие своих печатных органов и издательской базы, недостаток авангардной броскости в организации научного быта, а также глубокие внутренние противоречия привели к тому, что символом русского „формализма“ стал всемирно известный ОПОЯЗ, тогда как основная работа по созданию новой филологии велась в недрах МЛК» (9, с. 361). Преимущество МЛК здесь сомнительно, скорее, новая филология формировалась в диалоге крупных ученых, постоянно обменивавшихся идеями в процессе работы и ОПОЯЗа и МЛК.
По свидетельству Р. О. Якобсона, кружок с первых шагов своей деятельности поставил задачей разработку вопросов лингвистики, понимая под этим термином науку о языках в различных функциях, в особенности уделялось много внимания анализу поэтического языка. Выдвигался тезис о связи между языкознанием и литературоведением, что было продолжением традиций московских филологов — от Ф. И. Буслаева до Ф. Е. Корша, Р. Ф. Брандта и др. Исследование поэтики, стихосложения, вопроса о соотношении письменного и устного словесного творчества входило в основную программу занятий кружка, что вело в дальнейшем и к этнографическим разысканиям. По мнению Р. О. Якобсона, работа носила лабораторный характер, а академическим лекциям предпочитали дебаты; методы и подходы исследования вырабатывались в совместном, коллективном обсуждении.
Важную роль в деятельности кружка играли летние экспедиции, которые осуществлялись его активными членами: Ф. Н. Афремовым, П. Г. Богатыревым, А. А. Буслаевым, Г. Г. Дингесом, П. П. Свешниковым, Б. В. Шергиным, Р. О. Якобсоном, Н. Ф. Яковлевым и др., — и сочетали собирание диалектологических материалов с записями фольклорных текстов и этнологическими наблюдениями.
Р. О. Якобсон отмечал возникновение новых подходов к общетеоретическим вопросам: «тесное сожительство», «взаимодействие и амальгамация диалектов», отличительные признаки фольклорного творчества, связанные «с характером соотношений между сказителем и коллективом» (9, с. 366). Поездки, организованные в 1916 г., дали ответы на невыясненные вопросы вокализма и классификации южновеликорусских говоров, а также на вопрос о связи между зоной былинной традиции и границами северорусских диалектов. Важным результатом экспедиций 1921 — 1922 гг. под руководством Н. Ф. Яковлева, Л. И. Жиркова и Е. М. Шиллинга было изучение северокавказского языкового и этнического ареала с учетом новых методологических приемов звукового и грамматического анализа.
Важно отметить, что архивный фонд Северо-Кавказского горского историко-лингвистического института имени С. М. Кирова, который находится в Краевом архиве города Ставрополя, содержит рукописи Л. И. Жиркова «Карты языковых территорий Северного Кавказа и Дагестана», «Введение в изучение языков Кавказа», «Словообразование в аварском языке», «Развитие частей речи в горских языках Дагестана». Имеются также упоминания о Н. Ф. Яковлеве и его рукописи, в частности интересная этнографическая работа «Культура кабардинцев и черкесов в прошлом и настоящем».
Северо-Кавказский горский историко-лингвистический институт, организованный в 1926 г., работал в разное время в Орджоникидзе, Ростовена-Дону, Пятигорске, имел два отделения, аспирантуру и огромную специализированную библиотеку. Директор института, историк-исламовед X. Д. Ошаев, незадолго до ликвидации института был исключен из ВКП (б), обвинен в скрытом троцкизме и буржуазном национализме. А в сентябре 1937 г. институт был ликвидирован, по официальным данным, «в связи с реорганизацией Северо-Кавказского края и образованием самостоятельных административных единиц в регионе». К моменту закрытия сотрудниками института было подготовлено более 200 рукописей, содержащих ценные научные сведения о языках и культуре народов Кавказа. Члены Московского лингвистического кружка активно сотрудничали с институтом, взаимодействовали в области изучения культуры и языков Северного Кавказа. Важно отметить, что некоторые опубликованные работы членов Московского лингвистического кружка, связанные с экспедициями на Кавказ, хранятся в научной библиотеке Северо-Кавказского федерального университета.
Р. О. Якобсон в статье «Новейшая русская поэзия» (1921) отмечал, что «лингвистика давно не довольствуется изучением мертвых языков, изжитых языковых эпох. Минувшие языковые системы нами интерпретируются с трудом; мы не переживаем вполне, а лишь частично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, воспринимаем их элементы. Документы, из которых мы черпаем все наши сведения о языке прошлого, всегда неточны.
В силу этого все с большей настоятельностью выдвигается изучение современных говоров. Диалектология становится главным импульсом раскрытия основных лингвистических законов, и лишь изучение процессов живой речи позволяет проникнуть в тайны окаменелой структуры языка былых периодов. Только по отношению к языку современному безусловно применим прием временного разреза, так называемый синхронический метод, дающий возможность отделить живые процессы от окаменелых форм, продуктивные системы от «лингвистической пыли» (термин Ф. де Соссюра), дающий возможность усмотреть не только выкристаллизовавшиеся лингвистические законы, но и намечающиеся тенденции" (13, с. 272).
Соотношение практического и поэтического языка определяет Г. О. Винокур в статье «Чем должна быть научная поэтика» (1920). В практическом языке мы не фиксируем своего внимания па самом выражении, цель здесь — коммуникация, возможность передачи мысли слушающему. Язык поэтический, по мнению Г. О. Винокура, никакой иной цели, кроме фиксации внимания на выражении, не имеет, и вне этой фиксации поэзия невозможна. О поэтичности мы будем говорить тогда, когда будем иметь дело с языком в его установке на выражение. Личность автора — сам по себе интересный объект для науки: но, изучая ее, нельзя говорить о том, что изучаешь поэзию. Поэзия имеет чисто эстетические тенденции, осуществляя их в языке, поэтому личность автора «не будет выражаться в поэзии в соответствии с действительностью» (5, с. 13).
Материал поэзии — язык, художественное произведение «сделано из языка», оно имеет дело не с тем, что выражено, а с тем, как выражено, и как определяется языком. Отсюда, считает Г. О. Винокур, история литературы становится к лингвистике в отношение части к целому — это «поэтическое языкознание». Поэтому оно, как и практическое языкознание (лингвистика), так же включает отделы фонетики, грамматики, семасиологии, словаря. При этом поэтика отличается от лингвистики точкой зрения, она должна строиться на лингвистических методах, но в тесном взаимодействии с общей теорией искусств: «Те приемы, которые создают формы, по природе своей могут быть аналогичны в разных областях искусства; нужно только помнить, что, несмотря на сходную природу, приемы эти обусловливаются материалом, претерпевают изменения в зависимости от последнего. Так, методологически розно должна изучаться гипербола, поскольку мы говорим не о природе гиперболы, а о гиперболе поэтической и живописной. Спайка языковедения и поэтики — дело, конечно, не легкое, но насущно необходимое (выделено нами. — Авт.). Все затруднения объясняются, с одной стороны, многолетней антинаучной традицией истории литературы, с другой же — состоянием самого языковедения, которое в настоящее время слишком натуралистично и не научилось еще рассматривать язык с точки зрения его функции» (5, с. 13—14). Таким образом, научный поворот в изучении поэтики Г. О. Винокур видит в том, чтобы в основу изучения поэтики была положена лингвистика, так как материал художественного творчества — язык.
Первым председателем Московского лингвистического кружка был избран Р. О. Якобсон, находившийся на этом посту вплоть до отъезда в Эстонию, а затем в Чехословакию в 1920 г. Всего за время существования Московского лингвистического кружка сменилось пять председателей: кроме Р. О. Якобсона, обязанности председателя исполняли М. Н. Петерсон (с конца января по сентябрь 1920 г.), Л. А. Буслаев (до октября 1922 г.), Г. О. Винокур (до марта 1923 г.) и Н. Ф. Яковлев (до ноября 1924 г.) (9, с. 362).
Р. О. Якобсон, как участник Московского лингвистического кружка, подробно описывает его деятельность: «…с 1918 года заседания MJIK особенно участились, круг членов кружка и участников его заседаний расширился и охватил значительную часть тогдашнего молодого поколения московских исследователей и теоретиков языка и языковых вопросов литературы и фольклора. Именно из дискуссий МЛ К вышли труды Б. В. Томашевского, О. М. Брика, Р. О. Якобсона, Б. И. Ярхо, С. И. Бернштейна, С. М. Бонди и др. по многим неосвещенным и спорным вопросам стиха и его теории; там же возникли первые опыты строго лингвистических подступов к поэтике; в связи с докладами Б. А. Кушнера об элементах звучания (1919), Е. Д. Поливанова о классификации звуковых изменений (1920), Б. В. Горнунга о «фоносемантических единицах» (1922), Яковлева о севернокавказском консонантизме и с оживленными дебатами вокруг этих тем; из МЛ К пришли первые толчки к дальнейшему развитию фонологической проблематики и в московской, и в пражской языковедческой среде; упор на проблемы языковой культуры сказался впоследствии в работах Г. О. Винокура; новые методологические подходы к таким фундаментальным вопросам устного творчества, как типологическая классификация народных анекдотов, магия заклинаний и реконструкция фольклорных текстов, нашли себе проницательную трактовку в выступлениях П. Г. Богатырева и Н. Ф. Яковлева на заседаниях МЛК в 1918—1920 годах.
Явственный отпечаток наложили на развитие МЛК в заключительную пору его жизни основы феноменологии языка в увлекательной трактовке Г. Г. Шпета, вызвавшей непримиримые споры о месте и границах эмпиризма и о роли семантики в науке о языке, о проблеме «внутренней формы», поставленной Гумбольдтом, и о критериях разграничения поэтической и обиходной речи. Живое сотрудничество Кружка с его действительными членами — Пастернаком, Мандельштамом, Асеевым и Маяковским, впервые, весной 1920 года, прочитавшим и продебатировавшим «150.000.000″ именно в заседании МЛК, — не могло остаться безразличным ни для поэтов, ни для языковедческих взглядов на их творчество и на теорию поэтического языка. В 1923 году заседание МЛК, открытое Пастернаком и Мандельштамом, было посвящено дискуссии о наиболее плодотворных методах анализа поэтической речи. Немалую роль в развитии поэтики сыграли выступления в Кружке приезжих ленинградцев из ОПОЯЗа (например, Ю. Н. Тынянова, В. Б. Шкловского и В. М. Жирмунского), а также участие московских научных работников в заседаниях ОПОЯЗа» (9, с. 367).
В. В. Виноградов, говоря о работе ОПОЯЗа и взаимодействии с ним Московского лингвистического кружка, отмечает: «В это время (в начале 1920;х гг. — Авт.) в Москве началось увлечение эстетическими работами профессора Густава Густавовича Шпета, и когда приезжали москвичи в Ленинград, то там они знакомились с этими положениями, но у нас наши молодые сотрудники — тогда все мы были более или менее еще молоды — отнеслись к этому очень отрицательно (так что вывесили даже плакат в Институте истории искусств такого каламбурного характера: „Лучше Шпет, чем никогда“); и „Эстетические фрагменты“ Шпета, и позднее „Внутренняя форма слова“ не могли удовлетворить нас тогда, во всяком случае в полной мере; но вот одна идея незаметно и без ссылок на сочинения Густава Густавовича все-таки обнаружилась и в наших работах. Это вот какая идея. Шпет вообще различал понятия системы и структуры. Помню один разговор с ним личный, он говорил о том, что такое вообще система. Это что-то данное в одной плоскости. Система — это рядоположение элементов, находящихся в каких-то соотношениях, а структура представляет собой внутреннее объединение в целое разных оболочек, которые, облекая одна другую, дают возможность проникнуть в глубь, в сущность, и вместе с тем составляют внутреннее единство. Понятие структуры казалось более подходящим при изучении композиции художественного произведения, потому что только таким образом и можно открыть какую-то внутреннюю сущность целого» (1, с. 265).
Основные теоретические и прикладные проблемы анализа поэтической речи и вообще художественных текстов разрешались в процессе дискуссий с крупными поэтами, метаиоэтика (исследование поэтами собственного творчества) которых значительно повлияла на выработку методов исследования поэтической речи. М. И. Шапир отмечает: «В работе кружка принимали участие известные поэты и прозаики. Одним из первых, в 1918 или 1919 году, в МЛК вступил Маяковский, который систематически бывал на заседаниях и выступал в прениях; именно в МЛК в январе 1920 года состоялось одно из первых публичных чтений поэмы Маяковского «150.000.000». По словам самого поэта, из всех приветствий, полученных им по случаю творческого юбилея, наиболее приятны ему были поздравления от Московского лингвистического кружка. Другим активным членом МЛК, сделавшим ряд интересных докладов, был основатель «Центрифуги» С. П. Бобров; в экспедициях и дискуссиях принимал участие Б. В. Шергин.
…в 1923 году в МЛК вступили Пастернак, Асеев и Мандельштам. Как вспоминал Б. В. Горнунг, поэты относились к МЛК с «подобострастным почтением». «Исключительную настойчивость» в установлении контакта с филологами проявил Мандельштам: летом 1923 года он организовал в помещении кружка несколько бесед о поэзии и новейших методах ее изучения — эти встречи (с участием Асеева и Пастернака), если верить воспоминаниям Горнуига, «ничего не дали поэтам, но были интересны членам кружка». В ноябре 1922 года МЛК обратился в Госиздат с предложением подготовить ряд книг по истории русской поэзии после символистов. Серия должна была состоять из четырех выпусков: «Петербургский классицизм», «Центрифуга», «Футуризм», «Имажинисты» (в редколлегию вошли Винокур, Кенигсберг и Ромм)" (9, с. 362).
Г. О. Винокур был одним из первых, кто вступил в диалог с футуристами, анализировал их творчество на основании их же теорий, а также тех признаков, которыми обладает искусство авангарда, выдвинув на первый план принцип изобретения и лингвистической инженерии в творчестве футуристов: «Футуристы первые сознательно приступили к языковому изобретению, показали путь лингвистической инженерии (выделено нами. — Лет.), поставили проблему „безъязыкой улицы“, и притом — как проблему поэтическую и социальную одновременно, — пишет Г. О. Винокур в статье „Футуристы — строители языка“ (1923). — Ошибочно, однако, было бы подразумевать под этой инженерией в первую очередь „заумный язык“. Такая тенденция есть как у критиков футуризма, так и у представителей этого последнего, но она не верна: почему — будет показано ниже; пока же отмечу действительно характерную и важную для лингвиста черту футуристского словотворчества: последнее не столько лексикологично, сколько грамматично. А только таковым и может быть подлинное языковое изобретение, ибо сумма языковых навыков и впечатлений, обычно определяемая как „дух языка“, — прежде всего создается языковой системой, то есть совокупностью отношений, существующих между отдельными частями сложного языкового механизма. Следует настойчиво подчеркнуть и пояснить, что настоящее творчество языка — это не неологизмы, а особое употребление суффиксов; не необычное заглавие, а своезаконный порядок слов, футуризм это понял» (4, с. 18—19).
Участники Московского лингвистического кружка уделяли большое внимание языку как материалу литературного искусства. В статье «Футуристы — строители языка» Г. О. Винокур обращается к проблеме зауми в творчестве футуристов. Творчество авангардистов интересно Г. О. Винокуру потому, что в нем имеет место лабораторная работа с материалом — языком, при этом речь идет не только об использовании языка, но и о его «культурном преодолении» в процессе языковой инженерии в творчестве: «…мы можем поэтому рассматривать заумные „стихи“ как результаты подготовительной, лабораторной работы к созданию новой системы элементов социального наименования. С этой точки зрения заумное творчество приобретает совершенно особый и значительный смысл» (4, с. 21—22).
Отсюда взаимный интерес, связывающий лингвистов с поэтами-футуристами. Если не все лингвисты заинтересованы футуризмом (не все ставят перед собой вопрос о возможности особой языковой технологии), зато все футуристы-поэты тянутся к теории слова, «как стебель к солнечному свету». Внутренний механизм слова влечет к себе футуристов, поэтому футуристское слово культурно: «И вот — вне рамок науки, первой к овладению „тайной“ слова подошла футуристская плеяда. В этом ее историческая заслуга. Работа ее, конечно, никак не окончена. Вернее — она лишь намечена. Для продолжения ее нужен синтез теории и практики — науки о слове и словесного мастерства. Синтез этот намечается постановкой вопроса о культуре языка. Ибо — закончу тем, с чего начал — язык есть объект культурного преодоления в нашем социальном быту» (4, с. 22).
Рассматривая язык как материал поэзии, Г. О. Винокур в статье «Поэтика. Лингвистика. Социология» (1923) показывает, что в художественном тексте, в частности в поэтическом, материал произведения — язык — переразлагается и конструируется заново, поэтому поэтическое творчество — это работа над словом, произведением как вещью, обладающей определенной конструкцией, элементы которой перегруппировываются в каждом новом произведении: «…если мы, к примеру, найдем целый ряд экспрессивных моментов в поэтической речи, то правильный анализ, тем не менее, покажет, что не здесь лежит акцент этой речи, что экспрессия здесь лишь дальнейший осложняющий основную композиционную схему прием, под покровом которого мы должны найти и специфическую поэтическую тенденцию, сводящуюся, в конечном счете, к разложению структуры языка на ее элементы, которые вслед за тем конструируются заново, в отличную от собственно языковой схему, где соотношения частей передвинуты, смещены, а следовательно, обнажена и точно высчитана самая значимость, валентность, лингвистическая ценность этих составных частей. Иными словами, поэтическое творчество — есть работа над словом уже не как над знаком только, а как над вещью, обладающей собственной конструкцией, элементы которой переучитываются и перегруппировываются в каждом новом поэтическом высказывании. Значит ли это, однако, что поэтическая работа не есть работа над смыслом? Ни в коем случае, ибо и смысл здесь берется как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструкции. Мало того. Слово, взятое как вещь, если только оно слово, продолжает испытывать на себе действие всех тех же законов, какими обусловлена жизнь слова вообще, которые привинчивают всякого рода надстройки в области говорения к прочной, нормативной базе собственно языка. …задача поэтики состоит также и в том, чтобы проследить, как индивидуальное говорение превращается в элемент новой „нормальной“ системы, покрывающей собою систему обычных языковых норм» (3, с. 27—29).
На заседаниях Московского лингвистического кружка обсуждались проблемы теории и истории литературы, теории и истории языка (вплоть до проблемы «искусственных языков и искусственного в языке»). Сильной стороной кружка М. И. Шапир считает не только широкий диапазон интересов, не только привлечение неизвестных фактов, но и умение посмотреть по-новому на старое. На праздновании пятилетия кружка (29 ноября 1920 г.) А. А. Буслаев сказал, что «главная задача кружка — методологическая революция» (9, с. 363). Члены кружка имели хорошую методологическую и теоретико-лингвистическую подготовку, следили за достижениями западноевропейской лингвистической мысли. По сведениям М. И. Шапира, первое в России обсуждение «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра состоялось именно в Московском лингвистическом кружке. Р. О. Якобсон считал, что «из Московского лингвистического кружка пришли первые толчки к дальнейшему развитию фонологической проблематики и в московской, и в пражской языковедческой среде» (9, с. 363). Многие представители как левого («младофутуристического»), так и правого («младоакмеистического») крыла считали себя последователями Гуссерлевой феноменологии и учениками Г. Г. Шпета, были внимательны к структуре знака и его внутренней форме.
«Так же, как петроградские формалисты, — отмечает М. И. Шапир, — москвичи считали, что „анализ искусства есть анализ форм выражения, словесных форм“ — хотя бы потому, что смысл не дан воспринимающему иначе, как через форму. Однако говорить о формализме МЛ К можно лишь с оговорками. Формализм понимает содержание как форму и ищет оформленности содержания; структурализм понимает форму как содержание и ищет содержательности формы. В первом случае содержание берется как данность, а описание языка (формы) остается целью; во втором случае исходной точкой оказывается форма (язык), исследование которой должно привести к овладению эстетическим содержанием. В этом отношении направление МЛК следует определить скорее не как формализм, а как предструктурализм: членами кружка форма рассматривалась, в первую очередь, в оппозиции к содержанию, а не к материалу. Москвичи шли к поэтике от лингвистики, петроградцы — от теории литературы. В МЛК предпочитали говорить не о различных функциях одного языка, а о разных функциональных языках, среди которых совершенно особое место занимал язык поэтический, то есть язык в его эстетической, или, как стали говорить позже, в его поэтической функции — язык с установкой на выражение. С этой точки зрения поэтика трактовалась как одна из ведущих лингвистических дисциплин» (9, с. 363—364).
К Московскому лингвистическому кружку восходят лучшие традиции российского структурализма и семиотики. По мнению Р. О. Якобсона, «наследие московских инициаторов обнаруживается в многочисленных лингвистических кружках, возникших в различных странах света и усвоивших через пражский образец и наименование, и внутренний строй, и многое из мыслей и замыслов, характерных для Московского лингвистического кружка» (12, с. 368).
Р. О. Якобсон фактически выстроил программу развития теории поэтического языка, утверждая, что нужно делать установку на характер, функции, признаки самого поэтического языка, при этом поэзия должна трактоваться как «социальный факт», что приведет к созданию «поэтической диалектологии»: «С точки зрения последней, Пушкин есть центр поэтической культуры, определенного момента, с определенной зоной влияния. С этой точки зрения, поэтические диалекты одной зоны, тяготеющие к культурному центру другой, подобно говорам практического языка, можно подразделить: на диалекты переходные, усвоившие от центра тяготения ряд канонов, диалекты с намечающейся переходностью, усваивающие от центра тяготения известные поэтические тенденции, и смешанные диалекты, усваивающие отдельные инородные факты, приемы. Наконец, необходимо иметь в виду существование архаических диалектов с консервативной тенденцией, центры тяготения коих принадлежат прошлому» (13, с. 273−274).
Если изобразительное искусство — «формовка» самоценного материала наглядных представлений, а музыка — формовка самоценного звукового материала, хореография — самоценного материала-жеста, то поэзия — это оформление самоценного, «самовитого» (В. Хлебников), слова. Отсюда Р. О. Якобсон выводит формулу: «Поэзия есть язык в его эстетической функции» (13, с. 275). Многие вопросы решались в духе ОПОЯЗа: «Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать „прием“ своим единственным „героем“. Далее основной вопрос — вопрос о применении, оправдании приема» (13, с. 275).
Р. О. Якобсон говорит о трудностях в работе кружка: «Если пятилетие трудов Кружка, насчитывавшего в то время, наряду с 34мя действительными членами, троих почетных — Н. Н. Дурново, В. К. Поржезинского и Д. Н. Ушакова — ознаменовалось 30 мая 1920 года горячим приветственным письмом ак. А. А. Шахматова, то с десятилетием Кружка, трижды сменившего председателей (до 1920 года Якобсон, в 1920 году М. Н. Петерсон, в 1921 году А. А. Буслаев, с 1922 года Винокур), настал конец его деятельности. В связи с техническими трудностями того времени многое из его литературных заготовок долго ждало сдачи в печать и частью оказалось утрачено. Устная передача была главным путем распространения научной мысли молодого сотоварищества» (12, с. 368).
По свидетельству Р. О. Якобсона, в 1926 г. организационная модель Московского лингвистического кружка легла в основу Пражского лингвистического кружка. Интенсивная печатная деятельность и тесное личное общение с международным научным миром способствовали распространению и обмену идей в лингвистике, поэтике и других гуманитарных науках.
Р. О. Якобсон развивал идеи, заложенные в программе Московского лингвистического кружка, на протяжении всей жизни — будучи членом Пражского лингвистического кружка, впоследствии став американским лингвистом. В статье «Лингвистика и поэтика» (1960) он рассматривает насущные проблемы использования данных лингвистики в анализе художественных текстов, в особенности поэзии, противопоставляя синхроническую поэтику диахронии, а также синхронии и диахронии в лингвистике. Синхроническое описание касается не только литературы данной эпохи, но и той части литературной традиции, которая в данную эпоху сохраняет жизненность. Отбор классиков и их реинтерпретация современными течениями, по Р. О. Якобсону, — это важнейшая проблема синхронического литературоведения, при этом синхроническую поэтику, как и синхроническую лингвистику, нельзя смешивать со статикой. Современное состояние переживается в его временной динамике. Как в поэтике, так и в лингвистике при историческом подходе нужно рассматривать не только изменения, но и постоянные, статические элементы. Полная, всеобъемлющая историческая поэтика или история языка рассматривается Р. О. Якобсоном как надстройка, возводимая на базе ряда последовательных синхронических описаний.
В понимании Московского лингвистического кружка и Р. О. Якобсона, который развивал его идеи, поэтика строится на основе лингвистики:
«Отрыв поэтики от лингвистики представляется оправданным лишь в том случае, если сфера лингвистики незаконно ограничивается — например, если считать, как это делают некоторые лингвисты, что предложение есть максимальная подлежащая анализу конструкция, или если сводить лингвистику либо к одной грамматике, либо исключительно к вопросам внешней формы без связи с семантикой, либо к инвентарю значащих средств без учета их свободного варьирования. Вегелин четко сформулировал две важнейшие связанные между собой проблемы, стоящие перед структурной лингвистикой: пересмотр гипотезы о языке как о монолитном целом и исследование взаимозависимости различных структур внутри одного языка. Несомненно, что для любого языкового коллектива, для любого говорящего единство языка существует; однако этот всеобщий код (overall code) представляет собой систему взаимосвязанных субкодов. В каждом языке сосуществуют конкурирующие модели, наделенные разными функциями» (11, с. 197).
Р. О. Якобсон считал, что язык следует изучать во всем разнообразии его функций. Он называет следующие функции языка: коммуникативная (референтивная), апеллятивная, поэтическая, экспрессивная, фатическая, метаязыковая. По Якобсону, наряду с поэтической функцией, которая является доминирующей в художественной речи, в поэзии используются и другие речевые функции, причем особенности различных жанров поэзии обусловливают различную степень использования этих функций. Эпическая поэзия, сосредоточенная на третьем лице, в большой степени опирается на коммуникативную функцию языка; лирическая поэзия, направленная на первое лицо, тесно связана с экспрессивной функцией; «поэзия второго лица» пропитана апеллятивной функцией: она либо умоляет, либо поучает, — в зависимости от того, кто кому подчинен — первое лицо второму или наоборот (11, с. 203).
Таким образом, анализ стиха находится полностью в компетенции поэтики, и это та часть лингвистики, которая рассматривает поэтическую функцию в ее соотношении с другими функциями языка. Поэтика в более широком смысле слова занимается поэтической функцией не только в поэзии, где поэтическая функция выдвигается на первый план по сравнению с другими языковыми функциями, но и вне поэзии, где на первый план могут выдвигаться какие-либо другие функции.
Р. О. Якобсон открывает закон (тенденцию) приравнивания компонентов не только фонологических последовательностей, но и любых последовательностей семантических единиц. «Сходство, наложенное на смежность, придает поэзии ее насквозь символичный характер, ее многообразие, ее полисемантичность, что так глубоко выразил Гете: „Все преходящее — это лишь сходство“. Или, в более технических терминах, любое А, следующее за В, — это сравнение с В. В поэзии, где сходство накладывается на смежность, всякая метонимия отчасти метафорична, а всякая метафора носит метонимическую окраску» (11, с. 202—221).
Значимый вопрос о «прозрачности», референциальной сущности художественного текста, то есть соотнесенности его с действительностью, Р. О. Якобсон разрешает таким образом, что главенствование поэтической функции над референтивпой не уничтожает саму референцию, но делает ее неоднозначной. Двойному смыслу сообщения соответствует расщепленность адресанта и адресата и, кроме того, расщепленность референции, что отчетливо выражается в преамбулах к сказкам различных народов, например, в обычных зачинах сказок острова Майорка: Aixo era у по era («Это было и не было»).
Важно также определение идеи повторяемости как важнейшего текстообразующего фактора, который Р. О. Якобсон объясняет применением принципа эквивалентности к последовательности: повторяться могут не только компоненты поэтического сообщения, но и целое сообщение: «Эта возможность немедленного или отсроченного повторения, это „возобновление“ поэтического сообщения и его компонентов, это превращение сообщения в нечто длящееся, возобновляющееся — все это является неотъемлемым и существенным свойством поэзии» (11, с. 221).
Р. О. Якобсон утверждает, что нет оснований для отрыва вопросов литературного характера от общелингвистических вопросов. Лингвист, игнорирующий поэтическую функцию языка, и литературовед, равнодушный к лингвистическим проблемам и незнакомый с лингвистическими методами, «представляют собой вопиющий анахронизм» (11, с. 228).
Идею повторяемости как организующий принцип поэтического текста Р. О. Якобсон рассматривает в статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» (1961), выделяя в качестве основы принцип симметрии, обусловленный грамматическим геометризмом: «Когда непредвзятое, внимательное, подробное, целостное описание вскрывает грамматическую структуру отдельного стихотворения, картина отбора, распределения и соотношения различных морфологических классов и синтаксических конструкций способна изумить наблюдателя нежданными, разительно симметричными расположениями, соразмерными построениями, искусными скоплениями эквивалентных форм и броскими контрастами.
Принудительный характер грамматических значений заставляет поэта считаться с ними: он либо стремится к симметрии и придерживается этих простых, повторных, четких схем, построенных на бинарном принципе, либо он отталкивается от них в поисках «органического хаоса». Если мы говорим, что у поэта принцип рифмовки либо грамматичен, либо антиграмматичен, но никогда не аграмматичен, то это положение может быть распространено и на общий подход поэта к грамматике. Здесь наблюдается глубокая аналогия между ролью грамматики в поэзии и живописной композицией, базирующейся на явном или скрытом геометрическом порядке или на отпоре против геометричности. Если в принципах геометрии (скорей топологической, чем метрической) таится «прекрасная необходимость» для живописи и прочих изобразительных искусств, согласно убедительным выкладкам искусствоведов, то схожую «обязательность» для словесной деятельности лингвисты находят в грамматических значениях" (14, с. 468, 472).
В процессе исследований Г. О. Винокур возвращается к понятию образа, критикуемому опоязовцами понятию внутренней формы, не столь категорично противопоставляет язык поэтический языку практическому. В работе «Понятие поэтического языка» (1947) он пишет о том, что поэтическое слово «вырастает» в реальном слове как его особая функция, как поэзия «вырастает» из окружающего мира реальности. Об этом, как мы помним, говорили в свое время и А. А. Потебня, и Д. Н. Овсянико-Куликовский.
Буквальное значение слова в поэзии раскрывает внутри себя новые, иные смыслы так, как расширяется в искусстве значение описываемого единичного эмпирического факта до степени того или иного обобщения. Отсюда вывод: нет такого факта поэтического языка, который не был известен и как явление языка вообще. Но в поэтическом качестве каждая языковая единица приобретает особые свойства. В поэтическом языке практически нет слов и форм немотивированных, с пустым, мертвым, произвольно-условным значением. А в обычном языке есть слова, объяснимые через значение других слов с общей непроизводной основой: певец — это тот, кто поет: «Но что значит петь — это можно только истолковать, а собственно языковым путем объяснить невозможно: это слово с основой непроизводной, первичной. Между тем в поэзии и слово петь не изолировано, а входит в соответствующий смысловой ряд в зависимости от того образа, которому оно служит основанием. Так, петь может оказаться связанным со словами, выражающими радостное состояние духа („душа поет“, „кровь поет“ и т. п.), поэтическое вдохновение („муза поет“), игру на музыкальном инструменте (ср. у Блока: „исступленно запели смычки“), и т. д. Ср., например, обычную связь слов, обозначающих слезы и дождь: „Сквозь ресницы шелковые Проступили две слезы… Иль то капли дождевые Зачинающей грозы?“ (Тютчев); „На родину тянется туча, Чтоб только поплакать над ней“ (Фет); „И ничего не разрешилось Весенним ливнем бурных слез“ (Блок); „Своими горькими слезами Над нами плакала весна“ (он же) и т. д.» (2, с 43−144).
Это касается и грамматических категорий. Слово, имеющее только множественное число, способно в поэзии быть носителем образа множественности, неодушевленное слово женского рода — носителем женского образа и т. д. Разрыв между «техническим» и «живым» значением языковых фактов уничтожается.
В поэтическом языке преодолевается различие между системными фактами языка и фактами внесистемной речи (говоренья — la parole). Порядок слов в русском языке редко имеет грамматическое значение. Но в поэтическом языке «веселый день» и «день веселый», «смелый воин» и «воин смелый», «бой идет» и «идет бой» — существенно различные синтагмы, потому что они могут быть применены для выражения различного поэтического содержания: «…в поэтическом языке в принципе каждое слово есть член того или иного сращения, обладающего единством смысла: очевидно, что туча плачет и душа плачет, скрипка плачет и весна плачет — это совсем разные образы, имеющие общее единое основание в буквальном значении слова плачет. Поэтому чистая вода и чистая слеза также могут представлять собой разные словосочетания в языке поэзии.
Конструкции, необязательные, «свободные» в языке общем, но потенциально обязательные, «несвободные» в языке поэтическом, также представляют собой явление внутренней формы, то есть отношение буквального и «более далекого» значений. Таким образом, в том особом разделе лингвистики, который посвящен изучению языка как поэтического факта, совершенно иной смысл получают такие явления, как связь слов между системой языка и факультативными формами ее воплощения" (2, с. 143—145).
Б. В. Томашевский на протяжении всего творческого пути развивал идеи русских формалистов, стремясь к точности в характеристике стилистических средств. Вот как он рассматривает эпитет в соотношении с логическим определением в работе «Стилистика и стихосложение» (1959), противопоставляя содержание понятия и объем понятия: «Обыкновенно эпитет противополагается логическому определению. Чтобы понять, что такое логическое определение, надо ввести понятия содержания и объема. Каждое понятие имеет свой объем и свое содержание. Объемом понятия называются все явления, предметы, вещи, реальные или воображаемые, данным понятием обобщаемые. Например, объем значения слова дом составляют все здания, какие только существуют на свете, подходящие к понятию «дом», все, к чему слово дом применимо. Содержание того же понятия — эго все те признаки, которые отличают любое из данных сооружений от того, что уже не будет домом. Конура для собаки — это не дом, потому что она, хотя и обладает некоторыми общими признаками с домом, но не обладает все-таки всеми теми признаками, которые присущи именно дому, в отличие от чего-нибудь другого, и, кроме того, обладает такими признаками, какие не свойственны понятию «дом».
Если присоединить к имеющимся признакам какой-нибудь новый признак, не содержащийся в общем понятии, то изменится и объем, и содержание. К слову дом можно присоединить признак «деревянный». Этот признак как отличительный не присутствует в понятии «дом» — потому что если бы слово дом определялось наличием признака «деревянный», то не мог бы существовать каменный дом. Следовательно, то, что дома бывают деревянные, вообще говоря, не отличает самого понятия «дом» от понятия «не дом». Но теперь к слову прибавляется новый признак, который раньше в понятии не содержался. Объем при этом уменьшается, потому что отпадают все дома, построенные из иного материала, нежели дерево. Таким образом, получается, что при увеличении содержания понятия объем уменьшается, или, выражаясь математическим термином, объем обратно пропорционален содержанию.
Все это характерно для логического определения. Его функция — ограничить объем путем расширения содержания. Задача логического определения — индивидуализировать понятие или предмет, отличить его от подобных же понятий.
Эпитет — это такое определение, которое этой функции не имеет и которое сохраняет уже заранее определенное понятие в том же объеме и, следовательно, в том же содержании. Эпитет ничего не прибавляет к содержанию, он как бы перегруппировывает признаки, выдвигая в ясное поле сознания тот признак, который мог бы и не присутствовать.
Сочетания серый волк и серая лошадь не равнозначны. Определение серый но отношению к лошади несомненно логическое, потому что, говоря серая лошадь, мы отличаем данную масть от других, как, например: буланая лошадь, вороная лошадь и пр. Определение серый по отношению к волку (сказочный серый волк) не является логическим, потому что не для того говорят серый волк, чтобы отличить его от волка другой масти. Это вообще волк, и слово серый только подчеркивает привычный и типический цвет волчьей шерсти.
Надо заметить, что в литературе слово «эпитет» не всегда употребляется в этом узком смысле слова; иногда этим словом обозначают всякое определение.
При всем многоразличии смысловых функций эпитет всегда придает слову некоторую эмоциональную окраску. Слово перестает быть обыкновенным термином. Например, серый волк — это не зоологический термин. Если это слово и встретится в учебнике зоологии, то не в том значении и не в таком сочетании, как в сказках. Бывает, что одно и то же словосочетание в разных текстах приобретает характер логического определения либо эпитета. В сочетании красная роза определение красная может восприниматься по-разному. Если речь идет о каком-нибудь руководстве по садоводству, то там красная роза будет логическим определением, отличающим красную розу от чайной розы, от белой розы и т. д. Но в стихотворении, где между прочим упоминается красная роза, слово красная не будет иметь функции отличения; здесь имеется в виду самая обыкновенная роза, а прилагательное красная прибавляется для того, чтобы создать зрительное красочное впечатление, чтобы вместо скупого слова роза (курсив автора. — К. ///., Д. П.) дать сочетание, эмоционально окрашенное.
Явление эпитета, потребность в таком подчеркивании отдельного признака не с целью различения, а с целью придачи слову особой стилистической окраски, — эго явление свойственно всем литературам, всем временам и всем народам" (7, с. 200—201).
ОПОЯЗ и Московский лингвистический кружок сформировали целую плеяду выдающихся филологов. Среди них Г. А. Гуковский («Русская поэзия XVIII века», 1927; «Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750—1760 годов», 1936; «Очерки, но истории русской литературы и общественной мысли XVIII века», 1938; «Русская литература XVIII века», 1939; «Пушкин и русские романтики», 1946; «Пушкин и проблемы реалистического стиля», 1957; «Реализм Гоголя», 1959; «Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике», 1966 и др.), Л. В. Пумпянский («К истории русского классицизма», 1923—1924; «Русская история 1905—1917 годов в поэзии Блока», 1925; «Поэзия Тютчева», 1928; «Гоголь», 1922—1923; «Стиховая речь Лермонтова», 1939; «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века, 1939 и др.), А. В. Чичерин («Идеи и стиль», 1968; «Ритм образа», 1973; «Очерки по истории русского литературного стиля», 1977) и многие другие.
- 1. Виноградов, В. В. Из истории изучения поэтики (20-е годы) / В. В. Виноградов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1975. — № 3. — С. 259—272.
- 2. Винокур, Г. О. Понятие поэтического языка //Винокур, Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. — М.: Наука, 1990. — С. 140—145.
- 3. Винокур, Г. О. Поэтика. Лингвистика. Социология // Винокур, Г. О. Филологические исследования. — М.: Паука, 1990. — С. 22—31.
- 4. Винокур, Г. О. Футуристы — строители языка // Винокур, Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. — М.: Наука, 1990. — С. 14—22.
- 5. Винокур, Г. О. Чем должна быть научная поэтика // Винокур, Г. О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. — М.: Наука, 1990. — С. 8—14.
- 6. Светликова, И. Ю. Истоки русского формализма: Традиции психологизма и формальная школа / И. Ю. Светликова. — М.: Новое литературное обозрение, 2005.
- 7. Томашевский, Б. В. Стилистика и стихосложение: курс лекций / Б. В. Томашевский. — Л.: Учпедгиз, 1959.
- 8. Фещенко, В. В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстстикс и семиотике искусства / В. В. Фещенко, О. В. Коваль. — М.: Языки славянской культуры, 2014.
- 9. Шапир, М. И. Р. О. Якобсон. Московский лингвистический кружок. Предисловие / М. И. Шапир //Philologica. — 1996. — Vol. 3. — № 5/7. — С. 361—365.
- 10. Язык и мысль: Современная когнитивная лингвистика/ сост. А. Д. Кошелев. — М.: Языки славянской культуры, 2015.
- 11. Якобсон, Р. О. Лингвистика и поэтика/ Р. О. Якобсон // Структурализм «за» и «против». — М.: Прогресс, 1975. — С. 193—230.
- 12. Якобсон, Р. О. Московский лингвистический кружок / Р. О. Якобсон // Philologica. — 1996. — Vol. 3. — № 5/7. — С 65−380.
- 13. Якобсон, Р. О. Новейшая русская поэзия // Якобсон, Р. О. Работы по поэтике. — М.: Прогресс, 1987. — С. 272−316.
- 14. Якобсон, Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Р. О. Якобсон // Семиотика. — М.: Радуга, 1983. — С. 462—482.
- 15. Якобсон, Р. О. Формальная школа и современное русское литературоведение / Р. О. Якобсон. — М.: Языки славянских культур, 2011.
- 16. Якубинский, Л. П. Избранные работы. Язык и его функционирование / Л. П. Якубинский. — М.: Наука, 1986.