Риторика в России
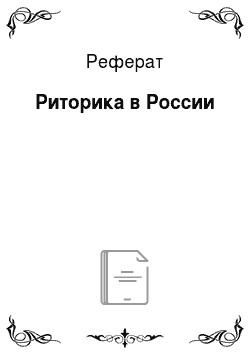
Убедительность, пусть и выведенная в «Частную риторику», пусть и трактуемая в разделе красноречие, т. е. как практика, а не теория, все же в работах Кошанского присутствовала: «Красноречие всегда имеет два признака: силу чувств и убедительность». Весьма примечательно, что воздействие на чувства, подобно софистам, рассматривалось как главное условие воздействия речи. Убедительность, в свою… Читать ещё >
Риторика в России (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В 1748 г. была опубликована первая оригинальная русская риторика «Краткое руководство к красноречию», принадлежавшая перу М. В. Ломоносова. Развитие риторики в России всегда шло трудно. Наряду с влиянием общеевропейских тенденций, выражавшихся в приоритете естественнонаучного знания, уровень образованности массы населения и формы общественного устройства в России не способствовали расцвету общественной речи. Это непосредственно сказывалось на трактовке предмета риторики русскими риторами. Очень долго в отечественной традиции риторика и красноречие рассматривались в качестве синонимов, а сама риторика процветала, пожалуй, преимущественно в жанре хвалебной (эпидейктической) речи, уделом которой были торжественные мероприятия и… праздничные застолья.
Уже у М. В. Ломоносова мы видим ограничение предмета риторики наукой «о всякой предложенной материи красно (т.е. красиво. — Авт.) говорить и писать». Заметно отличие от аристотелевской трактовки риторики как науки убеждения. Это заметно даже по сравнению со взглядами Софрония Лихуда: в своем сочинении «О силе риторической» (1698) ритор держался за цитированное из Аристотеля определение предмета риторики как силы «яже рассмотряти, что к коейгождо вещи есть к поучению благоключимо», т. е. в его риторике явно преобладал дидактический и воспитательный элемент. Значение ораторской) слова простиралось, по его неосторожно высказанной мысли, настолько, что «сила высокия риторики» и «цари победи». Очевидно, что власти вряд ли мог прийтись по вкусу такой пример торжества общественной речи.
Даже в относительно либеральное и просвещенное екатерининское правление Д. И. Фонвизин писал: «Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться», и ходатайствовал об учреждении конкурса нравоучительных ораторских речей под эгидой Академии наук в целях развития общественной речи. С воцарением Павла I и при его сыновьях всякие игры в «витийство» в России прекратились. Неудивительно поэтому, что в России термин «словесность» как аналог филологических наук приобрел определенность уже в 1790-е гг.
Отголоском бурь наполеоновских войн смотрится только первая русская военная риторика Я. В. Толмачева, вышедшая в 1825 г. под названием «Военное красноречие, основанное на общих началах словесности, с присовокуплением примеров в разных родах оного». Интересно, что в своем сочинении Толмачев проводил различие между красноречием, понимаемым как умение выражать мысли ясно и красиво, и витийством (ораторством), которое требовало выражаться сильно и убедительно. Последнее признавалось вершиной риторического искусства. Неудивительно, что после событий на Сенатской площади в декабре того же года Я. В. Толмачев был заподозрен в вольнодумстве, уволен из Санкт-Петербургского университета, а развитие военной риторики остановилось почти на два столетия.
В николаевское время властями риторика воспринималась с подозрением. Выражаться сильно полагалось начальству, а сила эта автоматически делегировалась ему как облеченному доверием императора. Получалось, что последний городовой был в своем роде немного помазанником, а коли так, то стесняться в выражениях ему не пристало. Образ гоголевского полицмейстера стал прекрасным тому подтверждением.
После декабря 1825 г. риторика обнаружила заметное стремление к слиянию с солидной и безопасной словесностью. В семи изданиях учебника А. С. Никольского «Основания российской словесности» (1807—1830) словесность лапидарно понималась лишь как «способность выражать мысли словами». В соответствии с этим она распадалась на две науки: грамматику, учившую «правильному употреблению слов», и риторику, занимавшуюся поиском способов «как располагать и изъяснять мысли». Нетрудно заметить, что из концепции Никольского выпадала часть риторики, занимавшаяся поиском предмета речи. Говорить российским риторам приходилось по большей части «как положено»; изобретать мысли полагалось начальству. Речевое образование сводилось, таким образом, к простому умению выражать мысли изустно и на письме.
В трудах А. Ф. Мерзлякова словесность понималась как «правила речи», которые распадались на три науки: «логику, или диалектику, которая учит думать, рассуждать и выводить заключения правильно, связно и основательно; грамматику, которая показывает значение, употребление и связь слов и речей; и риторику, которая подает правила к последовательному и точному изложению мыслей, к изящному и пленительному расположению частей речи, сообразно с видами каждого особенного рода прозаических сочинений». На долю риторики в этом своеобразном «тривиуме» также выпадала задача продуманного и красивого расположения мыслей.
В работах II. Ф. Кошанского ораторика как теория воздействующей публичной речи исчезла из «Общей риторики» (1829) вообще. Риторика, по Кошанскому, «учит любить и выражать изящное», т. е. снова сводится к красноречию. В «Частной риторике» Кошанского (1832) словесность уже открыто ассоциировалась с литературой, становившейся единственной отдушиной в реализации права на речь для образованного российского общества: «Словесность, или литература вообще, есть наука, объемлющая полное знание одного или многих языков и все письменные произведения писателей».
Убедительность, пусть и выведенная в «Частную риторику», пусть и трактуемая в разделе красноречие, т. е. как практика, а не теория, все же в работах Кошанского присутствовала: «Красноречие всегда имеет два признака: силу чувств и убедительность». Весьма примечательно, что воздействие на чувства, подобно софистам, рассматривалось как главное условие воздействия речи. Убедительность, в свою очередь, определялась как «такая неотразимая сила и приятность убеждений, что мы против чаяний, против воли, совсем неожиданно соглашаемся с мыслями автора». После этих определений Н. Ф. Кошанский закономерно приводил примеры софистов и Руссо, вводивших свою аудиторию в заблуждение силою чувств и убедительностью, а потому и обладавших, по мысли автора, красноречием мнимым. Отсюда, очевидно, основываясь на идее Квинтилиана, в качестве преграды недолжному употреблению слова выдвигалась добрая нравственность оратора: «Истинно красноречивым может назваться тот, кто соединил красноречие ума и сердца с красноречием добродетели». Присутствовало в риторике Кошанского и собственно ораторство, правда отодвинутое в XXV главу V отделения после писем, разговоров и деловых бумаг, повествований и описаний. Но здесь, по крайней мере, находилось место и витийству: «Ораторство, витийство (ars oratorio) есть искусство даром живою слова воздействовать на разум, страсти и волю других». Правда, автор с некоторой горечью признавал, что современное ему ораторство не достигало «такой высокой энергии», какая была свойственна древним.
Начиная с 1850-х гг. предмет российской риторики ограничивался функциональной стилистикой. Ораторика стала опасным предметом, но, поскольку риторика с утратой важнейшего из своих разделов совершенно обесценивалась, ее следовало наполнять другим содержанием. В работах К. П. Зеленецкого провозглашалась мысль о том, что «логика принимает на себя всю систему мышления, понимания, рассуждения и умствования;… ее цель — в возможно очевидном и полном разложении процесса мысли; сила убеждения будет практическим следствием этих занятий в теории, а не предметом и целию науки». Как только стали полагать, что убедительность речи с необходимостью будет следовать из ее доказательности (явно смешивая оба этих понятия), необходимость в учении об ораторе, составлявшем неотъемлемую часть всех античных риторик, отпала. Оратор более не обязан был доставлять силу убедительности своей речи «по свойствам говорящего», а значит, из ведения риторики закономерно уходил такой важный аспект, как воспитание оратора.
В первом издании (1846) книги К. П. Зеленецкого предметом риторики выступало тяжеловесное «исследование построения, свойств и условий речи вообще как окончательной, органической формы слова человеческого», а в 1849-м — «вообще речь». Ораторика, естественно, из его «Общей риторики» (1849) выпадала, находя себе место в 111 отделении под названием «Ораторское красноречие». В изложении ее содержания Зеленецкий практически повторял Кошанского, старательно заклиная бдительных цензоров: «Ораторское красноречие состоит в искусстве действовать даром слова на разум и волю других и побуждать их к известным, но всегда высоким и нравственным целям». При отсутствии «стремления ко благу человечества» автор отказывал оратору даже в воодушевлении, полагая, что корыстные, порочные цели не могут быть порождением собственных убеждений оратора, что и не позволит ему эффективно воздействовать на свою аудиторию.
Таким образом, по мере ужесточения требований властей к содержанию и характеру общественной речи российские риторы сначала пытались ограничивать предмет риторики правилами красиво говорить и писать, выхолащивая в ней всякий публицистический элемент, а затем прибегли к более изощренной тактике. Предмет риторики стали «прятать» за рассуждениями о словесности, выводя риторику за рамки науки, отодвигая ее в область исключительно речевой практики, на периферию своих учебников. О воспитании оратора-граждапина говорить было опасно, поэтому авторы делали вид, что использование риторического инструментария есть целиком произвол отдельной личности. Этой личности скороговоркой давали несколько технических наставлении-приемов, всячески дистанцируясь от рекомендаций по их практическому употреблению и клятвенно заверяя власть, что в случае попадания риторики в руки безнравственного человека ее оружие ни в коем случае не выстрелит.