Хрестоматия.
Введение в языкознание часть 2
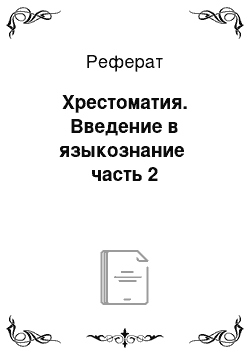
Обычно принято считать, что при создании звуковой оболочки слова обычно используется какой-либо из наиболее существенных признаков предмета, явления или процесса, выступающего в роли объекта наименования. В данном случае возникает сложная проблема, что понимать под существенным признаком, в каком отношении он является существенным. Само понятие существенного здесь допускает самые различные… Читать ещё >
Хрестоматия. Введение в языкознание часть 2 (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языкознание// Фортунатов Ф. Ф. Избранные груды. М., 1956. Т. 1. С. 118—120.
Понятно, что об отвлечённых предметах мысли мы не можем думать иначе, как при посредстве тех или других знаков, вследствие невозможности иметь непосредственные представления таких предметов; но если мы остановимся и на таких словах, которые обозначают ощущения и их предметы, то увидим, что и эти слова обозначают или то, что при этом не представляется непосредственно в нашем мышлении, или то, что не может быть представляемо в нашем мышлении таким, каким обозначается в слове.
Например, слово холод обозначает такой предмет мысли, который, по крайней мере при известных физических условиях, не может быть, я думаю, непосредственно представляем в нашем мышлении, а между тем думать о холоде мы можем всегда и именно потому, что самое это слово холод является в представлении знаком этого предмета мысли, или, иначе сказать, представление этого слова (известного комплекса звуков) есть для нас заместитель непосредственного представления данного предмета мысли. Все наши ощущения, а потому и представления, индивидуальны. Например, я не могу ни видеть, ни представить в уме (следовательно, не имею ни зрительных ощущений, ни зрительных представлений) белый цвет, не видя в то же время или нс представляя себе тех или иных предметов, которые имеют белый цвет, а между тем представление звукового комплекса белый (или представления звуковых комплексов белая, белое) является в моём мышлении представлением знака, отдельного от знаков тех или других предметов, которые имеют белый цвет, иначе сказать, предмет мысли, обозначаемый этим словом белый, есть отдельное свойство белого цвета, существующее у каких бы то ни было предметов, имеющих белый цвет.
Из данных мною примеров, я думаю, нетрудно уяснить себе, что не только язык зависит от мышления, но что и мышление, в свою очередь, зависит от языка; при посредстве слов мы думаем и о том, что без тех или других знаков не могло бы быть представлено в нашем мышлении, и точно так же при посредстве слов мы получаем возможность думать так, как не могли бы думать при отсутствии знаков для мышления, по отношению именно к обобщению и отвлечению предметов мысли.
Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1996. С. 101 — 103; 107—108; 115, 351−354.
Фрагмент 1 (Предикативность внутренней речи)
Изучение психологической природы внутренней речи привело нас к убеждению в том, что внутреннюю речь следует рассматривать не как речь минус звук, а как совершенно особую и своеобразную по своему строению и способу функционирования речевую функцию, которая именно потому, что она организована совершенно иначе, чем внешняя речь, находится с последней в неразрывном динамическом единстве перехода от одного плана в другой. Первой и главнейшей особенностью внутренней речи является её совершенно особый синтаксис. Изучая синтаксис внутренней речи в эгоцентрической речи ребёнка, мы подметили одну существенную особенность, которая обнаруживает несомненную динамическую тенденцию нарастания по мере развития эгоцентрической речи. Эта особенность заключается в кажущейся отрывочности, фрагментарности, сокращенное™ внутренней речи по сравнению с внешней.
В виде общего закона мы могли бы сказать, что эгоцентрическая речь по мере развития обнаруживает не простую тенденцию к сокращению и опусканию слов, не простой переход к телеграфному стилю, по совершенно своеобразную тенденцию к сокращению фразы и предложения в направлении сохранения сказуемого и относящихся к нему частей предложения за счёт опускания подлежащего и относящихся к нему слов. Эта тенденция к предикативности синтаксиса внутренней речи проявлялась во всех наших опытах.
Чтобы уяснить себе эту особенность, первичную из всех, необходимо сравнить её с аналогичной картиной, возникающей в определённых ситуациях во внешней речи. Чистая предикативность возникает во внешней речи в двух основных случаях, как показывают наши наблюдения: или в ситуации ответа, или в ситуации, где подлежащее высказываемого суждения наперёд известно собеседникам. На вопрос: «Хотите ли вы стакан чаю» никто не станет отвечать развёрнутой фразой: «Нет, я не хочу стакана чаю». Ответ будет чисто предикативным: «Нет». Он будет заключать в себе только одно сказуемое. Очевидно, что такое предикативное предложение возможно только потому, что его подлежащее — то, о чём говорится в предложении — подразумевается собеседниками. Так же точно на вопрос: «Прочитал ли ваш браг эту книгу?» никогда не последует ответ: «Да, мой брат прочитал эту книгу», а чисто предикативный ответ: «Да» или «Прочитал».
Совершенно аналогичное положение создаётся и во втором случае — в ситуации, где подлежащее высказываемого суждения наперёд известно собеседникам. Представим, что несколько человек ожидают па трамвайной остановке трамвая «Б», для того чтобы поехать в определённом направлении. Никогда кто-либо из этих людей, заметив приближающийся трамвай, не скажет в развёрнутом виде: «Трамвай „Б“, который мы ожидаем, для того чтобы поехать туда-то, идёт», но всегда высказывание будет сокращено до одного сказуемого: «Идёт» или «Б».
Диалог всегда предполагает то знание собеседниками сути дела, которое дозволяет целый ряд сокращений устной речи и создаёт в определённых ситуациях чисто предикативные суждения.
Но такое положение дел является абсолютным и постоянным законом для внутренней речи. Мы всегда знаем, о чём идёт речь в нашей внутренней речи. Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна нам. Мы знаем, о чём мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях. Оно всегда подразумевается.
Во внутренней речи должно наблюдаться абсолютное господство чистой предикативности. Как мы видели, это обстоятельство приводит в устной речи к упрощению синтаксиса, к минимуму синтаксической расчленённости, вообще к своеобразному синтаксическому строю. Но то, что намечается в устной речи в этих случаях как более или менее смутная тенденция, проявляется во внутренней речи, доведённой до предела как максимальная синтаксическая упрощённость, как абсолютное сгущение мысли, как совершенно новый синтаксический строй, который, строго говоря, означает не что иное, как полное упразднение синтаксиса устной речи и чисто предикативное строение предложений.
(Переход от внутренней речи к внешней)
Мы вправе её |внутреннюю речь) рассматривать как особый внутренний план речевого мышления, опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом. После всего сказанного о природе внутренней речи, о её структуре и функции не остаётся никаких сомнений в том, что переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. Точно так же, как внутренняя речь нс есть речь минус звук, внешняя речь не есть внутренняя речь плюс звук. Переход от внутренней речи к внешней есть сложная динамическая трансформация — превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчленённую и понятную для других речь.
Фрагмент 2(0 детской речи)
Но самое важное, что мы знаем о развитии мышления и речи у ребёнка, заключается в том, что в известный момент, приходящийся на ранний возраст (около двух лет), линии развития мышления и речи, которые шли до сих пор раздельно, перекрещиваются, совпадают в своём развитии и дают начало совершенно новой форме поведения, столь характерной для человека.
В. Штерн лучше и раньше других описал это важнейшее в психологическом развитии ребёнка событие. Он показал, что у ребёнка «пробуждается тёмное сознание значения языка и воля» к его завоеванию. «Ребёнок в эту пору, — как говорит Штерн, — делает величайшее открытие в своей жизни. Он открывает, что «каждая вещь имеет своё имя» (В. Штерн. Психология раннего детства. 1922. С. 89).
Этот переломный момент, начиная с которого речь становится интеллектуальной, а мышление — речевым, характеризуется двумя совершенно несомненными и объективными признаками, по которым мы можем с достоверностью судить о том, произошёл ли этот перелом в развитии речи или пет ещё, а также — в случаях ненормального и задержанного развития речи — насколько этот момент сдвинулся во времени по сравнению с развитием нормального ребёнка. Оба эти момента тесно связаны между собой.
Первый заключается в том, что ребёнок, у которого произошёл этот перелом, начинает активно расширять свой словарь, свой запас слов, спрашивая о каждой новой вещи, как она называется. Второй момент заключается в чрезвычайно быстром, скачкообразном увеличении запаса слов, возникающем на основе активного расширения словаря ребёнка.
Ребёнок до наступления этого периода также усваивает отдельные слова, которые являются для него условными стимулами или заместителями отдельных предметов, людей, действий, состояний, желаний. Однако в этой стадии ребёнок знает столько слов, сколько ему дано окружающими его людьми.
Сейчас положение становится принципиально совершенно иным. Ребёнок, видя новый предмет, спрашивает, как это называется. Ребёнок сам нуждается в слове и активно стремится овладеть знаком, принадлежащим предмету, знаком, который служит для называния и сообщения. Если первая стадия в развитии детской речи является по своему психологическому значению аффективно-волевой, то, начиная с этого момента, речь вступает в интеллектуальную фазу своего развития. Ребёнок как бы открывает символическую функцию речи.
Здесь нам важно отметить только один принципиально важный момент: лишь на известной, относительно высокой стадии развития мышления и речи становится возможным «величайшее открытие в жизни ребёнка». Для того чтобы «открыть» речь, надо мыслить.
овладение грамматическими структурами и формами идёт у ребёнка впереди овладения логическими структурами и операциями, соответствующими данным формам. Ребёнок овладевает придаточными предложениями, такими формами речи, как «потому что», «так как», «если бы», «когда», «напротив» или «но», задолго до того, как он овладеет причинными, временными, условными отношениями, противопоставлениями и т. д. Ребёнок овладевает синтаксисом речи раньше, чем он овладевает синтаксисом мысли. Исследования Пиаже показали с несомненностью, что грамматическое развитие ребёнка идёт впереди его логического развития и что ребёнок только сравнительно поздно приходит к овладению логическими операциями, соответствующими тем грамматическим структурам, которые им усвоены уже давно.
Вместе с тем обнаруживается основной, несомненный и решающий факт — зависимость развития мышления от речи, от средств мышления и от социально-культурного опыта ребёнка.
Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968. С. 94—102.
(4. Недостаточность фрагментарных форм внутренней речи для понимания трудных (отвлечённых) текстов и необходимость в этом случае развёрнутого проговаривания).
До сих пор мы подчёркивали сокращённый характер внутренней речи. Это, вообще говоря, довольно распространённое утверждение не всегда, однако, соответствует действительности. Внутренняя речь не всегда столь сокращена, как мы указывали раньше. Временами она может иметь очень развёрнутую форму. Так, например, бывает, когда мы рассуждаем, дискутируем сами с собой. В этом случае иногда опускается лишь название предмета, о котором идёт речь, а всё остальное может говориться почти полностью. Вот такого рода развёрнутая внутренняя речь и требовалась для понимания трудных текстов.
Если принять во внимание необходимость для понимания трудных текстов расчленения материала и последующего обобщения частей, то станет понятной и причина того, почему сокращённая форма внутренней речи оказалась недостаточной для понимания таких текстов. Сокращённая форма внутренней речи — это только схема речевого выражения мыслей, это только намёки на немногие обобщающие слова, которые, являясь семантическими комплексами, могут быть при желании развёрнуты. Намёками слов мы можем отмечать более или менее известное, намёками слов мы можем и обобщать, если этому обобщению, как, например, в случае «внезапных» мыслей, когда-либо предшествовал анализ. Но анализировать нечто совсем неизвестное при помощи такой речевой схемы нельзя. Для этого требуется развёрнутая внутренняя речь, а порой и открытое артикулирование слов.
Анализируя экспериментальный материал, мы пришли к тому выводу, что некоторые слова испытуемые определённо воспроизводили внутренне; правда, это были не столько слова, сколько трудноуловимые намёки на них, выражаемые в каких-то элементах артикулирования. Однако роль таких внутренне воспроизводимых слов была огромна; отмечая основной смысл речи, они становились конденсированным выражением больших смысловых групп. Иногда при этом обобщённым выражением смысла бывали и образы, но тогда и образы становились носителями нс конкретного их значения, а того общего смысла, который придавали им испытуемые в связи с данным контекстом. Мы имеем, таким образом, факт необычайно большого расширения значения слов и представлений, которыми мы пользуемся во внутренней речи.
Сгущение смысла слов имеет место и во внешней (устной и письменной) речи. Так, во многих оборотах разговорного языка одно слово нередко замещает собой целую группу слов. В теории словесности такие обороты называют эллипсисами.
Внезапность и быстрота появления мыслей, обычно кажущаяся столь загадочной, становится возможной именно благодаря наличию у нас больших комплексов мыслей, выражаемых незначительными намёками речи. При изложении мысли другим людям мы, опираясь на такие семантические комплексы, развёртываем их и придаём им, в зависимости от ситуации, более или менее полное словесное выражение.
Гумбольдт Вильгельм фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Гумбольдт Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 80—81; 77—78; 84; 165-166.
Фрагмент 1 (Язык — материя мысли)
в каждом языке заложено самобытное миросозерцание. Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне. Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей. Эти наши выражения никоим образом нс выходят за пределы простой истины. Человек преимущественно — и даже исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает язык изнутри себя, он вплетает себя в него; и каждый язык описывает вокруг народа, которому он при надлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира; до известной степени фактически так дело и обстоит, поскольку каждый язык содержит всю структуру понятий и весь способ представлений определённой части человечества. И только потому, что мы в большей или меньшей степени переносим на иностранный язык своё собственное миропонимание и, больше того, своё собственно представление о языке, мы не осознаем отчетливо и в полной мере, чего нам здесь удалось достичь, т. е. выступать в окружении всего того, что делает человека человеком.
Фрагмент 2 (Проблема понимания)
Процесс речи нельзя сравнивать с простой передачей материала. Слушающий так же, как и говорящий, должен воссоздать его посредством своей внутренней силы, и всё, что он воспринимает, сводится лишь к стимулу, вызывающему тождественные явления. Потому что для человека естественным является тотчас же воспроизвести понятое им в речи. Таким образом, в каждом человеке заложен язык в его полном объёме, что означает, что в каждом человеке живёт стремление под действием внешних и внутренних сил порождать язык, и притом так, чтобы каждый человек был понят другими людьми.
никто не понимает слово в точности так, как другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает, как круг по воде, через всю толщу языка. Всякое понимание поэтому всегда есть вместе с тем и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах — вместе и расхождение.
Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и другого слова. Называя обычнейший предмет, например лошадь, они имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово своё представление — более чувственное или более рассудочное, более живое, образное или более близкое к мёртвому обозначению и т. д.
Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления //.
Хрестоматия по истории русского языкознания / сост. Ф. М. Березин. М., 1973. С. 252−253.
Когда я говорю и меня понимают, то я нс перекладываю целиком мысли из своей головы в другую, подобно тому, как пламя свечи не дробится, когда я от него зажигаю другую свечу, ибо в каждой свече воспламеняются свои газы. Каждое лицо с психологической стороны есть нечто вполне замкнутое, в котором нет ничего, кроме произведённого им самодеятельно. Эта самодеятельность, без сомнения, может быть вызвана чем-нибудь извне. Чтобы думать, надо создать (а как всякое создание есть собственное преобразование, то преобразовать) содержание своей мысли, и таким образом при понимании мысль говорящего не передаётся, по слушающий, понимая, создаёт свою мысль.
Думать при произнесении известного слова то же самое, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою; поэтому понимание в смысле тождества мысли говорящего и слушающего есть иллюзия, в которой действительным оказывается только некоторое сходство, аналогичность между ними, объясняемые сходством других сторон человеческой природы. Наше слово действует на других, но при этом оно устанавливает между замкнутыми в себе личностями связь, нс уравнивая содержания этих личностей, но настраивая их гармонически.
Залевская А. А.
Введение
в психолингвистику. М., 2000. С. 237—238; 243 (URL: twirpx.com).
В исследовательских целях широко распространено условное разграничение двух основных этапов — восприятия речи и понимания речи, что вовсе не исключает признания постоянного взаимодействия соответствующих процессов и механизмов.
Согласно внешнему впечатлению, понимание речи происходит мгновенно, однако это достигается через многоэтапную переработку воспринимаемого («входного») сигнала (потока звуков или последовательности графем), а его необходимо прежде всего опознать именно в качестве значимого сигнала. Известно, что нс всегда человеку удаётся успешно дифференцировать звуки, правильно расчленить поток речи на осмысленные единицы, опознать нужное значение полисемантичного слова или разграничить омонимичные слова и т. д., что может приводить к забавным, а нередко и драматичным ситуациям, когда неверно услышанное побуждает принимать неверные решения и совершать неадекватные поступки.
Ограничимся забавными примерами из детской речи: «Буря мглою небо кроет…» — «А кто такой Буремглой?» или «Мама, кто там умер от варенья?» на фоне радиопередачи о политике умиротворения. Всем встречались и случаи ошибочного членения потока иноязычной речи или неверной идентификации отдельных слов. Так, чукотский писатель Юрий Рытхеу вспоминает о том, как он в детстве понял строку из песенки о «Цыпленке жареном»: «Паспорта нету. Канима нету!» [Гони монету! — Авторы]. Образ загадочного Канима преследовал его в детские годы.
Черниговская Т. В. «Почему „взорвался“ мозг?» // Интервью газете «Московские новости». № 23. 15 июня 2007 г. (URL: http://www.mn.ru/issue. php?2007—23—27).
(Биологическая эволюция человека продолжается)
В № 21 «Московских новостей» было опубликовано интервью академика Сергея Инге-Вечтомова «Человеку некуда больше спешить», где ученый заявил о том, что наша биологическая эволюция закончена. Интервью вызвало много откликов — далеко не все исследователи разделяют это мнение.
…Куда идём Попытки определить и понять в рамках научного знания, в чём же состоит кардинальное отличие человека от других биологических видов, имеют не такую уж долгую историю: в 1859 г. Дарвин издал «Происхожснис видов», а в 1871 г. — «Происхождение человека». С тех пор наши представления о своей биологической истории неизмеримо выросли, особенно с успехами генетики, и теперь мы можем построить генеалогическое древо вплоть до времени формирования современного человека на территории Африки. Мы знаем также, что младенец, рождённый сейчас, генетически очень мало отличается от рождённого в начале нашей биологической истории; известно, какие линии оказались тупиковыми, а какие привели к возникновению человека современного типа и разных расовых групп. Однако, согласно некоторым данным, микроцефалии и ASPM (гены, регулирующие объём мозга) подвергались активной селекции и продолжают эволюционировать. Вот и свидетельство того, что человеческий мозг всё ещё находится под воздействием эволюционных процессов.
Несомненно, основные эволюционные приобретения человека следует искать в структуре и функциях головного мозга. Хотя наши знания о его психике — языке, семиотических возможностях и способности к формированию концептов, об эволюции этих наших способностей — весьма недостаточны (в том числе и в сравнении с высшими проявлениями психических способностей других биологических видов). Язык является отличительным признаком, характеристикой человека как вида. Это вполне ясно формулировал уже Дарвин, подчёркивая, что дело не в артикуляции как таковой, что доступно, например, некоторым видам птиц, а в способности связать определённые звуки с определёнными идеями. Однако далее Дарвин говорит о том, что такая способность хоть и характеризует именно человека, но не является автономной, а базируется на развитии ментальных способностей вообще. Это очень важное замечание, так как до сего времени основные споры ведутся вокруг двух диаметральных позиций: является ли языковая способность человека чем-то.
«особым», отдельным, в том числе и анатомически, или её следует включать в число других высших психических функций и считать одним из видов присущих мозгу вычислительных операций.
Сепир Эдвард. Язык и среда // Сепир Эдвард. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 272—273.
На примере английского языка можно показать, что заинтересованность носителей языка в особенностях окружающей среды в значительно большей степени, нежели само наличие этих особенностей, предо! феделяет словарный состав языка. Тот, кто не занимается ботаникой и не интересуется народной медициной или другими проблемами, связанными с ботаникой, вряд ли будет в состоянии назвать бесчисленные виды растений, составляющие его окружение, как-нибудь иначе, чем просто «сорняк». В то же время в языках некоторых индейских племён, пропитание которых в значительной степени составляют корни и семена диких растений и тому подобные «овощи», могут быть представлены весьма точные обозначения для каждого из этих неразличимых с нашей точки зрения сорняков. Часто используются различные названия для разных состояний одного и того же вида растений — в зависимости от того, сырое оно или как-то приготовлено, в зависимости от его цвета или от степени созреваемости.
Ещё один поучительный пример того, в какой степени состав словаря предопределяется интересами людей к тем или иным реалиям, представляют собой обозначения луны и солнца в некоторых из индейских языков. В то время, как мы считаем необходимым разграничивать эти понятия, немало индейских племён вполне довольствуются одним словом для их обозначения, а точная референция возможна лишь через контекст. И если мы попытаемся выразить недовольство тем, что такое неопределённое обозначение будто бы не отражает естественного природного различия, индеец вполне может ответить нам тем же, указав на столь же собирательный характер слова «сорняк» по сравнению с его собственным очень точным «растительным» словарем. Всё, разумеется, зависит от точки зрения, предопределяемой интересом. Если не забывать об этом, то становится очевидным, что наличие или отсутствие общего обозначения для какой-либо группы понятий в значительной мерс связано с тем, имеется ли у людей интерес к соответствующим явлениям окружающей среды. Чем более необходимым представляется носителям данной культуры проводить разграничение в пределах данного круга явлений, тем менее вероятно существование в их языке общего для них понятия. И наоборот, чем меньшее значение имеют некоторые элементы среды для данной культуры, тем больше вероятность того, что все они покрываются единственным словом общего характера.
Языковая номинация: Общие вопросы. М., 1977. С. 166—167 (Автор цитируемой главы — акад. Б. А. Серебренников.).
Обычно принято считать, что при создании звуковой оболочки слова обычно используется какой-либо из наиболее существенных признаков предмета, явления или процесса, выступающего в роли объекта наименования. В данном случае возникает сложная проблема, что понимать под существенным признаком, в каком отношении он является существенным. Само понятие существенного здесь допускает самые различные градации. Рус. слово река связано в конечном счёте с греч. глаголом ргсо ‘течь', но готское название реки aha связано с лат. aqua ‘вода'. Какой признак здесь более существенный? Совершенно очевидно, что признак течь обладает большими дистинктивными [= различительными] возможностями, потому что действительно отличает реку от озера, моря, какого-то закрытого водоёма, как наиболее дистинктивный признак он в данном случае существен. Однако этого нельзя сказать о признаке ‘вода', лежащем в основе наименования готского aha, потому что воду можно найти и в реке, и в озере, и в море, и даже в большом болоте. Естественно, что этот признак менее дистинктивен, он не подходит под категорию существенных и броских признаков. Подобные случаи мы встречаем всюду. Название берёзы связано с названием белого цвета, рус. дятел связано с глаголом долбить, а сербо-хорв. skakavec ‘кузнечик' обнаруживает совершенно очевидную связь с рус. глаголом скакать. Эти признаки достаточно дистинктивные. Никакое другое дерево в лесу нс обладает такой белой корой, как береза, для дятла характерно свойство долбить стволы деревьев. Таким свойством другие птицы нс отличаются. Кузнечик, в отличие от других насекомых, постоянно прыгает и притом на значительные расстояния. В то же время можно найти признаки, обладающие крайне незначительной различительной способностью. Название дятла в манчжурском языке фЪрхои связано с глаголом форы ‘бить'. Нем. слово Hahn ‘петух' связано с лат. глаголом сапо ‘петь'. Но способностью к пению обладают многие сотни других птиц. Нем. Fliege ‘муха' происходит от глагола fliegen ‘летать'. Этой способностью (летать) обладают все без исключения насекомые если рус. слово сосна по происхождению связано с глаголом сопеть (сосна из сопсна), т. е. ‘шуметь от ветра', то этой особенностью обладает и ель, и пихта, и многие лиственные деревья.
Всё это свидетельствует о том, что если подбор признака происходит в языке стихийно, без предварительно обдуманного плана, то наряду с признаками броскими, обладающими большой различительной силой, могут быть выбраны маловыразительные признаки, различительная способность которых довольно слаба.
Уорф Бенджамен. Отношение норм поведения и мышления к языку //.
Новое в лингвистике. Вып. 1. М., I960. С. 136; 160.
(Обозначение явления и его влияние на действия людей)
Я столкнулся с одной из сторон этой проблемы ещё до того, как начал изучать Сепира, в области, обычно считающейся очень отдалённой от лингвистики. Это произошло во время моей работы в обществе страхования от огня. В мои задачи входил анализ сотен докладов об обстоятельствах, приведших к возникновению пожара или взрыва.
Фактор обозначения проявлялся всего яснее тогда, когда мы имели дело с языковым обозначением, исходящим из названия, или с обычным описанием подобных обстоятельств средствами языка.
Так, например, около склада так называемых gasoline drums «бензиновых цистерн» люди ведут себя соответствующим образом, т. е. с большой осторожностью; в то же время рядом со складом с названием empty gasoline drums «пустые бензиновые цистерны» люди ведут себя иначе: недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки. Однако эти empty «пустые» цистерны могут быть более опасными, так как в них содержатся взрывчатые испарения. При наличии реально опасной ситуации лингвистический анализ ориентируется на слово «пустой», предполагающее отсутствие всякого риска. Возможны два различных случая употребления слова empty: в первом случае оно употребляется как точный синоним слов null, void, negative, inert (порожний, бессодержательный, бессмысленный, ничтожный, вялый), а во втором — в применении к обозначению физической ситуации, не принимая во внимание наличия паров, капель жидкости или любых других остатков в цистерне или в другом вместилище. Обстоятельства описываются с помощью второго случая, а люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея в виду первый случай. Это становится общей формулой неосторожного поведения людей, обусловленного чисто лингвистическими факторами.
Плунгян В. Лингвистика катастроф // Итоги. № 30 (216). М., 2007 (см. также: URL: http://www.philology.ru/linguisticsl/plungyan-07.htm).
каждый язык — это ключ к системе знаний о мире. Такие знания приобретают особую ценность для изучения истории народов, человеческой психологии, разных вариантов и возможностей развития человека, но, конечно, они могут быть использованы и во многих других областях. Проблема, однако, состоит в том, что, пока наука размышляет о том, как лучше использовать кладовые коллективной памяти, сами эти уникальные кладовые одна за другой исчезают безвозвратно. Вот почему для нас должен быть ценен любой язык, независимо от того, сколько людей на нём говорят и пользуются ли эти люди компьютерами или каменными топорами. «Примитивных» языков, как давно известно, не существует; более того, пожалуй, нигде лингвисты не сталкивались с такими неправдоподобно сложными и завораживающе красивыми грамматическими структурами, как на Новой Гвинее, Крайнем Севере или в джунглях Амазонки.
Сегодня лингвисты буквально с отчаянием наблюдают необратимый процесс сокращения и унификации языковой палитры человечества. Разумеется, нс в их силах остановить или хотя бы замедлить процесс. Единственное, что они способны сделать — сохранить как можно в более полном виде то, что ещё доступно, иначе говоря, создать как можно более полные описания живых языков. И начинать при этом, конечно, надо с тех, чьё существование сейчас в наибольшей опасности. Именно для этих языков в первую очередь должны быть написаны подробные грамматики, составлены полные словари, собрано и переведено как можно больше аутентичных текстов — сказок, легенд, пословиц, хроник и родословных, историй из жизни, бытовых диалогов.