«Ум резким, сильным и насмешливый»: марк алданов (ландау) (1886-1957)
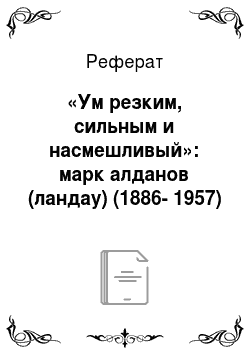
Алданов задолго до Оруэлла (1903—1950) и Кестлера (1905—1983) обнаружил связь между тоталитарной идеологией и распадом морали. Он первым не только задал вопросы: «Что же мы сделали? Для чего опоганили жизнь и себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей? Для чего научили весь мир невиданному по беззастенчивости злу?», но и первыми словами одного из героев романа — профессионального… Читать ещё >
«Ум резким, сильным и насмешливый»: марк алданов (ландау) (1886-1957) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения материала данной главы студент должен: знать
- • тематику исторических романов М. Алданова;
- • один из романов тетралогии «Мыслитель»;
- • решение темы революции в романах «Истоки» и «Самоубийство»; уметь
- • находить пушкинские традиции создания исторической прозы;
- • объяснять способы передачи философии истории;
- • оценивать книгу «Ульмская ночь»; владеть навыками
- • анализа алдановской теории случая;
- • соотнесения фатальности и индивидуальной воли в прозе М. Алданова;
- • анализа основных исследований творчества писателя.
«В молодости он был внешне элегантен, от него веяло каким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Париже в начале 30-х годов М. А. Алданов был такой: выше среднего роста, правильные, приятные черты лица, черные волосы с пробором набок, „европейские“, коротко подстриженные щеточкой усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как-то даже упорно глядели на собеседника… С годами внешнее изящество стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появилась полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний духовный аристократизм Алданова остался, ум работал строго, с беспощадной логикой»[1]. Таким запомнил Марка Алданова писатель Андрей Седых (1902—1994).
Дополнением к этому портрету служит выразительная характеристика Алданова, данная Б. Зайцевым: «Был он чистейший и безукоризненный джентльмен, просто „без страха и упрека“, ко всем внимательный и отзывчивый, внутренне скорбно-одинокий»[2]. «Алданов, — развивал эту характеристику Г. Адамович, — был человеком, в котором ни разу не пришлось ощутить ничего, что искажало бы представление о человеке… Ни разу за все мои встречи с ним он не сказал ничего злобного, ничего мелкого или мелочного, не проявил ни к кому зависти, никого не высмеял, ничем не похвастался — ничем, ни о ком, никогда… Алданов с досадой и недоумением смотрел на „человеческую комедию“ во всех ее проявлениях. Интриги, ссоры, соперничество, самолюбование, счеты, игра локтями — все это в его поведении и его словах полностью отсутствовало… Меня подкупала в Алданове его трезвость — и грусть, как вывод из трезвости или результат ее»[3].
Таким же он оставался и в своих произведениях: «Гуманистом, не верящим в прогресс» (М. Карпович), снисходительно взирающим на людские слабости, добродушно иронизирующим над человеческой погруженностью в суету сует, но не прощающим, когда эти потуги приводили к крови и человеческим жертвам.
Марк Александрович Ландау (Алданов — псевдоним, анаграмма его фамилии) родился в Киеве в богатой и интеллигентной семье. Получил прекрасное образование, владел несколькими языками. В 1910 г. окончил два факультета Киевского университета, став одновременно юристом и химиком. Ему принадлежит ряд серьезных работ в области химии. Во время Первой мировой войны разрабатывал способы защиты населения Петрограда от химического оружия. Позднее, уже в эмиграции, им написаны и опубликованы на французском языке книги «Актинохимия» (1936) и «К возможности новых концепций в химии» (1950).
В литературе дебютировал в 1915 г. как литературовед-эссеист книгой «Толстой и Роллан», где доказывал силу реалистического метода. С тех пор Толстой всегда оставался для Алданова недосягаемой вершиной и образцом писательского совершенства. «Он произносил два слова „Лев Николаевич“ почти так, как люди верующие говорят „Господь Бог“»[4], — вспоминал Г. Адамович.
Свое отношение к Октябрьским событиям 1917 г. Алданов выразил, сравнив их с Армагеддоном, местом, куда, по «Откровению Иоанна Богослова (Апокалипсису)», «бесовские духи выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань». Книга Алданова «Армагеддон» (1919) была конфискована большевиками немедленно после ее выхода.
После неудачной заграничной поездки 1918 г. по европейским столицам с делегацией Союза возрождения России, объединившего все оппозиционные большевикам партии, — ни денег, ни оружия делегация не получила — Алданов в марте 1919 г. покидает Одессу и через Константинополь уезжает в Париж. 1922—1924 гг. он проводит в Берлине. Здесь он встретился с Татьяной Марковной Зайцевой, ставшей его женой и верным другом на всю жизнь. До Второй мировой войны супруги жили в Париже.
Первая же написанная им повесть «Святая Елена, маленький остров» (1921) открывает Алданову дорогу в лучший журнал русской эмиграции «Современные записки». Никому неизвестный начинающий писатель быстро завоевывает признание как в литературном мире, так и среди читателей. Все (!) его основные произведения печатаются именно в «Современных записках». Почти в каждом номере журнала — его рецензии, аннотации. Алданова наперебой приглашают «Последние новости», «Дни», «Русские записки», «Иллюстрированная Россия».
Свою деятельность романиста (до войны им написано восемь романов и несколько повестей) Алданов сочетает с публицистикой. В его книги «Современники» (1928, 1932), «Портреты» (1931, 1936), «Земли и люди» (1932) входят очерки-портреты Сталина (1878—1953) и Гитлера, Пилсудского и Муссолини, Бриана (1862—1932) и Клемансо (1841 — 1929), Черчилля (1874—1965) и Ганди (1869—1948), Азефа (1869—1918) и Махно (1888—1934), Ллойд-Джорджа (1863—1945) и Луначарского.
В начале Второй мировой войны писатель уехал в США, где стал одним из организаторов «Нового журнала» — преемника «Современных записок». В 1947 г. Алдановы вернулись во Францию и до конца своих дней жили в Ницце. Здесь написаны еще семь романов, несколько остросюжетных рассказов («Микрофон», «Номер 14», «Фельдмаршал», «Грета») и книга философских диалогов «Ульмская ночь» (1953), посвященная проблеме случая в истории и помогающая понять историософскую мысль романов писателя.
В ноябре 1956 г. общественность Запада и русской диаспоры отметила его 70-летие. Сам писатель со свойственной ему иронией назвал это «репетицией панихиды» и весьма интересовался, что добавят к ней некрологи. Ждать оставалось недолго. Через три месяца Алданов умер. Легкой смертью: во сне.
Его литературное наследство, по подсчетам литературоведов, составило около 40 томов. Книги его переведены на 24 языка. С 1988 г. произведения писателя стали возвращаться на родину. Немалая заслуга в этом принадлежит литературоведу и критику А. А. Чернышеву, стараниями которого вышли два шеститомных Собрания сочинений Алданова, дополняющих друг друга.
Всю свою жизнь М. Алданов писал, по существу, одну грандиозную книгу о месте России в европейской истории. Как вспоминает Г. Кузнецова в «Грасском дневнике», он категорически не принимал распространенное среди значительной части эмиграции мнение, что «на Западе все было по-светлому, а у нас было рабство, дикость». «Что вы роете этот ров между Западом и нами — „Азией“?.. Мы нс Азия, а только запоздавшая Европа», — утверждал Алданов, неизменно находя в этом вопросе поддержку И. Бунина.
Выстроенные в один ряд, его книги на исторические темы охватывают период с 1762 по 1952 г. От царствования Петра III (1728—1762) до Сталина. Среди персонажей его произведений Екатерина II, Павел I, Александр I (1777−1825), Наполеон (1769−1821), Робеспьер (1758−1794), Ленин, Ломоносов (1711 — 1765), Суворов (1730—1800), Миних (1683— 1767), Нельсон (1758−1805), Гамильтон (1755−1804), Байрон (1788- 1824), Бальзак (1799—1850) — всех не перечислить.
При достаточной самостоятельности каждого романа или повести они объединяются в трилогии и тетралогии, проникнутые той или иной единой мыслью.
Первую такую тетралогию составляют романы, объединенные под общим заголовком «Мыслитель»: «Святая Елена, маленький остров» (1921), «Девятое термидора» (1921 — 1922), «Чертов мост» (1924—1925), «Заговор» (1926—1927). Происхождение названия тетралогии объяснено М. Алдановым в предисловии к первому изданию «Девятого термидора»: «„Мыслитель“, или „Дьявол-мыслитель“ — химера, находящаяся на вершине собора Парижской Богоматери. В фигурке „дьявола с горбатым носом, с хилыми руками, с высунутым над звериной губой языком“, описанной в видении Наполеона из последней части тетралогии, скрывается символ истории, всегда насмешливой и развивающейся без всяких законов, волей дьявола-случая».
Эта мысль отчетливо прослеживается уже в «Святой Елене, маленьком острове», посвященном последним дням жизни Наполеона Бонапарта.
Однако в центре повествования не фигура поверженного императора, а история Сузи Джонсон, падчерицы английского губернатора острова Св. Елены, и Александра де Бальмена (1782—1848), преуспевающего русского дипломата, комиссара императора Александра при плененном Наполеоне.
Так, уже с первого своего произведения, уравновесив «обыкновенных» людей и «великого», Алданов утвердит свой интерес к человеку, а не его месту в исторической иерархии. Выбор в качестве повествователя обычного человека восходит к пушкинской традиции изображения истории «домашним образом» (глазами дворянского недоросля Петра Гринева), к толстовскому взгляду на историю через призму судеб множества весьма далеких от принятия исторических решений людей. У Алданова, как и у Л. Толстого, и А. Франса, справедливо писал М. Карпович, «история подается не в ее „парадном“ аспекте, а в ее „человеческом, слишком человеческом“ обличье. Алданова-романиста интересуют кулисы, а не фасад истории. История важна для него не сама по себе, а лишь поскольку она отражается на судьбе людей, и в первую очередь людей „неисторических“»[5].
В судьбу английской девочки из родовитой, но не слишком знатной семьи император Наполеон, покоритель мира и кумир романтической молодежи, вошел как «злой Бони», лишивший ее и других английских девочек традиционного обеденного десерта — сладкого пудинга, потому что «злой Бони» устроил доброй старой Англии континентальную блокаду. Он и предводительствуемые им страшные французы хотели погубить дорогую старую страну, но дорогой герцог Веллингтон и кузен Эдди победили злодея; им немножко помогли русские — хороший народ, который живет в снегу с медведями, питается сальными свечками, но любит дорогую старую страну до такой степени, что его король Александр и русский граф, фамилию которого невозможно выговорить, чтобы сделать приятное королю Георгу, даже сожгли свою столицу Москву, куда забрался «злой Бони».
С великолепным чувством меры создаваемая ироническая тональность к ограниченному английским снобизмом и обывательскими рамками восприятию истории, не мешают писателю в целом весьма доброжелательно показать саму девушку.
Такое же отношение у Алданова и к де Бальмену. С одной стороны, автор по достоинству оценивает ум этого человека, присущую ему русскую совестливость. С другой стороны, любовные дела дипломата, его интерес к деланию карьеры вызывает столь же ироничное отношение Алданова, как и поведение людей из окружения опального Наполеона. Каждый из «верных до гроба» императору преследует личные мотивы: стать биографом великого человека, поймать луч отраженного света его славы или попросту унаследовать часть его богатства. Характерно, что алдановский Наполеон, подобно самому писателю, снисходительно относится к этому: таков род людской. Только в очень плохом настроении Бонапарт бросает генералу Гурго, в сотый раз повествующему, как он во время битвы спас императора от пики казака, что не видел в этот день рядом с собой ни казака, ни самого генерала.
В еще меньшей степени ирония Алданова относится к Наполеону.
Созданная Алдановым фигура ссыльного императора резко отличается и от трагического Наполеона, вошедшего в русскую и европейскую романтическую поэзию; и от эгоиста, лицемера и ничтожества, каким увидел и запечатлел Бонапарта Л. Толстой. Развенчанному герою не изменили ни его феноменальная память, ни колоссальная работоспособность. Более того, преумножился его человеческий и политический опыт. Но мир устал от его дел, а он утомился от того, что не было больше дела.
Наполеон появляется на страницах повести бросающим камешки в речку и смеющимся оттого, что рыбешки, вспугиваемые падением, разлетались в стороны. Это зрелище вызывает смертельный ужас у блестящего дипломата де Бальмена: способный с одинаковой обстоятельностью завязывать новомодным узлом галстук и примерять к своей судьбе роль заговорщика в некоем Союзе Благоденствия, Бальмен внезапно осознает: «Какой вздор!.. Какой жалкий вздор были эти мечты: карьера, заговор, Пестель, Нессельроде!.. Этот человек, кидающий камешки в воду, был владыкой мира… Все пусто, все ложь, все обман…».
В другом месте романа Алданов подчеркивает, что вчерашнего покорителя Европы искренне радуют беседы с маленькой девочкой — дочерью купца.
Относительность славы, тщетность суеты сует подчеркивает в конце романа анекдотичная и вместе с тем глубоко философская фигура садовника-малайца Тоби, никогда не слышавшего о Наполеоне. В час похорон Наполеона Тоби недоумевает, почему стреляют пушки, куда отправились все люди и сам «раджа» острова. И когда ему объясняют, что хоронят великого человека, покорившего весь мир, Тоби усмехается про себя «невежеству» окружающих: ведь владыка мира, малайский раджа Сири-ТриБувана, скончался много лет назад, еще до рождения отца его отца.
Так иронично подчеркивает писатель относительность понятий величия и славы.
Коллизия внезапной перемены участи, вознесения на вершины славы или крушения еще недавно могущественного человека, а то и государства, часто использовалась в исторической прозе. Лев Толстой видел в таких судьбах подтверждение своей концепции исторического фатализма — предопределенности событий, на которую не могут повлиять отдельные люди, считающие себя творцами истории: она складывается из множества мельчайших поступков и желаний «роевой» жизни народа. В конечном счете из божественного промысла. Дмитрий Мережковский считал исторический процесс земным воплощением вечной битвы божественного и дьявольского начал.
Таким образом, ирония Алданова направлена не столько на отдельных персонажей (несовершенства рода людского заслуживают лишь снисходительной улыбки), сколько на сам исторический процесс.
Умирающий Наполеон недоумевает: «Но если Господь Бог специально занимался моей жизнью… то что же Ему угодно было сказать? Непонятно…» Также загадочно (если не мистично) совпадение оборванной записи в его школьной тетради по географии «Святая Елена, маленький остров» со смертью именно на этом острове. «Что остановило мою руку? Да, что остановило мою руку?» — с внезапным ужасом спрашивает себя, приближенных или еще кого-то умирающий Наполеон.
Недавний любимец Фортуны, а теперь печальный и смертельно усталый человек, Наполеон приходит в конце жизни к выводу, что своими победами и славой он обязан только случаю. Именно поэтому он прекращает диктовать историю своих походов: «Сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и нежданных удачах».
«Его Величество Случай» — это и есть главное действующее лицо истории по Алданову. Эти слова он писал с заглавных букв и утверждал: нет поступательного движения вперед («Прогресс? Человечество идет назад, и мы в первых рядах», «Пулемет заменил пищаль, вот и весь прогресс с XVI века»); нет никаких предопределенностей — сама жизнь на земле — случайность, результат грандиозных и бессмысленных космических катаклизмов; ни Божественный промысел, ни естественные законы не определяют развития событий. При этом принцип причинности не отрицается, но вместо единой цепи причин и следствий Алданов видит в истории бесконечное множество таких цепей. И если в одной цени каждое звено действительно связано с предыдущим и последующим, то скрещение многих цепей, которое и лежит в основе события, зависит только от случая. Наиболее полно эти положения писатель сформулировал в итоговой книге «Ульмская ночь. Философия случая». Но они присутствуют и во всех его художественных произведениях.
«Основной стихией человеческого существования, — писал историк А. Кизеветтер, — Алданов считает то, что может быть названо иронией судьбы. Алданов на пространстве каждого своего романа несколько раз переходит от ничтожных происшествий к громким историческим событиям и обратно. Все эти переходы, при самом ярком различии жизненных красок, бьют в одну точку: и маленькие люди, участвующие в ничтожных происшествиях, и носители крупных исторических имен, разыгрывающие торжественные акты мировой истории, — оказываются на поверку в одинаковой мере жертвами этой самой иронии судьбы, которая одних людей заставляет копошиться в безвестности, в невидимых закоулках жизни, других возносит на высоты славы — зачем? Только затем, чтобы и тех и других привести в конце концов к одному знаменателю — на положение осенних листьев, которые крутятся, сталкиваются и исчезают, подхватываемые жизненным вихрем…».
На первый взгляд такое понимание истории пессимистично и даже антигуманно. Но лишь на первый взгляд. Казалось бы, телеологическая концепция (путь к Царству Божьему) или социологическая (к коммунизму) более продуктивны. Но не случайно во имя святой цели инквизиция отправляла на костер тысячи, а диктатура пролетариата в ГУЛАГ миллионы людей.
Но если цели исторического развития нет, то и циничное «цель оправдывает средства» не существует. Напротив, остается только один вопрос: о нравственности или безнравственности средств? Более того, там, где существуют разные вероятности, существует и возможность выбора между ними. А следовательно, повышается степень личной свободы и ответственности. Свобода для Алданова — непреходящая ценность, она превыше всего, ее нельзя принести в жертву ничему другому, «никакое народное волеизъявление ее отменить не вправе: есть вещи, которые народ у человека отнять не может» («Ульмская ночь»). Наконец, там, где существует возможность выбора, в центре оказывается тот, кто выбирает, в случайных обстоятельствах проявляются его личная мораль, его ответственность, его вина и его свобода.
Именно так следует понимать финал «Святой Елены…» Наполеон волей случая оказался на острове Святой Елены, стал изгнанником. Но далеко не случайным, а его сущностным проявлением стал тот факт, что в предсмертный час полководец, увидев во сне вражеское нашествие на родную Францию, почти в агонии стал диктовать план отражения этого воображаемого нашествия. Так проявились в нем лучшие человеческие черты, та великая любовь к Франции, что было в его характере и душе.
Философия случая не мешала проявлению писательского гуманизма, а наоборот, способствовала ему.
Уже в первом произведении Алданова обозначен и его постоянный принцип художественного воплощения исторической эпохи: энциклопедически образованный автор скрупулезно точен в воссоздании исторических деталей и подробностей (тот же А. Кизеветтер писал: «Здесь под каждой исторической картиной и каждым историческим силуэтом вы можете смело пометить: „С подлинным верно“)»[6]. Но в отличие от Д. Мережковского Алданов не превращает свои романы в перечни предметов, вещей, исторических реалий. Описание вещного мира у него не самоцель, а та стихия, которая, меняясь в зависимости от эпохи, тем не менее является необходимым сопровождением человеческого существования и сопутствует человеку во все века.
Есть в «Святой Елене…» и подходы к главной теме всего творчества Алданова — революции. Свидетель революционных катаклизмов XX века, писатель искал прообраз революции в разных столетиях. Его Наполеон говорит, что революция страшная, но большая сила, так как ненависть бедняка к богачу не знает предела. Но еще важнее другой вывод Бонапарта: «Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше других. Я и после Ватерлоо мог бы спасти свой престол, если б натравил бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем жакерии… Я наблюдал революцию вблизи, и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок — величайшее благо общества».
Стремление исследовать феномен революции, найти параллели русской и Великой французской революции вызвало на свет следующий роман Алданова «Девятое термидора». За ним последовали романы из русской истории конца XVIII — начала XIX века: «Чертов мост» (смерть Екатерины II, итальянский поход Суворова с его знаменитым переходом через Альпы), «Заговор» (история убийства Павла 1).
Помимо единства исторической концепции и общности исторической эпохи, эти книги объединены присущими Алданову композиционносюжетными решениями: основу сюжета составляют жизни вымышленных персонажей, волей случая вовлеченных в исторические события, к которым стягиваются все нити повествования; даются портретные очерки исторических лиц. Во всех романах тетралогии, кроме последнего («Святой Елены…»), основным героем выступает заурядный молодой человек из России по фамилии Штааль, оказывающийся то свидетелем падения Робеспьера («Девятое термидора»), то невольным участником убийства Павла («Заговор»). Критики по-разному оценивают образ этого персонажа. М. Слоним увидел в нем лишь рупор идей автора, схему. М. Осоргин, напротив, считал, что это художественная удача автора: «Штааль, олицетворение среднего, мизерного, мелкий бес повседневности, оказался именно тем фактором, который превращает пышную историю в суету сует. Штааль — кривое зеркало героического».
Тетралогия «Мыслитель» вплотную подводила читателя к временам, описанным в толстовской «Войне и мире». Алданов весь этот период опустил. Кроме эстетических причин (ему и в голову не могло прийти соревноваться с гением Л. Толстого), свою роль здесь сыграли и разности задач. Алданов не стремился дать эпический размах событий, его нс интересовало и изображение народных масс. У Л. Толстого писатель учился другому: взгляду на историю и человека сквозь призму философии и морали. Подобно своему кумиру, Алданов искал в прошлом созвучное современности и вечное.
«Искусство исторического романиста, — писал он, — сводится к „освещению внутренностей“ действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению, — к таком}' размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла их». В этом и историко-философском, и историко-психологическом подходе заключается главное сходство прозы М. Алданова и Л. Толстого и их главное отличие от исторических романов, где основным элементом является действие (как у А. Толстого), или от произведений, где история подчинена априорной религиозно-философской концепции (как у Д. Мережковского).
Повесть «Десятая симфония» (1931) стала следующим звеном в многотомном цикле произведений о событиях европейской и русской истории, в котором Алданов стремился постичь «волнующую связь времен». Время действия — эпизоды от финала наполеоновской эпохи, Венского конгресса 1815 г. до начала Третьей империи.
Центральные персонажи повести — два баловня судьбы: французский художник-миниатюрист Изабе, запечатлевавший в своих талантливых и изящных безделушках и королей, и вельмож, и революционеров Конвента, и русский вельможа-меценаг Андрей Кириллович Разумовский (1752—1836), широкая и тонко чувствующая прекрасное натура, человек, которому Бетховен (1770—1827) посвятил не одно свое творение. На периферии сюжета появляются австрийский император Франц (1768—1835), Талейран (1754—1838), императрица Евгения (жена Наполеона III; 1826— 1920) и красивый, молодой еще человек, французский сенатор, который ранее имел неприятную историю в России — кажется, убил кого-то на дуэли (читатель без труда узнает в нем Дантеса (1812—1895)).
Лишь трижды появится на страницах повести невысокий человек с мрачным рябым лицом, одетый бедно и небрежно — великий Бетховен. С искаженным от страдания лицом бежит он и с торжества по поводу Венского конгресса в императорском дворце, и из бродячего зверинца, где публике демонстрируют отвратительное зрелище кормления удава живым кроликом, и из театральной залы, где только что под овации публики прозвучала его Девятая симфония.
Сопоставление трагической судьбы гения и удачливой жизни модного художника подтверждает алдановскую концепцию случая, возносящего на гребень удачи не тех, кто этого действительно заслуживает. Но смысл повести не в этом.
Писатель стремится показать величайшие взлеты и падения человеческого духа, символом чего могут быть приведенные Алдановым слова Священного Писания: «И вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба». Девятая симфония великого композитора таит в себе великую скорбь. «Так вы говорите, что это радость? — недоумевает только что прослушавший Девятую симфонию Разумовский. — Не знаю. Ничего страшнее и мрачнее, чем первые две части этой симфонии, я отроду не слышал… Это — торжество зла, преступление, злодеяние, что хотите, только не радость». И в то же время сумрак и скорбь, триумф смерти завершается одой «К радости», и Разумовский чувствует, что композитор — «царь того искусства, которое умнее всех мудрецов и философов в мире… Бетховен — загадка».
Сквозь катастрофичность мира, катаклизмы истории Алданов, как и его Бетховен, прозревает возможность рождения новых творений. Гибель или кончину выдающегося человека писатель оценивает с позиций историка, понимающего, что все происходящее сегодня — окончание лишь одного акта исторического действия, действия, не прекращающегося, пока существует человеческий род. Человечество же существует, пока рождаются гении, в нищете, страдании и отчаянии создающие гармонию, воспевающие радость и даже на пороге смерти вынашивающие замыслы новых творений. В повести одинокий и глухой Бетховен одержим темой ненаписанной Десятой симфонии.
Небезынтересно заметить, что параллельно с книгой о высоте человеческого духа писатель создал очерк «Азеф» о провокаторе царской охранки, чья глубина падения столь потрясла Алданова, что он, по его собственному признанию, не смог и не захотел искать беллетризированных форм для рассказа об этом злодее.
Постоянный интерес к революции привел Алданова к созданию трилогии «Ключ» (1929), «Бегство» (1930—1931), «Пещера» (1932—1935) о событиях 1917 г. и жизни русской эмиграции.
Как и в тетралогии, каждый роман относительно самостоятелен, но через все проходят одни и те же персонажи. Однако в отличие от тетралогии, в трилогии Алданов отказался от изображения исторических лиц (если не считать фигуры Шаляпина). Остальные деятели тех лет лишь упоминаются в разговорах вымышленных героев. Объясняя это отступление от привычного для него построения романов, Алданов указывал, что ему не хотелось, чтобы читатель отвлекался от основных идей трилогии на проблему исторической достоверности. Вымышленные персонажи, являющиеся типичными фигурами предреволюционной и послереволюционной эпохи, в какой-то мере могли даже лучше объяснить трагедию истории.
С одной стороны, Алданов по-прежнему уверен, что история — цепь случайностей. Одному из наиболее умных и привлекательных героев трилогии химику Брауну Алданов вложил в уста фразу: «Россия погибла от того, что не нашлось пяти-шести решительных людей, готовых пожертвовать собой в атмосфере общего равнодушия… Разумеется, одной решительности было мало: надо было иметь еще и голову на плечах».
С другой стороны, в этой фразе кроется и противоположная мысль — об ответственности людей, увлекшихся суетой и забывших о высоких нравственных принципах.
Обе эти стороны историософской позиции Алданова воплотились в художественно наиболее совершенной части трилогии — романе «Ключ».
Внешним сюжетным ходом романа стало расследование убийства банкира Карла Фишера. Различные версии о мотивах преступления и личности преступника поддерживают читательский интерес. Но все улики оказываются сомнительными и ложными, все версии ошибочными. Беседы главного сыщика — начальника политической полиции империи Фсдосьсва — и подозреваемого — близкого к революционным кругам химика Брауна — все дальше уходят от расследования преступления, а противники обнаруживают все большую идейную общность и духовное родство. Многоплановая композиция вовсе не определяется требованиями детективной линии: рассказы о семьях следователя, адвоката, о жизни журналиста не вносят ничего существенного в развитие фабулы следствия. Детективная линия вообще не имеет завершения: убийца не найден. Более того, как это почти всегда бывает у Алданова, развитие действия приобретает парадоксально случайный финал: арестованного по подозрению в убийстве агента охранки нравственно нечистоплотного Загряцкого во время событий Февральской революции толпа освобождает из тюрьмы и как жертву царизма несет на руках.
Ироническому переосмыслению подвергаются все аспекты следствия: определение мотивов, свидетельские показания, экспертиза и дактилоскопия, действия следователя и адвоката. Тем самым, разрушая ядро детектива, автор подводит читателя к признанию правоты слов Брауна: «Мы не знаем полной правды ни об одном почти историческом событии, хотя свидетелями и участниками каждого были сотни заслуживающих доверия людей, ведь выводы разных историков часто исключают совершенно друг друга. Но вот в уголовном суде вы убеждены, что постоянно все узнаете до конца». Еще более определенно эту важную для Алданова мысль Браун сформулирует в «Пещере"-. «История мира есть история зла и преступлений, — из них одна десятая остается нераскрытыми и восемь десятых — без н аказан н ы м и «.
В ироническом переосмыслении жанровых канонов детектива таится трагическое мироощущение рубежа XIX—XX вв.еков, связанное с разочарованием в рационализме, в существовании причинно-следственных связей, пронизывающих весь мир. Попытки обнаружить историческую правду, логику развития человеческого общества, по Алданову, так же малопродуктивны, как уголовное расследование. Своего рода символом может служить начальная сцена романа, когда крестьянка-швейцариха ощупью в потемках, вытянув вперед руку с ключом, входит в квартиру Фишера.
И представитель высшей охранительной власти, и человек, подозреваемый в убийстве банкира, для того чтобы его состояние, унаследованное дочерью социал-демократкой, пошло на революционные нужды, сходятся в определении критического состояния дел в России. «Расползается государство», — говорит Федосьев. «Возможно… — отвечает Браун. — Во всяком случае спорить не буду. Но отчего гибнем, не знаю… никакого рационального объяснения не вижу». Ощущение катастрофичности, объединяющее обоих собеседников, усиливается приметами общественного быта (спектакль, юбилей Кременецкого и т. п.).
Федосьев, в равной степени скептически относящийся и к столпам власти, и к ее разрушителям-революционерам, убежден в том, что разрушение государства и то, что будет создано на его обломках, принесет еще большее зло, чем нынешнее. Но спасти уже ничего нельзя. Браун в «Ключе» еще проверяет возможности активным действием предотвратить катастрофу. Но после посещения Государственной Думы убеждается, что и отсюда спасение «не придет. Поздно. Овладела всеми нами слепая сила ненависти, и ничто больше не может предотвратить прорыв черного мира…» Именно поэтому оба философа остаются наблюдателями. А в последней части трилогии («Пещере») Федосьев уходит в католические монахи, а Браун кончает жизнь самоубийством, произнеся незадолго перед этим: «Единственный способ не быть обманутым: не ждать ровно ничего, — а всего лучше уйти, как только будут признаки, что пора, — уйти без всякой причины, просто потому, что гадко, скучно и надоело».
Слово «ключ», вынесенное в заголовок романа, перерастает из простой улики преступления в философское понятие мира, развиваемое главными героями-идеологами романа Федосьевым и Брауном. Согласно терминологии Брауна, разделяемой и его собеседником, мир делится на видимый, наигранный, обусловленный доводами разума и правилами морали (мир А), и мир тайный, иррациональный, более подлинный и устойчивый (мир В), но чаще всего злой. Перенесенное на весь род людской учение о двух мирах приводит к тому, что злой мир, прорываясь наружу, несет войны и революции. Вот почему хорошо бы, по мнению собеседников, запереть дверь между двумя мирами, а ключ выбросить. Другое дело, что практически это невозможно.
Впрочем (и в этом многоплановость философской позиции Алданова), роман может предложить и иное решение. По крайней мере, но отношению к частным лицам: органическое соединение двух миров, естественная жизнь вместо выдуманной, культивирование благородного человеческого естества.
Так писатель выходит на свою постоянную тему смысла жизни интеллигенции. В романе иронически показано стремление адвоката Кременецкого стать «заметным» общественным деятелем, журналиста Певзнера (Дон Педро) — занять газетный Олимп, Горенского — произносить высокие и пустые фразы. Их мир, А — мир вымышленный, неестественный, как неестественны представления молодого англичанина Клервилля, «налагающего» романные образы Достоевского на своих русских знакомых. Однако не все в этих людях плохо. Там, где они искренни (а это прежде всего семья), два мира сходятся, и автор с симпатией и сочувствием рассказывает о своих персонажах. Не менее доброжелателен Алданов и говоря о молодежи: Мусе Кременецкой, Вите Яценко и даже Клервилле. Они еще не успели разочароваться в жизни, еще могут наслаждаться простыми человеческими чувствами красоты, любви, музыки. Другое дело, что и в их жизни намечается резкое расхождение с бытием народа (превосходна предфинальная сцена, когда гуляющие молодые люди наталкиваются на хлебную очередь).
В последующих двух романах трилогии писатель столкнет героев с реальностью, заставит многих из них, пережив революционные катаклизмы, отказаться от эгоистической основы своей жизни и войти в контрреволюционный заговор, а после его провала бежать из России. Таким финалом романа «Бегство» и описанием потопления чекистами баржи с заключенными Алданов вступал в спор с «Восемнадцатым годом» А. Толстого. Полемика с толстовским «Хождением по мукам» и его же романом «Эмигранты» содержится и в заключительной части алдановской трилогии. Оказавшиеся в эмиграции основные персонажи «Ключа» и «Бегства» написаны с глубокой симпатией. К большинству из них применимы слова Брауна: они своей повседневной жизнью «спасают остатки русской духовной культуры». Их задача скромна, но почетна: «Быть таким же народом, как французский или английский, таким же, каким был (выделено М. Алдановым) русский, — и только».
Если события трилогии «Ключ» — «Бегство» — «Пещера» отделяли от времени ее создания десять лет, то в «Начале конца» (1936—1940) временного зазора практически нет. Именно в эти годы в СССР окончательно установился советский тоталитаризм. В Берлине маршировали гитлеровские солдаты, в Италии пришел к власти дуче. В Мюнхене Англия и Франция предали Чехословакию. В Париже, где жил Алданов, сквозь полусонное благополучие явственно проступали приметы грядущей катастрофы Второй мировой войны. Исторический романист уступил место современному исследователю.
Алданов задолго до Оруэлла (1903—1950) и Кестлера (1905—1983) обнаружил связь между тоталитарной идеологией и распадом морали. Он первым не только задал вопросы: «Что же мы сделали? Для чего опоганили жизнь и себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей? Для чего научили весь мир невиданному по беззастенчивости злу?», но и первыми словами одного из героев романа — профессионального революционера, члена Коминтерна Вислицснуса — объяснил истоки зла. Революция выпустила из бутылки джина классовой ненависти, признала нравственность ненависти. Классовая ненависть объявлялась необходимым условием для победы справедливого общественного строя и всеобщего счастья. Всеобщее будущее счастье строилось на сегодняшнем несчастье большой группы людей. Высокая цель и жестокая практика приходили в полное противоречие. Теория строилась на вере в человека в возможность его совершенствования, практика исходила из того, что человек глуп и подл и нуждается в палке. То, что палка делает его еще хуже, во внимание не принималось. По мнению Алданова, теорию эту выработал честнейший фанатик Ленин, превратил в злодеяние его злобный и небескорыстный ученик Сталин.
Героями романа выступают три трагических персонажа: уже называвшийся международный революционер Вислиценус, разочаровавшийся в идеалах революции, но продолжающий служить коммунистическому режиму; бывший меньшевик, а ныне советский посол, увлеченный блеском ритуалов дипломатической жизни и постоянно терзаемый страхом, что ему припомнят увлечение юности; и командарм, в прошлом царский генерал, сначала пошедший в Красную Армию, чтобы перейти к своим, а затем решивший, что служить России можно при любом строе. Все они переживают собственное «начало конца»; формально многого достигнув, чувствуют себя обманутыми. Мечты юности не сбылись, а то, что свершилось, приняло столь страшный облик, что лучше бы уж оно оставалось в чистых мечтах. Еще один персонаж романа — переживший свою славу старый французский писатель, сочувствующий коммунистическим идеям.
Трагический итог революционного эксперимента сформулирован в романе так: «Опыт произведен. Оказалось, что человеческая душа не выдерживает того предельного гнета, которому мы ее подвергли, — под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь». Фашистская Германия парадоксально воспринимается и оценивается писателем как ученица большевистского Союза: из опыта русской революции она восприняла догмат общественной ненависти, сместив только акцент с классового на национальное.
Военное и послевоенное творчество Алданова включает в себя 16 романов и повестей, завершающих серию событий русской истории в контексте мировой на протяжении двух столетий.
Наибольший художественный интерес представляют романы «Истоки» (1943—1945) и «Самоубийство» (1956).
События «Истоков» охватывают 1874—1881 гг., последние семь лет царствования императора Александра II. Выбор в качестве главного действующего лица, мятущегося в поисках своего места в жизни художника Николая Сергеевича Мамонтова, позволил писателю показать самые разные слои русского общества: профессорскую среду (Мамонтов дружит с либералом Черняковым, встречается с естествоиспытателем профессором Муравьевым и его революционно настроенными дочерьми), салон консерватора фон Дюммлера, посещаемый и самим императором, и министромлибералом Лорис-Меликовым, и революционную молодежь, объединенную в террористическую партию «Народная воля». Увлечение Мамонтова журналистикой открывает возможность свободно перемещать действие романа из России в Европу, где Мамонтов то встречается с анархистом Бакуниным, то присутствует в качестве журналиста на Берлинском конгрессе 1878 г. В круг действующих персонажей, связанных с главным героем или его друзьями и знакомыми, входят Бисмарк, Гладстон, Маркс и Энгельс, русские революционеры А. Михайлов, А. Желябов, С. Перовская. Почти в самом конце романа появляется семейство Ульяновых.
Всех их объединяет сквозной образ-метафора цирка и тройного сальтомортале — смертельного циркового трюка, при совершении которого погиб клоун-акробат Карло. «Много хорошего в мире сделано ими [упертыми в своем фатализме и авантюризме людьми. — Авт., — размышляет Мамонтов, — и без них сделано быть не могло. Но зато почти все плохое идет именно от них. У человечества, собственно, два несчастья: то, что люди тройного сальто-мортале существуют, и то, что они талантливее других людей… Все, что они делают, это тот же цирк… только с окровавленными людьми вместо окровавленных чучел…».
Алданов не делает ни реакционеров, ни революционеров записными злодеями. Напротив, в их поведении, в силе их натур есть нечто привлекательное, очаровывающее, даже героическое. Тем страшнее, что их энергия направлена на «моральное оправдание идеи террора», или, точнее говоря, на отказ от морали, на разрушение и смерть. Ни правящие круги, ни революционеров не волнует кровь других людей. Характерна реакция Михайлова на арест товарища по партии: «Ему жаль было Гольденберга, но еще больше он досадовал, что пропал столь нужный партии динамит». Решившись на убийство императора, к которому они не питали личной неприязни (т.е. во имя абстрактной идеи), террористы не задумываются, что во время взрыва во дворце погибли 11 и ранено 56 тех самых простых людей (солдат, слуг), для счастья которых и должна совершаться революция. Особенно страшна предфинальная сцена убийства Александра. Убит 14-летний подросток, случайно оказавшийся рядом с царской каретой, гибнут казаки из охраны, и сидят друг против друга два умирающих искалеченных взрывом человека: царь и революционер-убийца.
Тема нравственного самоубийства людей, рискнувших взять на себя груз революции, решается на образах сестер Лизы и Маши Муравьевых. Трагизмом полны описания «мальчиков"-бомбометателей, из ложных принципов или желания не показаться трусами, губящих свои и чужие жизни.
Устами одного из своих любимых персонажей — ученого Павла Муравьева — Алданов утверждает, что нужно «вести культурную работу, культурную борьбу за осуществление своих идей». А «призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление. Эти „локомотивы истории“ обычно везут назад, и только в первое время кажется, будто они везут вперед». Эпоха Александра II, в день своей гибели подписавшего фактически указ о Конституции, отмененный его преемником, настаивает писатель, была «последней возможностью мирного более или менее безболезненного развития». Оно могло быть «сказочным благодаря размерам, мощи, богатству (России. — Авт.), в особенности же благодаря одаренности русского народа». Но возможность эта была упущена. И нс, но «чьей-то злой воле, а просто из-за чудовищного легкомыслия обеих сторон: бесящихся с жиру тупых сановников и кучки молодых людей, желающих блага России и столь же невежественных, как сановники». «Волею судеб это даже не русская трагедия, а мировая», — настаивает верный своей идее европейской судьбы России Алданов. Духовный заряд России мог бы спасти Европу и весь мир от превращения «в сытый зверинец». Но не спас. Вместо этого Россия превратилась в полигон для испытания революционных доктрин.
В финале романа Николай Сергеевич Мамонтов, женившись на простой циркачке Кате и переехав в деревню, наслаждается тем самым счастьем, каким были охвачены любимые Алдановым герои «Войны и мира». «Я не понимаю поэзии революции, но поэзию русской интеллигенции всегда чувствовал», — утверждает герой. Именно поэтому в романе большое место уделено теме радостного искусства, творчества, музыки. Не только Достоевский, художник Милле (1814—1875), композиторы Лист (1811 — 1886), Вагнер (1813—1883), Рубинштейн (1829—1894), поэт Майстер, но и обыкновенные цирковые артисты, комедианты несут высшую нравственную правду, ведут истинно человеческую жизнь.
Тема революции как трагедии России получает дальнейшее развитие в романе «Самоубийство», менее многосюжетном, чем «Истоки». Алданов во многом возвратился здесь к романным принципам своей первой трилогии. Судьба вымышленных персонажей мужа и жены Ласточкиных (до поры до времени обладающих всеми земными счастьями: здоровьем, богатством, семейной любовью и дружбой всех окружающих) тесно переплетается с рассказом о жизни Ленина. В эти две параллельные сюжетные линии входят очерки-портреты других исторических лиц (Плеханова, Крупской, Витте, канцлера Вильгельма, императора Франца-Иосифа, Саввы Морозова), а также вымышленного, но очень значимого для романа кавказца Джамбула[7]. На периферии повествования появляются Сталин, Муссолини и Эйнштейн.
Алдановский Ленин обладает незаурядными личными качествами, огромной волей и целеустремленностью. «Снарядом бешенства и энергии» называет Ленина один персонаж, «тигром» — другой. Именно фанатизм Ленина (преданность идее любой ценой изменить мир) — увы! — способный воодушевлять на дело других людей и (пусть временно) изменять ход истории делает вождя революции неприемлемой М. Алданову фигурой. Преобладающая черта Ленина — рассудочность и холодный расчет, расчет скорее шахматиста, чем стяжателя или тирана. В отличие от Горького (очерк «В. И. Ленин») Алданов утверждает, что Ленин не любил по-настоящему людей. Они существовали для него как функции (пешки) для исполнения его революционных планов. Даже любовь к женщине, искусству, музыке — это пауза, досадное отвлечение от главного.
Ленин-нолитик, пишет Алданов, «просто не понимал, какая-такая „добродетель“ и зачем она, если и существует?». В другом месте романист пишет: «Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и „нравственно“ было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред». Он со смехом и полным непониманием воспринимает слова о непорядочности Кобы. Главное, что тот достал для партии деньги, а человеческие жертвы, принесенные во время акта экспроприации, — для Ленина мелочь.
Как и в предыдущих своих вещах, Алданов утверждает, что сама идея насильственного перехода к справедливому обществу несет в себе зародыш будущей трагедии. Обоснованное еще в «Ключе» существование двух миров и возможность неожиданного прорыва ирреальных стихийных злых сил в повседневность оставляет идеям усовершенствования и переустройства общества роль игрушек. Даже столь сильная и по-своему честная личность, какой рисует Алданов Ленина, несмотря на свою веру в закономерность истории, оказывается лишь проявлением случайности. Его высокие идеи оборачиваются кровью и насилием, вера в демократию — издевательством над ней. Оправдываются сказанные еще в «Пещере» слова: «Палачей всегда приводили за собой пророки». Все революции страшны и неудачны: путь насилия только ухудшает положение; легче чинить государственное здание, чем воздвигать новое на обломках взорванного.
«История беспощадна, — комментировал роман Алданова Г. Адамович, — а тот, кто в ее оправдание ссылается на рубку леса, при которой неизбежно „летят щепки“, не достоин имени человека, во всяком случае не вполне достоин его. Ленин со своим фанатизмом и несомненным личным бескорыстием, со своим умом и волевым исступлением, с подменой живого представления о существовании статистическими схемами его, Ленин не вполне достоин имени человека, менее достоин его, нежели, скажем, Татьяна Михайловна Ласточкина, скромная, тусклая, пожалуй, не очень умная, но сердцем догадывающаяся о том, что для Ленина закрыто»[8].
В финале романа кончают жизнь самоубийством Ласточкины. Но, как проницательно замечал все тот же Адамович, «Ласточкины гибнут, но по своему они над историей торжествуют. Почему? Потому, что любовь, их одушевляющая, сильнее всего, что на пути ее встречается, и, в конце концов, потому, что любовь побеждает смерть. Да, иначе не скажешь: любовь побеждает смерть». Алданов следует за гуманистической традицией мировой литературы и «сквозь предсмертный рассеянный лет двух московских самоубийц выражает свое согласие с самыми дорогими сокровенными человеческими надеждами»[9].
Иначе умирает Ленин. «Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни был в истории». И хотя он по-прежнему ни о чем не жалеет, в нем впервые появляются сомнения. «Самоувереннейший из людей», он впервые задумывается, что «мы хоть что-нибудь знаем» и можем сдвинуть в истории.
«Половина человечества „оплакала“ его смерть, — завершает Алданов роман. — Надо было бы оплакивать рождение».
Не упрямый безжизненный схематизм, а радость жизни — высшее назначение человека в концепции скептика и вольтерьянца Алданова.
К такому выводу писатель шел на протяжении всей своей жизни. В мире, являющемся ареной для игры случая, подверженном порывам стихийных сил из ирреального мира, для него всегда существовало Вечное. Уже в «Заговоре» один из героев утверждал, что как это ни удивительно, но все зло, происходившее за тысячелетия, не истребило культуры и, может быть, культура и не нуждается в защите, если пережила века крови и зла. Ирреальный мир, настаивали, как уже говорилось, собеседники-философы в «Ключе», — источник не только зла, но и величайших сокровищ человеческого духа — искусства и любви. Браун перед самоубийством говорит, что «самое волнующее из всего была политика, самое разумное — наука, а самое лучшее, конечно, — иррациональное: музыка и любовь».
Сопоставлению разных сторон иррационального и утверждению того, что поднимает человеческий дух на небывалую высоту, посвящена и одна из лучших, по мнению столь взыскательных критиков, как Б. Зайцев и Г. Газданов, философских повестей Алданова «Бельведерский торс». Впрочем, сам писатель относит ее к философским сказкам, подобным вольтеровским и отличающимся, как и у его французского предшественника, «отрывочностью, сухостью психологического рисунка и подчинением всего философской идее».
Таинственный голос посылает Бенедетто Аккольти убить римского папу, претерпеть муки и затем стать властелином грядущего счастливого мира.
Этому злому навязчивому желанию возвыситься над миром, стать человекобогом Алданов противопоставляет обычные человеческие радости. Необъяснимое чувство любви к римской потаскушке и полуколдунье овладевает душой утонченного и образованного ценителя прекрасного, художника и биографа великих художников Вазари, разрушает его благополучное существование, но и доставляет ему минуты счастья. Эти же таинственные силы вдохновляют великого Микеланджело, помогают ему то преодолевать превратности судьбы, то мучиться от сознания своей беспомощности. Ощупывая изваянный древним греком бельведерский торс, полуслепой и дряхлый мастер приходит к осознанию великих тайн, что таит в себе мир. «Простота, спокойствие и мудрость» бельведерского торса — вечный факел красоты и человечности, переходящий от предков к потомкам.
Не поддающаяся определениям, но вечно живая культура — единственная надежда Алданова. Высшая миссия человека — быть ее хранителем в мире зла.
Главная цель книг писателя — утверждение вечности культуры, несмотря на лишенный смысла и цели исторический процесс. Мысль о бессмертии нравственности и искусства, несмотря на господство случая и иррациональность бытия, пронизывает всю многотомную серию романов и повестей Алданова.
Литература
(аннотированный список)
1. Алданов, М. Собрание сочинений: в 6 т. / М. Алданов; сост. и общ. ред. А. А. Чернышева. — М.: Правда, 1991.
Первое изданное на родине Собрание сочинений писателя включает в себя тетралогию «Мыслитель» (т. 1—2), трилогию о революции (т. 3—4), романы «Истоки» (т. 4—5) и «Самоубийство» (т. 6), а также «философские сказки» «Бельведерский торс», «Пуншевая водка» и «Астролог» (т. 2) и несколько очерков (т. 6).
Издание предваряется глубокой статьей А. А. Чернышева «Гуманист, не веривший в прогресс», содержащей ряд ссылок на зарубежные источники. Творческая история опубликованных вещей и обзоры отзывов критики даются в комментариях.
2. Алданов, М. Собрание сочинений: в 6 т. / М. Алданов; сост. и ред. А. А. Чернышева. — М.: Новости, 1994—1995.
Второй шеститомник не дублирует первый. В т. 1 вошли очерки «Азеф», «Сталин», «Пилсудский», «Клемансо», «Черчилль», «Ганди» и др.; в т. 2 — очерки; в т. 3 — рассказы «Фельдмаршал», «Грета и танк», «Рубин» и др. Том б включает в себя «Ульмскую ночь».[10]
стариков, ритму). Критик утверждает, что М. Алданов ближе к нелюбимому им Ф. Достоевскому, нежели к любимому Л. Толстому. Дана высокая оценка романа «Истоки».
4. Карпович, М. М. Алданов в истории / М. М. Карпович // Новый журнал. — 1956. — № 47.
Автор пересматривает свое давнее и А. Кизеветтера утверждение, что Атданова «больше интересуют люди, чем события», и утверждает, что исторические события занимают в романистике писателя не меньшее место, чем отдельные частные лица. Большая часть статьи посвящена многомерному осмыслению книги «Ульмские ночи», в которой, по мнению М. Карповича, соединены апология случая и одновременно борьба с ним. «Это уже само по себе исключает возможность полного и непреодолимого господства случая… Там, где есть игра случайностей, легко можно использовать одну случайность против другой… В той мере, в какой человек способен на это, он перестает быть игрушкой в руках случая, перестает быть простой жертвой истории… он становится деятелем». Примером «властного вмешательства в ход исторических событий» в произведениях Ачданова являются его любимцы Клемансо и Черчилль, считает М. Карпович.
5. Ульянову Н. И. Памяти М. А. Алданова / Н. И. Ульянов // Русская литература. — 1991. — № 2.
Видный историк второй волны русской эмиграции, профессор Йельского университета (штат Коннектикут) II. И. Ульянов оспаривает устоявшуюся точку, зрения о М. Алданове — русском А. Франсе. По мнению критика, не ирония и субъективизм, а «любовь философа, чуждая страстных порывов, ровная, зато постоянная и глубокая», отличает книги писателя. Представляет интерес краткое, но выразительное сопоставление России Алданова с Россией А. Блока, Д. Мережковского, Ф. Достоевского и их эпигонов.
6. Петровау Т. Г. Человек и история в произведениях М. Алданова: реферативный обзор / Т. Г. Петрова // Общественные науки в России. Сер. 7. Литературоведение: реферативный журнал. — 1992. — № 5/6.
Обзор восьми работ о писателе (Г. Адамовича, И. Дедкова, Г. Струве, II. Ульянова и четырех статей А. Чернышева).[11]
- [1] Седых А. Далекие, близкие. 3-е изд. Н-Й., 1949. С. 35.
- [2] Зайцев Б. Мои современники. С. 128.
- [3] Адамович Г. Мои встречи с Алдановым // Дальние берега: портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994. С. 100.
- [4] Адамович Г. Мои встречи с Алдановым. С. 97.
- [5] Карпович М. М. Алданов в истории // Новый журнал. 1956. № 47.
- [6] Современные записки. 1926. № 28. С. 476.
- [7] См.: Лгеносов В. В. Загадка Марка Алданова: образ Джамбула в романе «Самоубийство» // Лгеносов В. Избранные труды и воспоминания. М.: АИРО-ХХ1, 2012.
- [8] Алданов М. Самоубийство. Нью-Йорк: Изд-во Литературного фонда, 1958. С. 6—7.
- [9] Там же.
- [10] Адамович, Г. Одиночество и свобода: литературно-критические статьи / Г. Адамович. — СПб.: Logos, 1993. Статья «Алданов» посвящена анализу художественного мира романов писателя (композиции, скульптурности образов, выражению авторской позиции через героев-
- [11] Макрушииау И. В. Романы М. Алданова: философия истории и поэтика / PI. В. Макрушина. — Уфа, 2004. Переработанная кандидатская диссертация включает большой обзор литературоведческих работ, посвященных творчеству М. Алданова, и наблюдения самогоисследователя о связи исторической и историософской прозы писателя с традициями европейского романа (Вольтер, Гете, Бальзак, Стендаль, Франс), с творчествомЛ. Толстого. Исследованы апокалипсические и эсхатологические мотивы, типы героев.