Т. С. Элиот
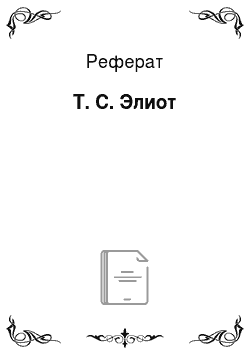
Х гг. Первоначально оно носило название «Пруфрок среди женщин». Имя «героя» напоминает подпись молодого Элиота (Т. Стернз Элиот). Эпиграф стихотворения взят из XVII песни дантевского «Ада»: «лукавый советчик» Гвидо де Монтефельтро при встрече с Данте не сомневается, что перед ним тень. Поэтому он соглашается поведать ей из тьмы свою историю, не опасаясь, что эта исповедь в виде дрожащего языка… Читать ещё >
Т. С. Элиот (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Место Элиота в литературе XX в. Религиозность поэта как творческая и общественная позиция. — Биография. — Эссеистика Элиота («Гамлет и его проблемы», «Традиция и индивидуальный талант» и др.): понимание классики, концепция объективного коррелята. — Стихотворение «Песнь любви Дж. Алфреда Пруфрока»: обработка драматического монолога, образ современного Гамлета. — Стихотворение «Геронтион»: метафора засухи, кошмара истории. — Поэма «Бесплодная земля»: принципы образности и поэтики, миф и ритуал (поиски Грааля), тема профанации святыни, функция повествователя (Тиресий), трактовка религиозности. — Цикл «Четыре квартета»: подражание Данте, принципы музыкальности, парадокс «В моем конце мое начало».
Изучив данную главу, студент будет:
знать
- • характер восприятия творчества Т. С. Элиота в культуре XX в.;
- • этапы творческой биографии Т. С. Элиота, ее периодизацию;
- • круг чтения Т. С. Элиота, его творческие контакты с Э. Паундом;
- • центральные категории эссеистики Т. С. Элиота;
- • своеобразие поэзии Т. С. Элиота 1910;х гг.;
- • направление творческой эволюции Т. С. Элиота от 1920;х к 1940;м гг.
- • проблематику драмы «Убийство в соборе»;
- • принципы организации лирического материала в поэме «Бесплодная земля»;
- • главные мотивы цикла «Четыре квартета»;
уметь
- • трактовать религиозность Т. С. Элиота как категорию его творчества;
- • находить взаимосвязь между эссеистикой Т. С. Элиота и его поэзией;
- • раскрывать содержание творческих параллелей между творчеством Т. С. Элиота и Дж. Джойса, Э. Паунда;
- • анализировать построение лирических композиций у Т. С. Элиота;
- • давать трактовку образа Т. Бекета в драме «Убийство в соборе»;
- • предлагать анализ разных уровней содержания и проблематики поэмы «Бесплодная земля»;
владеть
- • представлением о поэтическом развитии Т. С. Элиота;
- • навыками интерпретации лирического героя в его стихотворениях 1910;х гг.;
- • содержанием категорий «объективный коррелят», «импсрсональность» применительно к лирике Т. С. Элиота;
- • трактовкой кризиса культуры в лирике 1910;х гг.;
- • пониманием главного конфликта драмы «Убийство в соборе», назначения фигур четырех рыцарей в нем;
- • инструментарием образного, мотивиого, композиционного анализа поэмы «Бесплодная земля», назначения фигуры Тиресия в ней.
Наряду с П. Клоделем и П. Валери, Р. М. Рильке и Г. Бейном, Э. Паундом и Р. Фростом, А. Блоком и Б. Пастернаком, У. X. Оденом и П. Целаном, О. Пасом и Ч. Милошем, Томас Стернз Элиот (Thomas Stearns Eliot, 1888—1965) принадлежит к числу крупнейших поэтических фигур XX в. В Элиоте соединено до известной степени несоединимое. Американец, чьи предки поселились в Массачусетсе еще в XVII в., он с 1914 г. становится экспатриантом, а в 1927 г. принимает британское подданство. Автор «Бесплодной земли» (1922), образца предельно усложненной поэзии о «закате Европы», Элиот писал и общедоступные шуточные стихи о кошках, рецензировал детективы Ж. Сименона, Р. Чандлера. Среди его друзей-писагелей столь разные личности, как, к примеру, Э. Паунд и В. Вулф. Наконец, ощущение хаоса современности совмещалось у Элиота с тягой к порядку, что позволило ему не только обрести веру и к середине XX в. сделаться олицетворением консерватизма, публичным носителем христианской культуры, но и быть в свете этой традиции «рассуждающим поэтом», вести от лица Поэзии некий драматический диалог с миром и с самим собой. Во многом благодаря этому диалогу возник феномен западного формализма XX в., представленного в США и Англии «новой критикой» (к ней принадлежали как поэты А. Тейт, Р. П. Уоррен, писавшие блестящую критическую прозу, так и выдающиеся литературоведы наподобие Клинта Брукса).
Такая позиция вызывала и вызывает неоднозначное отношение. Слева Элиот (вслед за Р. Киплингом испытавший на себе, что означает ярлык «бард английского империализма») жестко критиковался за «элитарность», «неискоренимое позерство», «культуртрегерство», «холодность вымученных стихов»; в наши дни к этому добавилось обвинение в недостаточной политической корректности в расовых и религиозных вопросах. Справа этот Нобелевский лауреат (1948), разумеется, приветствовался, но без особого понимания того, что собой представляет его поэзия, местами весьма темная и непонятная. Отнюдь не делая поэта «святее папы Римского», хотелось бы заметить, что Элиот при всех спорных свойствах своего творчества обладал, как оказалось, редким среди современников даром. Он верил в бытие слова, в реальность, или классичность, поэзии (это роднит его с символистами), что помогало ему в эпоху полного релятивизма упорно говорить о существовании поэтического вкуса, той системы эстетических и мировоззренческих координат, которая во времена почти что полной литературной вседозволенности напоминает о границе между «стихами хорошо написанными» и «дурно написанными». Соответственно, слова «романтизм», «декаданс», «поэтическая погрешность», «чувственность» в эссеистике Элиота наделены достаточно конкретным литературным смыслом.
Творчество Элиота свидетельствует и о другом обстоятельстве. В перспективе всего XX в. он принадлежит к тем не столь уж, как считалось у нас в стране, малочисленным писателям 1920—1930;х гг., которые оппозицию «правое"/"левое» («фашизм"/"коммунизм») вывели из той горизонтальной плоскости, где она в известных обстоятельствах — речь идет о межвоенных гражданских войнах, а также о прагматической политике западных демократий в отношениях как с Гитлером, так и со Сталиным — была довольно относительна, и обозначили заново: не «вправо» (путь Э. Паунда, У. Льюиса, П. Дриё Ла Рошеля, Селина, Э. Бертрама, Э. Юнгера) и не «влево» (Р. Роллан, Л. Арагон, Г. Манн, Г. Лукач, Б. Брехт), а «вверх». Это «вверх» авторы экзистенциалистской ориентации сделали актом сугубо личной, от противного выраженной веры, имевшей в 1930—1950;с гг. несомненное обаяние. Однако для ряда писателей и мыслителей — Элиота, Г. Грина, И. Во, Ж. Маритена, Ф. Мориака, Ж. Бернаноса, Ж. Грина, С. Вейль, позднего А. Дёблина — вера в ничто при всей ее искренности и собственном разочаровании в «богах» буржуазной цивилизации предстала такой же квазирелигией, как и нормативные ценности тоталитарных режимов. Иными словами, «верх» был для них и утверждением личной свободы, и необходимостью соотнести свой талант с традицией, культурным синтезом христианской Европы.
Наконец, Элиот, переехав из США в Великобританию, не только обратил внимание на разрыв между деловой этикой Нового Света и его духовными горизонтами, но и стал одним из первых экспатриантов, первых «потерянных» в литературе XX в. Да, он не сменил языковую среду (как ранее Дж. Конрад), не бежал от преследования за политические убеждения и веру (писатели первого поколения русской эмиграции). Однако этот выбор, позволяющий вспомнить о личностном и художественном опыте Г. Джеймса, был для него весьма непростым, хотя вместе с тем и очевидным. Без соприкосновения с европеизмом, «средиземноморством» он ощущал себя неполноценным.
Ассоциирующееся с личностью Элиота обращение писателя-модсрниста к христианству стало известно не само по себе, а благодаря поэтическим достижениям этого художника. Строки из «Пруфрока», «Геронтиона», «Бесплодной земли», «Четырех квартетов» на слуху у ценителей поэзии XX в. Репутация Элиота как выдающегося поэта устойчива, о нем пишут все новые биографии и специальные работы. Оказался Элиот близким и русским поэтам, которые не только переводили (Н. Берберова) и увлеченно читали его (Б. Пастернак), но, думается, и вдохновлялись им («Поэма без героя» А. Ахматовой, ряд произведений И. Бродского).
Элиот родился в Сент-Луисе (штат Миссури), куда его дед, выпускник Гарварда и священник унитарианской церкви, переехал из Бостона в 1834 г. (генеалогия же Элиотов восходила к Эндрю Элиоту из деревушки Ист-Коукер, графство Сомерсет, в конце XVII в. отправившемуся из Англии в Новый Свет и поселившемуся в Сейлеме). Выросший в состоятельной и аристократической (по американским представлениям) семье, Томас Элиот по окончании школы в Сент-Луисе и Милтон-экедеми (близ Бостона) сделался студентом Гарварда (1906). Он уже был хорошо начитан в поэзии (античные авторы, Милтон, Браунинг, Киплинг, Омар Хайям в переводе Э. Фитцджералда), но только будучи второкурсником открыл для себя Бодлера, а вслед за ним благодаря книге А. Саймонза («Символистское движение в литературе», 1899) и французский символизм. Его кумиром благодаря «протекции» Саймонза стал Жюль Лафорг (1860—1887), родившийся в Монтевидео, но ставший поэтом в Париже. Этот сноб, эксцентрик, педант был автором стихов со свободной, в духе У. Уитмена, просодией, где о серьезном — зле, тягостях жизни, сплине — говорилось с иронической дистанции. Ее устанавливали разные, в том числе комические, маски лирического «я». Увлечению Лафоргом (оно заметно в ранних элиотовских стихах — «Ноктюрне», «Юмореске», «Галантном разговоре», «Клоунекой сюите») способствовало посещение лекций профессора Ирвинга Бэббита, знатока французской классицистической словесности, убежденного противника Руссо и руссоизма. В семинаре Бэббита «Литературная критика во Франции» Элиот открыл для себя тех поздних французских символистов, кто, подобно поэту и критику Реми де Гурмону («Проблемы стиля», «Диссоциация идей»), боролся с «избытком» эмоциональности в поэзии, противопоставив ей стих пластически ясный и ритмически твердый. Существенно, что Бэббит, указывая своим студентам на опасность «эмоциональной анархии» в поэзии, заинтересовал Элиота «имперсональностью» стиха, а также теми религиями, где, по его мнению, имперсональность положена в основу веры. Отсюда — элиотовские занятия буддизмом и санскритом, отразившиеся позднее на образности «Бесплодной земли».
Став бакалавром за три года вместо четырех (1909), а затем и магистром (1910, специализация по елизаветинской поэзии и драме), Элиот получил стипендию для изучения французской литературы и отправился в Сорбонну. Это время интенсивного чтения французских авторов, а также знакомства с философией А. Бергсона (в январе — феврале 1911 г. он прослушал курс бергсоновских лекций в Коллеж де Франс). Однако образ «длительности», хотя и очаровал его на время, был в восприятии этого молодого человека излишне фаталистичным, размывал личностно важное для него представление о «традиции», том духовном и культурном начале, которое он, как и ценившийся им Г. Джеймс, считал глубоко чуждым Америке с ее кальвинистски окрашенной верой в материальный успех. Поэтому ближе, чем бергсоновские, ему оказались идеи Шарля Морраса, программного антилиберала и антиромантика. Из молодых французских писателей Элиот познакомился с Аленом-Фурнье, автором романа «Большой Мольн», и его сводным братом Ж. Ривьером, обратившими его внимание на творчество Достоевского, а также А. Жида, П. Клоделя. Весьма значимой для Элиота стала дружба с соседом по пансиону, студентом-медиком Ж. Верденалем (погибшим в 1914 г. под Дарданеллами и фигурирующим в виде некой дорогой тени в «Нруфроке», «Бесплодной земле»).
По возвращении в Гарвард Элиот осенью 1911 г. стал заниматься философией, углубленно занимался буддизмом и индуизмом, посещал семинары Дж. Ройса, а также англичанина Б. Расселла, приглашенного тогда в США. Его семья рассчитывала, что со временем он станет гарвардским преподавателем философии.
Поэтому летом 1914 г. Элиот на полученную стипендию отправился в Марбург (изучать Гуссерля), а затем, уже после начала войны, сумел добраться до Англии, чтобы в Оксфорде работать над диссертацией об английском неогегельянстве («Опыт и объекты знания в философии Ф. X. Брэдли»). Хотя диссертация была в конечном счете дописана, Элиот в США для защиты не вернулся, так как уже в 1915 г. отважился на решительный шаг — женитьбу на Вивиенн Хей-Вуд (1888—1947), дочери респектабельного живописца. Брак этот оказался глубоко несчастливым. Элиот, сдержанный, церемонный, полный различных комплексов, и порывистая, экзальтированная Вивиенн не подходили друг другу. Эта ситуация усугублялась частым обострением недугов Вивиенн, вынуждавшими Элиота все свое время тратить на заработки (преподавание в школе, на университетских курсах; служба в банке Ллойдз с марта 1917 г.), а также находиться на грани нервного срыва. Поэма «Бесплодная земля», отражающая этот кризис, была завершена им в лозанском санатории. В конечном счете Элиот не выдержал и, воспользовавшись визитом в США для чтения лекций (осень 1932/весна 1933), по почте объявил жене о разводе. Женился он во второй раз только после смерти Вивиенн (скончавшейся в психиатрической лечебнице), детей у него никогда не было.
Отдушиной для американца в Лондоне стали редкие занятия поэзией. В последнем ему немало помог Э. Паунд, живший до 1920 г. в британской столице. Этот чрезвычайно энергичный экспатриант, сразу же поверивший в гениальность своего соотечественника, подбросивший ему немало творческих идей (интерес к провансальской культуре, теме Грааля, различным стилизациям, имажизму и вортицизму, творчеству Джойса), ввел Элиота в британскую писательскую среду. Используя свою известность поэтановатора, он буквально настоял на первой публикации элиотовской поэзии («Песнь любви Дж. Алфреда Пруфрока», 1910—1914, публ. в июньском номере чикагского авангардистского журнала «Поэтри» за 1915 г.). Немаловажно, что Паунд, ставший на долгие годы другом Элиота, дополнительно заинтересовал того как Данте (свой экземпляр оригинала «Божественной комедии» имелся у Элиота с 1911 г.), так и погибшим на войне эстетиком Т. Э. Хьюмом, в 1900;е гг. главным британским апологетом идей неоклассики.
Однако первоначальную известность в Англии Элиот получил как литературный критик («Эготист», «Атенеум», «ТЛС» — литературное приложение к «Таймс»), а не как автор двух своих первых поэтических книжечек «Пруфрок и другие наблюдения» {Prufrock and Other Observations, 1917, издана на средства Паунда, тираж 500 экз.), «Стихи» (Poems, 1919, тираж 250 экз., издание В. Вулф), куда, в частности, входили написанные в 1910—1919 гг. «Портрет дамы», «Прелюдии», «Рапсодия ветреной ночи», «Геронтион», «Суини среди соловьев», «Воскресная обедня м-ра Элиота», «Гиппопотам». Именно авторитет критика позволил Элиоту в 1922 г. возглавить литературный журнал «Крайтириен», который он редактировал до 1939 г. В первом, за октябрь 1922 г., номере этого имевшего европейский резонанс издания была напечатана «Бесплодная земля», поэма самого Элиота. Это журнальное издание поэмы отличалось от первого (декабрь 1922, США) и последующих книжных изданий тем, что не включало в себя (как часть композиции) «Примечания», содержавшие выборочные, и порой ненадежные, ссылки на источники цитат и аллюзий. Построенная на мозаике цитат стилистика «Бесплодной земли» в целом сохранена в поэме «Полые люди» {The Hollow Men, 1925).
В 1925 г., уже прославившись, Элиот стал директором «Фейбера» — английского издательства, где им печатались Джойс, Паунд, У. Льюис, Р. Грейвз, собственные произведения, а также увидели свет первые поэтические книги У. X. Одена, С. Спендера, Л. Макниса, Т. Хьюза. В июне 1927 г. Элиот, пройдя крещение и конфирмацию, стал членом «высокой» англиканской церкви, а в ноябре получил британское подданство. Это решительное для него событие запечатлено в формуле, перенятой им у Ш. Морраса: «Классик в литературе, монархист в политике, англокатолик по своей вере». Она заявлена в книге статей «Ланселоту Эндрюзу: Эссе о стиле и порядке» (1928), в название которого вынесено имя английского богослова XVII в. С этого момента как поэзия, так и критические работы Элиота становятся подчеркнуто христианскими. Его творческие вехи — цикл «Ариэль» {Ariel, 1927—1930, 1954), состоящий из написанных в разные годы Рождественских стихотворений, поэма «Пепельная Среда» {Ash-Wednesday, 1930), цикл «Четыре квартета» {Fom Quaitets, 1936—1942, 1943), а так же книги «Назначение поэзии и назначение критики» {The Use of Poetiy and the Use of Criticism, 1933 — материал лекций в Гарварде), «Богам неведомым» {After Strange Gods, 1934 — материал лекций в Вирджинском университете), «Заметки к определению понятия культура» {Notes Toward a Definition of Culture, 1949), «О поэтах и поэзии» {On Poet? y and Poets, 1957). Особо нужно назвать одну из пяти стихотворных элиотовских драм, «Убийство в соборе» {Murder in the Cathedral, 1935).
Она посвящена мученической кончине архиепископа кентерберийского Томаса (Фомы) Бекета (1118—1170). Бывший фаворит юного Генриха II, человек крайне одаренный, но страстный и порывистый, он после возведения в сан архиепископа (1162) отказался от должности лорда-канцлера (с 1155 г.), стал вести строго аскетичный образ жизни и жаждал возвысить духовный авторитет церкви, сделав ее независимой от произвола короля или баронов. После долгого конфликта с королем Томас, отказавшийся подчинить церковь власти «кесаря», остался фактически в одиночестве и по приказу был убит рыцарями в стенах Кентерберийского собора. Гробница Бекета, причисленного к лику католических святых (1173), стала в средневековье местом массового паломничества.
Пьеса — пожалуй, наиболее последовательно христианское произведение Элиота — окончена к концу апреля 1935 г. 13 июня вышло книжное издание; премьера состоялась 15 июня в Чептерхаусе, доме капитула Кентерберийского собора. Элиот посвятил стихотворную трагедию, которая состоит из двух частей, разделенных «Интерлюдией» (ее составила подлинная проповедь Бекета, произнесенная в Рождественское утро 1170 г.), двум эпизодам. Это — 2 декабря 1170 года, день возвращения Бекета в Кентербери из Франции, где архиепископ скрывался около семи лет, и 29 декабря, когда рыцари от лица монарха обвиняют его в измене (Папе, французскому королю), а он, не предпринимая никаких попыток спастись, отдает себя в руки убийц. Особенностью пьесы, включавшей в себя элементы пения, стала абстрактность целого ряда персонажей. Таковы Хор женщин Кентербери, три священника, четыре искусителя и четыре рыцаря. Ставя от их лица своего рода вечные вопросы, Элиот создает не историческую, а мистериальную драму о смысле христианского мученичества, несения Креста Христова. Лейтмотивом трагедии является восходящий к Шекспиру мотив гнилости бытия. Все действующие лица, за исключением Бекета, подобны фигурам на шахматной доске. Каждая из них озвучивает свое особое понимание мира.
Хор женщин в «Убийстве в соборе» олицетворяет собой сон души — человека, по естеству своему морального, но не желающего задуматься о том, что выше его повседневных бытовых запросов, а также чередования времен года. Это бытие духовной инерции («В свидетели мы обречены», зд. и далее пер. В. Топорова), подчинения любой власти (природа, монарх, бароны, эпидемии, суеверия). Оно не лишено маленьких радостей, но в то же время привязано к естественному порядку вещей (от физического наличия собора, месс, постов до сбора урожая, варки эля) и подспудно уныло. Бекет для темного, как бы не полностью просвещенного Христом естества, противоестественен, а следовательно, ужасен. Большинству предпочтительнее «помереть в мире». Поэтому Хор, вполне как Великий Инквизитор у Достоевского, призывает Бекета «не приходить», т. е. отказаться от Креста и вернуться во Францию.
В свою очередь, три священника отвергают притязания короля и баронов («власти временной»), признают духовный авторитет церкви, приветствуют возвращение своего владыки, но предлагают владыке уйти в затвор, «запереть» врата церкви и, дождавшись лучших времен, пережив социальные бури, выйти из него, чтобы вкусить с паствой вполне земной «радости».
Четыре искусителя появляются перед Бекетом почти одновременно со священниками, что указывает па общую духовную природу предлагаемых всеми ими тех или иных сделок с христианской совестью. Один, веселый циник, пытается смутить Бекета воспоминаниями об усладах прошлого (дружба с королем, покорение женщин), о «жизни-саде». Другой, «государственник», от лица высоко вознесшихся королевских «соколов» предлагает не разводить в разные стороны силу государства и славу церкви и оставить след в истории «по-канцлерски». Третий, воплощающий силы, ведущие к расколу страны, предлагает упразднить национальную монархию и в своих корыстных интересах вернуть Британию в вассалы французов-норманнов или духовного «кесаря», Рима (Бекет хранит верность духовному единству церкви и нации). Наконец, четвертый, «психологист», «художник» и почти что «теневое я» героя, решается искушать Томаса как мыслью о тщете, обмане всего земного, так и посмертной духовной славой — горделивой верой в самообожение, в величие чисто личного подвига, молва о котором переживет в истории и народ, и баронов, и королей.
Общим для всех четырех искушений, предлагаемых Бекету, оказывается образ земного рая, а также «колеса истории» («колеса фортуны»), которое чисто по-человечески вроде бы можно повернуть в ту или иную сторону. Прямой ответ им в «Интерлюдии» дает сам архиепископ, в своей проповеди предлагающий именно духовное объяснение Рождества. Бекег напоминает пастве, что явление младенца Христа людям — не только величайшая радость, спасение, по великой милости Божией, ветхого человека от вечной смерти, т. е. мир в высшем смысле слова, по и пролог духовной жизни «не от мира сего», которая обретается только через смиренное несение скорбей, через страдания. Таков уже исходно путь Христов, поскольку с Рождеством не установился на земле вечный мир, а человечество в виде царя Ирода сразу же пролило кровь невинных младенцев, вынудило Матерь Божию бежать с младенцем Иисусом на чужбину, таков и путь мучеников: «…святыми не становятся волею случая… Мученичество никогда не бывает во исполнение умысла человеческого, ибо истинный мученик тот, кто… смирил свою волю перед Волей Божией и ничего для себя самого не желает — даже славы…».
В центре второй части трагедии описано убийство Бекета четырьмя рыцарями, повторяющими на свой лад слова четырех искусителей. Рыцари — само государство, защищающее твердую вертикаль власти, территориальную целостность, а также убежденность в том, что на алтарь высших и всегда поэтому «добрых» государственных интересов могут быть принесены злые дела и даже убийство отдельно взятого человека, врага государства. Архиепископ же просит перед смертью «открыть врата», тем самым подтверждая, что «…победа / Только в страданье родится», что «Завет Господень превыше закона мирского». На описании его святой гибели, которая проходит у Элиота под знаком по-шекспировски сформулированного («Действовать или не действовать?») и по-христиански разрешенного вопроса, трагедия могла бы окончиться и в этом случае стала бы, пожалуй, разновидностью агиографического сочинения, духовным утверждением того, что в центре истории не время, всегда лукавое, не иллюзорное вращение «колеса фортуны», а вечность, открываемая невозможным, Крестом Христовым. Однако Элиот модернизирует подобное послание за счет Хора. Тот в финале драмы апеллирует к современности, к 1930;м гг., и плачет как о грядущем наступлении новой «европейской ночи», как об очередных, и всегда фальшивых, конкордатах церкви и власти, так и об окончательном уходе в прошлое средневековой Европы. Ныне по ее святым камням снуют «туристы» и вынуждают таким образом к жизни под спудом, в резервации. Сравнение этого плача с выступлением Хора в первой части трагедии демонстрирует метаморфозу женщин.
Во-первых, жертва Бекета не осталась незамеченной, бесследной, она-таки просветила женщин, вывела их из плена земли, стихийного ужаса. Поэтому Кентербери по-прежнему — святыня оплота нации, простого народа («прачки, уборщицы, посудомойки»), как святыня — кровь новых христианских мучеников, пролитая не только в Британии, но и по всей земле («…молитва в забытых углах развалившихся за ночь империй…»). Во-вторых, Хор неожиданно смешивает эпическое «мы» и лирическое «я», которое берет на себя ответственность за прегрешения и своей собственной юности, и, что немаловажно, своих предков. Правда, на сцене вновь появляются не только кентерберийские жены, но и рыцари. Бросается в глаза, что в отличие от жен они ничуть не изменились — на языке позитивистско-юридических, а также демагогически-патриотических лозунгов эти современные розенкранцы и гильденстерны оправдывают убийство Бекета (в их трактовке провокатора, безумца, самоубийцы) и конечную «святость» всего, что вобрала в себя национальная история, приводят аргументы в пользу оправдания исторического насилия, необходимой всякому сильному государству «грязной работенки». .
Поэтическое творчество Т. С. Элиота неотделимо от его литературно-критической деятельности. Сам поэт счел возможным признать, что его многочисленные эссе (к ним следует прибавить публичные выступления, лекции, а также газетные и журнальные рецензии) являются частью той рефлексии, в результате которой возникли и его поэтические произведения. Среди более 400 работ наибольшую известность помимо названных выше получили «Гамлет и его проблемы» (Hamlet and His Problems, 1919), «Традиция и индивидуальный талант» (Tradition and the Individual Talent, 1919), «Данте» (Dante, 1929), «Музыка поэзии» (The Music of Poetry, 1942).
Элиот считал себя писателем Традиции, того начала в культуре, которое позволяет претворить «частные, глубоко личностные переживания в нечто более значительное и отстраненное, в нечто универсальное и надличностное». Поэтому задачу своего литературного поколения он видел в преодолении «романтизма». Романтизм для него — субъективность, не знающая контроля, самоограничения; также это и либерализм XIX в., культ ничем не ограниченной свободы. Отказываясь от всех форм авторитета и стремясь к оригинальности любой ценой, романтический художник, в интерпретации Элиота, обречен на разлад между чувством и мыслью, на непроизвольное нарциссическое любование собой. Противопоставление «я» и его бессознательных порыbob «косности» жизни приводит к подавлению поэзии личностью поэта, немоте. В свою очередь, его стихи не знают внутренней цельности, им свойственны фрагментарность, маловразумительная риторика, мелодраматизм, небрежность слова. Романтизму Байрона и Шелли Элиот противопоставляет не только доромантических поэтов (Дж. Донн и английские поэты-метафизики, Дж. Драйден), но исподволь и тех романтиков, которые подобно С. Т. Колриджу рассуждали об «органической целостности» поэтического произведения (глава 14 Biographia Literaria, «Лекции о Шекспире»). Поэтому Элиота точнее было бы назвать не антиромантиком, как это согласно его публицистическим декларациям обычно делается, а антиромантическим романтиком, или поэтом, в русле символистской эстетики мечтавшим об автономности поэтической Формы, о своеобразном творческом аскетизме, «структурно мотивированной эмоции».
Здесь он, отметим, весьма близок бодлеровскому пониманию романтизма и «поэта новейшей жизни», меняющего «классику» и «романтику» местами, ищущего идеал в Разочаровании. Вместе с тем он — явный антиромантик, когда борется с традицией силаботоники, утвердившейся на долгие годы в Англии именно благодаря романтизму, и высвобождает английский стих, откликаясь на нововведения французского символизма и британского имажизма. Но опять-таки не следует забывать, что самые известные произведения Элиота построены как «драматические монологи», а это отсылает к позднему романтизму (Р. Браунинг). Словом, программа Элиота является одновременно «модернистской» и «антимодернистской», а к ее автору приложимо определение реакционера-революционера, которым в XIX столетии награждали столь разных фигур, как Ж. де Местр и Л. Блуа.
Итак, вслед за Т. Э. Хыомом («Романтизм и классицизм») и Паундом («Серьезный художник») Элиот полагал, что поэзия должна уйти от передачи непосредственного переживания. Ее подлинная цель — интеллектуальное и эмоциональное единство компактного образа, поставленного в зависимость от концентрации поэтического языка. Поэт для Элиота — и все и ничего, интенсивность ритма, музыка. Образ — не столько конкретный знак, сколько прием, та «степень давления» языка, которая, сделав возможным новый рисунок слов, не видна в них. Ритм поэтому подобен глубинному знанию, является «душой языка». Классический поэт всегда жертвует собой: он не занимается рифмовкой, сообщая о своих мыслях или ощущениях, но выступает медиумом поэтического языка своей эпохи. Чем он крупнее, тем больше вбирает в себя малые поэтические голоса и, ассимилируя их, истощает целый языковой пласт. Подобное поэтическое усилие неразрывно связано с чувством прошлого как длящегося начала. Идущий от Вергилия и Данте импульс задает вертикаль всей западной поэзии. Каждое подлинное поэтическое произведение дополняет традицию в ее языковом единовременье: «…прошлое в такой же мере корректируется настоящим, в какой настоящее направляется прошлым». Отрицая музейность языкового прошлого и говоря, таким образом, о единовременное™ поэзии, Элиот, думается, мог бы вместе с Б. Пастернаком утверждать, что «история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры» («Охранная грамота»).
Установление равновесия между биографическим и художественным, чувством и эмоцией Элиот в эссе «Гамлет и его проблемы» (вошедшем в сборник «Священный лес», The Sacred Wood, 1920) назвал «объективным коррелятом»: «Единственный способ выразить чувство художественным образом — это найти ему „объективный коррелят“; иначе говоря, ряд предметов, ситуация, цепочка событий должны стать формулой конкретного чувства, переданной так, что стоит лишь дать ее внешние приметы… как это чувство незамедлительно напомнит о себе». В «Гамлете», с точки зрения Элиота, по корреляту практически невозможно составить представление об исходной поэтической эмоции Шекспира. Шекспир не смог или не захотел вынести се на публичное обозрение, чем, с одной стороны, испортил пьесу, сделав ее поэтически «темной» и структурно несбалансированной, но с другой — непроизвольно придал ей вид «Моны Лизы» словесности, что позднее превратило «Гамлета» в евангелие романтиков.
«Коррелят» Элиота явно имеет сходство с принципом суггестивности, предложенным французскими символистами. Подобно С. Малларме Элиот намерен «поэтическую тайну» оставить «тайной». Читатель вслед за поэтом должен пройти весь путь поэтического творчества, чтобы фактически сравняться с автором и пережить с ним откровение — преображение поэтической интуции, музыкального ритма, чистого времени в вербально и пластически оформленное пространство стиха. Однако в отличие от Малларме Элиот не чистый лирик, испытывающий к тому же сомнение в глубинной истинности слов, а поэт, намеренный обнажить пустоту современной жизни посредством определенной образности. Его стихи по-особому сценичны. В них разыгрывается «комедия масок» одной и той же лирической персоны, выстраивается узор из различных цитат и аллюзий, образующих в сознании поэта особую поэзию поэзии.
«Песнь любви Дж. Алфреда Пруфрока» (The Love Song of J. Alfred Prufrock) — программное элиотовское стихотворение.
1910;х гг. Первоначально оно носило название «Пруфрок среди женщин». Имя «героя» напоминает подпись молодого Элиота (Т. Стернз Элиот). Эпиграф стихотворения взят из XVII песни дантевского «Ада»: «лукавый советчик» Гвидо де Монтефельтро при встрече с Данте не сомневается, что перед ним тень. Поэтому он соглашается поведать ей из тьмы свою историю, не опасаясь, что эта исповедь в виде дрожащего языка пламени, эта песнь достигнет земного мира. Стихотворение Элиота представляет собой драматический монолог — разговор Пруфрока то ли с неким всезнающим собеседником, его спутником, то ли с самим собой (в таком случае «песнь» этого одинокого человека не покидает пределов его сознания, не может быть никем услышана). Прочтение стихотворения, играющего местоимениями «ты» и «я», зависит от того, как воспринимать пруфроковские терзания. Либо перед читателем пародия романтического героя с его культом «прекрасной дамы» — почти что персонаж блоковского «Балаганчика» (он гибнет от несчастной любви, но при этом истекает «клюквенным соком»), либо портрет одинокого и робкого мужчины, жаждущего любви, но вместе с тем ее страшащегося, а потому постоянно препарирующего свое сознание, рассуждающего в иронической форме о «проклятых» вопросах. Поэтому читателю непросто ответить на вопрос, реальна ли прогулка Пруфрока с его собеседником (по-видимому, таким же «мужчиной без женщин») по туманным улочкам приморского города, где они разговаривают о профанации любви, или это игра его воображения, опыт снисхождения в глубины собственного сознания, где он, приняв вымысел (любовь морских русалок) за действительность, желал бы навсегда «утонуть», дабы не видеть в гостиных дам, «тяжело беседующих о Микеланджело» (зд. и далее пер. А. Сергеева). В любом случае, это два полюса стихотворения — «дамы» (рассматривающие фигуру Давида в музее), несущая боль любовь к женщине, искушение лжелюбви, с одной стороны, и холостяк, находящий определенное утешение в мужской дружбе, с другой. Однако выведен этот эксцентрик, несмотря на знание им посланий апостола Павла, а также сочинений Данте, Шекспира, поэтов-елизаветинцев (строки из них крутятся в его сознании), сииженио.
Комично уже сочетание имени Алфред, напоминающего о любви возвышенной, рыцарски-героичной, ассоциирующейся с поэзией придворного поэта (лорд Алфред Теннисон), и неблагозвучной фамилии Пруфрок. За этой «американизированной» фамилией скрывается человек, чье поведение позволяет вспомнить персонажей Г. Джеймса (например, Арчера в новелле «Зверь в чаще»), ждущих всю жизнь любви, но так до самой смерти и не решающихся поставить знак равенства между земным и возвышенным. В сознании Пруфрока, своего рода современного Пьеро.
(влияние Лафорга на это стихотворение несомненно), смешано высокое и низкое. Здесь и евангельские Иоанн Предтеча, Лазарь, и строки из Дж. Донна, Э. Марвелла, и декларации о лысении, штиблетах, опасности фруктов для пищеварения.
Однако когда такой Пруфрок вроде бы развенчан в своем позерстве, стихотворение приобретает новое измерение. Он все же не только комическое лицо, пытающееся прийти в себя после искушения плотской любовью. Пруфрок явно испытывает жажду веры, пытается задать вопрос о смысле ускользающего времени, но о наиболее для себя серьезном говорит с предельной иронией, шутя, чем достигается эффект большой трагической силы (как «актер» выведен и Йозеф К. в «Процессе» Ф. Кафки). Пожалуй, есть основания считать, что Пруфрок на подмостках новейшей цивилизации может предстать лишь в виде «куплетиста» на подмостках «балаганчика», того Гамлета, который только и возможен в эпоху, когда любовь не имеет никаких иных оснований, кроме «основного инстинкта»: «Нет! Я не Гамлет и не могу им стать…».
Мотив отречения в стихотворении явно связан со смертью. Трудно сказать, топится ли Пруфрок — и тогда свидетелем его исповеди из «ада» современности становится некий новоявленный Данте, облекший этот крик души в терцины, — или только призывает читателя задуматься о тождестве (лже)любви и смерти. Возможно и другое прочтение. Подобно Иоанну Предтече, Пруфрок не принимает соблазна новоявленной Саломеи; думая о евангельском Лазаре, он ставит перед собой вопрос о пробуждении к «новой жизни» через «смерть».
Линию «Пруфрока» продолжает стихотворение «Геронтион» (Gerontion, 1917—1919, оиубл. 1920). Греческое слово, вынесенное в название, означает «старичок». Стихотворение, представляющее собой «поток сознания», берется передать момент, когда к пожилому человеку, олицетворяющего совокупность ценностей довоенной Европы, является некий ангел. И тогда в мгновение ока развертывается пунктирная лента его жизни. Жизнь эта бесплодна, на что указывает уже первая строка стихотворения: «Неге I am, an old man in a dry month waiting for rain…» («Вот я, старик, в сухой месяц ждущий дождя…»). Зачин «Вот я [Господи]», употребленный Элиотом, имеет духовный смысл — так в Ветхом Завете пророк откликался на Богоявление. Геронтион же этими словами готов встретить ангела смерти. Его епифания (в данном случае — цепочка ассоциативно перетекающих друг в друга откровений «утраченной жизни») ближе к развернутой эпитафии, чем к «песни любви». Геронтий «не герой», и его слабости, в отличие от пруфроковских, имеют необратимо гибельный характер.
Одно дело, что он не воевал ни под какими Горячими Воротами — т. е. не защищал Европу от новейших гуннов и скифов (Геронтион сидит у стены, нагревшейся на апрельском солнце, и мальчик читает ему вслух о подвиге спартанцев под Фермопилами). Другое, что он променял Европу христианской традиции на безродность Лондона — Антверпена— Амстердама, где безверие масс, помноженное на культ биржевой спекуляции, дополняется оккультизмом некой фрау фон Кульп, противоестественными склонностями француза из Лиможа, а также нашествием на Запад людей Востока (в стихотворении фигурирует гротескный японец, который в музее «кланяется» на картины Тициана). Геронтион, по Элиоту, «полый человек», «предатель», носитель некой метафизической вины. Она ассоциируется и с образом Христа на Тайной Вечере, и с утраченным «мы». Именно поэтому Геронтион столь томится весной (в момент возрождения природы) и задумывается о смерти, судя по всему, накануне Пасхи, не зная духовного возрождения, связанного с «водой», очистительной силой веры, причастия. Геронтион и хотел бы уверовать, но для этого слишком человек своего времени, слишком скептик, позитивист, гедонист. Чудеса, описанные в Евангелии, и Христа-агнца (в стихотворении обыгран образ причастия, «красных цветочков») он отвергает, предпочитая, как и его современники, нечто магическое — материально доступное его огрубевшим чувствам столоверчение. Так он становится современным Вечным Жидом, или Агасфером, который, согласно средневековым преданиям, не помог Спасителю нести крест на Голгофу и в силу этого обстоятельства был осужден на вечное скитальчество. Так Христос-агнец готов стать в стихотворении Христом-тигром (1914 г. по китайскому календарю был именно годом тигра).
Образ Агасфера (уже даже не старика, а вечного старичка) вводит в стихотворение мотив истории, обреченной на повторение. Кошмар коридоров истории, откуда из-за отсутствия в ней Смысла нет выхода, сравнивается Элиотом как с гримасами бесов в елизаветинской драматургии, так и с «исчезновением атома» в современной физике. Геронтион жаждал бы умереть, стать «не собой» — черными водами Гольфстрима, пассатами, туманностью звезд, но обречен лишь на некий суррогат забвения, бесконечный «сюрреалистический» сон эротического содержания.
В «Геронтионе» предугадано большинство мотивов поэмы «Бесплодная земля» (The Waste Land, 1922). «Геронтион» мог стать прологом поэмы, но Элиот по совету Паунда отказался от этого замысла. Поэма насыщена большим количеством историко-культурной, мифологической (к примеру, Агасфер «Геронтиона» становится легендарной Кумской сивиллой эпиграфа, испросившей у богов вечную жизнь, но забывшей оговорить себе вечную молодость и сжавшейся до фигурки, которая помещалась в бутылку), а также поэтической (в виде цитат, фрагментов цитат, реминисценций) информации. Исходя из представления о «Бесплодной земле» как интеллектуальном ребусе, уже написано и продолжает писаться множество литературоведческих исследований, где придирчиво комментируется буквально каждое слово элиотовского текста. Сам автор не протестовал против такого подхода и даже заложил его основу, включив в текст поэмы «Примечания». В то же время общая логика поэмы и ее поэтическая техника достаточно прозрачны.
В «Бесплодной земле» выведен трагический образ Запада, вследствие секуляризации переживающего катастрофу и представляющего собой «пригоршню праха» — нагромождение обломков былой целостности, откуда понемногу ушла жизнь. По замыслу Элиота, поэма должна была стать не только констатацией конца — всеобщего распада, безводной пустыни, низменных удовольствий городского плебса, разрушения старого Лондона, но и трагедией «ожидания», наметившейся, но так и не удовлетворенной, жажды истинной жизни. Этому настроению переходности созвучны первая строка поэмы («April is the cruellest month…» — «Апрель — самый беспощадный месяц…»), а также мотив дождя, без которого не может наступить настоящая весна.
Определенная сложность поэмы для понимания обусловлена тем, что в тексте причудливо смешаны разнородные голоса, цитаты (Библия, «серьезная литература», клише массовой культуры, непристойные песенки, древние и современные языки, включая санскрит, кокни). Переход от голоса к голосу ни грамматически, ни пунктуационно чаще всего не обозначен. Длина строк произвольна, а их причудливые переносы препятствуют определению границ того или иного смыслового отрезка. Нередко персонажи (точнее, «маски») лишь звучат, но никак иначе не объективированы. Граница между прошлым и настоящим, мифом, легендой и современным лондонским бытом размыта. Лишь крайне условно общим пространством поэмы можно считать сознание легендарного двуполого слепца, прорицателя Тиресия (эквивалент Агасфера, с одной стороны, и Кумской сивиллы, упомянутой в эпиграфе, с другой).
Написанная в технике свободных ассоциаций, поэма сопоставима то ли с многофигурным барочным полотном, то ли с видением — мистерией на тему конца света (данной, как и у Джойса в соответствующей главе «Улисса», бурлескно, карнавально). Лирическое сжатие материала до «иероглифов» позволяет Элиоту конструировать оригинальные метафоры, а также свести вместе несоединимое — собственную биографию и сюрреалистическую фантазию, общую пророческую интонацию и смеховое начало, поиск личной лирической манеры и пародирование множества стилей (от Вергилия, елизаветинской «готики» до Бодлера и речи современной лондонской проститутки).
В поэме, несмотря на всю ее фрагментарность, заявляют о себе несколько уровней организации материала. Одним уровнем «Бесплодной земли», состоящей из пяти частей («Похороны мертвого», «Игра в шахматы», «Огненная проповедь», «Смерть от воды», «Что сказал гром»), является ее собственно поэтическое содержание, чьей меркой служат встретившиеся в сознании Элиота строки из пророков Иезекииля и Исайи, из Екклесиаста и Псалтири, Евангелия и Послания ап. Павла к римлянам, «Исповеди» бл. Августина, «Упанишад», «Энеиды» Вергилия, «Божественной комедии» Данте, «Кентерберийских рассказов» Чосера, «Потерянного Рая» Милтона, шекспировской «Бури», «Цветов зла» Бодлера, стихотворений Нерваля, Верлена, других опознанных и неопознанных источников. Не исключено, что, положив этот материал в основу своего вагиериаиского сплошного потока «музыки» (основанного на лейтмотивах), Элиот вдохновлялся опытом «Ада» Данге, а также «Улисса» Джойса, текстов, буквально сотканных из множества сознательных и бессознательных заимствований. Такова, видимо, по логике Элиота, и вся выдающаяся поэзия, и вся «классика»: поэт трудится не в пустоте, а в среде блуждающих ритмических и образных смыслов, одни из которых делаются штампами, отбрасываются, а другие способны зазвучать по-новому, будучи извлеченными из своего исходного контекста и помещенными в новый.
Еще одним способом условной структуризации материала стал интерес Элиота к сравнительному изучению мифов, религий, верований. Источники этого интереса — 12-томный труд британского антрополога Дж. Фрейзера «Золотая ветвь» (1890—1915, сокращенное изд. — 1922), опубликованное в 1920 г. исследование английской фольклористки Дж. Уэстон «От ритуала к рыцарскому роману» (где египетские мифы плодородия через «посредничество» христианских ересей увязывались с символикой средневековой литературы), а также джойсовский «Улисс» (1922; с некоторыми его эпизодами Элиот благодаря Паунду знакомился еще в рукописи) — роман, где сквозь бытие одного дня из жизни современного Дублина проступает лабиринт целой мировой библиотеки. Одновременно с Джойсом и Элиотом по сходному пути продвигался в рамках своего поэтического фрагментарного эпоса и Паунд (многочастные «Песни», Cantos, 1925—1970).
Особый интерес у Элиота вызвали древние ритуалы, связанные с языческими богами, смерть и возвращение которых к жизни циклически повторялись, имели точное соответствие в смене времен года. Иными словами, Элиот подобно тем или иным символистам склонен находить эквиваленты или прообразы христианства в египетских, античных мистериях, восточных верованиях (так, к примеру, в пятой части поэмы слова из Послания апостола Павла накладываются на санскрит «Упанишад»), альбигойской ереси.
Стержнем своей экумены духа, где имеется свое преходящее, исторически относительное, и свое непреходящее, противящееся духовной «формализации», Элиот сделал легенду о чаше Тайной Вечери, Граале, в которую, согласно средневековым преданиям, Иосиф Аримафейский собрал у Креста кровь из раны Христа. Чаша была перенесена им в Англию, но затем либо утрачена, либо скрыта. В средневековых легендах и романах поиск этой святыни стал олицетворением смысла жизни рыцаря (Парсифаль, сэр Гавейн, рыцари артуровского цикла романов), проходящего через ряд испытаний своей добродетели перед тем, как ответить в Часовне Опасностей на ряд таинственных вопросов и обрести Чашу. Интересовались различными аспектами этой темы духовного поиска французские (Ж. де Нерваль, Ш. Бодлер, Вилье де Лиль Адан, писатель и учредитель розенкрейцерского ордена «Роза и крест» Ж. Пеладан) и русские (А. Блок, Вяч. Иванов) поэты.
Легенда притягивала Элиота не только потому, что он заинтересованно путешествовал по Пиренеям вместе с Паундом или одно время посещал семинар П. Д. Успенского (ученика Г. Гурджиева) в Лондоне (что отражено в поэме через обыгрывание символики гадательной колоды Таро), но и в силу отношения к поэзии как медиуму постижения Тайны, приобщения к Традиции. Инициация в это эзотерическое знание, прикрывающееся от профанов различными символами, — главный смысловой вектор поэмы, который можно обозначить как движение от проклятия цивилизации к ее возможному возрождению.
Сведя вместе христианскую мистику, средневековые ереси (возникшие среди аквитанского рыцарства, тамплиеров), древние мифы плодородия, образность карт колоды Таро, Элиот ввел в поэму образ Короля-Рыбака, царствующего в «бесплодной земле». Обесчестив деву, хранительницу Святой чаши, он и его рыцари лишились мужского достоинства, а их страну поразила засуха.
Снятие заклятия, необходимость дождя, освящение плоти и духа, восстановление мужского достоинства, поиск святыни — все эти мотивы предполагают наличие героя, ищущего любви и страдающего от ее профанации.
Подобного героя в поэме либо нет, либо он не спешит открыть себя в шифрах и аллегориях, лишь крайне условно приоткрываясь где-то «впереди», как «неузнанный», «неизвестный», среди Пиреней или Гималаев. Свидетелем же проклятия Европы, падения переживших свое время башен «Иерусалима, Афин, Александрии, Вены, Лондона… града… призрачного» и становится в «Бесплодной земле» слепец Тиресий. Хотя этот персонаж «Метаморфоз».
Овидия обозначает себя только в третьей части поэмы, есть основания предполагать, что все ее голоса звучат благодаря воистину бездонной памяти этой протейной личности. Подобно Геронтиону, он обречен на своего рода бессмертие, является свидетелем «начала и конца»: как визионеру ему открыто прошлое и будущее; как существу двуполому — секреты мужской и женской любви; как мистику и хранителю Тайны — первоэлемент некой мировой религиозности, ступающей, согласно поэме, в некий новый мировой цикл своего существования (также тема У. Б. Йейтса в стихотворениях «Второе пришествие», «Византия», «Плавание в Византию»).
Соединение столь разных составных частей в рамках общего замысла затемнило поэму, включающую фрагменты, писавшиеся Элиотом независимо друг от друга. При подготовке рукописи к печати Паунд убедил своего друга наполовину сократить ее, а также изменить название (исходный вариант «Он читает полицейскую хронику на разные голоса» заимствован из романа Ч. Диккенса «Наш общий друг», часть 1, гл. 16). Думается, что составленные автором комментарии не столько помогают читателям, сколько запутывают их, уводят от автобиографического измерения «Бесплодной земли», которое Элиот, пропагандировавший «имперсональность» и «антиромантизм» в поэзии, предпочел бы по тем или иным причинам не акцентировать. Впоследствии он уже не писал так сложно, хотя эзотерическое понимание христианства вкупе с витиеватостью, если не намеренной затемненностыо, стиля характерно и для элиотовских стихов, созданных после религиозного обращения.
«Четыре квартета» («Бёрнт Нортон», Burnt Norton, 1936; «Ист Коукер», East Coker, 1940; «Драй Сэлвейджез», Dry Salvages, 1941; «Литтл Гиддинг», Little Guiding, 1942; вместе опубл. в 1943) — финал поэтического творчества Элиота. Это своеобразное подражание Данте. Заметно в квартетах и влияние бл. Августина (особенно Книги 11-й «Исповеди»), а также испанского мистика, богослова и поэта XVI в. Хуана де ла Круса (Иоанна Креста). Весь цикл и каждая его часть выстроены, насколько это возможно в аллегорической поэзии, по музыкальному образцу. В его основу положены пятичастные квартеты Бетховена (Ор. 127, 130—132, 135), созданные оглохшим композитором незадолго до смерти. Музыкальность элиотовских «Квартетов», ритмически разнообразных и тщательно выписанных, призвана орнаментировать их цветовая и вегетативная (прежде всего роза как образ спасения, рая, церкви и тис как образ древа смерти) символика, обыгрывающая времена года, борьбу четырех стихий (земля, вода, воздух, огонь), возрасты человеческой жизни, познание ипостасей св. Троицы. Бог-Отец (первый квартет) иносказательно сравнивается поэтом с бездвижным движением времени под знаком которого прошлое и будущее взаимозаменимы, «всегда приводят к настоящему», «незыблемой точке», «чистому ритму», «мигам», Бог-Сын (второй квартет) — с раненым хирургом искуплением «темного леса» прошлого, БогДух Святой (четвертый квартет) — с будущим, где «огонь и роза одно» — солнце и огонь Божественной любви.
В традиции апофатического богословия, с одной стороны, и барочной поэзии — с другой, Элиот описывает восхождение души к Богу, преображение времени, конечного начала в бесконечное Одновременно это и «защита поэзии», вечной Музыки. Восхождение, но ступеням знания в «Квартетах» связано с серией отречений от соблазнов плоти (у Элиота нет даже подобия Беатриче), памяти (иллюзорность времени), воли. Блуждание по коридорам, пещерам времени озаряется явлением Богородицы (третий квартет), главной ходатаицы за человека перед Богом. Венчает же «путь всякой плоти» в «Литтл Гиддинге» сознательное подчинение человека Божественной воле, Вечному слову. Девиз этого смирения перед всеми превратностями судьбы и несчастьями — формула Марии Стюарт («В моем конце мое начало»), обыгрывающаяся во всех квартетах. Она приложима и к королю-мученику Карлу I, тайно посещавшему Литтл Гиддинг (именно в эти края, по средневековому преданию, Иосиф Аримафейский принес св. Грааль), и к современным людям — рыбакам, при выходе в море просящим заступничества у Богородицы, военным летчикам («пикирующим голубям»), и к самому поэту, отправившемуся в паломничество, пережившему в часовне момент «весны среди зимы», откровения причастности к паутине истории.
Неге, the intersection of the timeless Вот средоточие вечности — moment Англия и нигде. Никогда и всегда.
Is England and nowhere. Never and always.
We are born with the dead:
See, they return, and bring us with them.
The moment of the rose and the moment of the yew-tree Are of equal duration. A people without history.
Is not redeemed from time, for history is a pattern.
Of timeless moments. So, while the light fails.
On a winter’s afternoon, in a secluded chapel.
History is now and England.
Little Gidding (I, V)
Мы рождаемся вместе с умершими: Видишь — они возвращаются и нас приводят с собой.
Мгновение розы и мгновение тиса Равновременны. Народ без истории Не спасти от забвенья, ибо история —.
Ткань из мгновений. Поэтому, зимним днем, Когда свет угасает в безмолвной часовне, История — ныне и Англия.
(«Литтл Гиддинг», пер. С. Степанова)
По жанру квартеты напоминают медитативно-описательные пейзажи. Название каждого из них связано с тем или иным моментом жизни Элиота в США (детские, юношеские годы) и Великобритании (1930;е гг., время платонической влюбленности поэта в бостонку Э. Хейл, которую он знал еще с довоенного времени). Поэтому весь цикл, несмотря на его некоторую абстрактность, можно считать лирической автобиографией. Суммирует она и темы элиотовского творчества, где каждая новая попытка работы со словом становилась «новым началом и новым провалом». В «Четыре квартета» переходят такие прежние элиотовские мотивы, как страдающий Бог, река и море, смерть от воды, рыбаки, встреча с призраком, слепота, уединенная часовня, низложенный король, очищение огнем и т. п. Искусно варьируя тему личного времени, получающего оправдание только в примиряющей единичное и множественное «розе мира» (свет солнца в струях водопада расщепляется на все цвета радуги), стареющий поэт и как бы прощается с творчеством, понимая, что это только пролог vita nuova, и одновременно видит себя ребенком, тем «абсолютно невинным», кто способен воспринимать райскую музыку мира. Поиски кончаются там, где «мы начали их», — таковы «альфа» и «омега» заключительных строк всего цикла.
Мирский, Д. Из современной английской литературы. (О Т. С. Элиоте) // Мирский, Д. Статьи о литературе. — М., 1987.
Волкову С. Диалоги с Иосифом Бродским. — М., 1998 [см. именной указатель].
Аствацатуров, А. А. Т. С. Элиот и его поэма «Бесплодная земля». — СПб., 2000.
Половинкшш, О. И. «Проблески небес». Метафизический стиль в американской поэзии первой половины XX в. — М., 2005.
Ушакова, О. М. Т. С. Элиот и европейская культурная традиция. — Тюмень, 2005.
Толмачёву В. М. Э. Паунд // История литературы США / гл. рсд. Я. Н. Засурский. М., 2014. Т. 6.
Толмачёв, В. М. Т. С. Элиот, поэт «Бесплодной земли» // Элиот Т. С. Бесплодная земля / изд. подготовил В. М. Толмачёв. — М., 2014.
Wilson, Е. The Axel’s Castle. — N. Y., 1931.
Matthiessen, F. O. The Achievement of T. S. Eliot / F. O. Matthiessen, C. L. Barber. — N. Y., 1958.
Brooks, C. The Invisible God: A Study in Hemingway, Faulkner, Yeats, Eliot, and Warren. — New Haven (Ct.), 1963.
Brooks, C. Modern Poetry and the Tradition. — N. Y., 1965.
The Waste Land: A Facsimile and Transcript of the Original Drafts / ed. by Valerie Eliot. — L., 1971.
Kenner, H. The Pound Era. — L., 1972.
Smith, G. С. T. S. Eliot’s Poetry and Plays: A Study in Sources and Meaning / 2nd ed. — Chicago, 1974.
Ackroyd, P. Ezra Pound and His World. — L., 1980.
Ackroyd, P. T. S. Eliot. — L" 1984.
Southam, В. C. A Student’s Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot. — L., 1990.
Moody, D. A. Thomas Stearns Eliot: Poet. — Cambridge, 1995.
Eliot, T. S. Inventions of the March Hare: Poems 1909—1917 / ed. by Ch. Ricks. -N. Y" 1996.
Gordon, L. T. S. Eliot: An Imperfect Life. — N. Y., 1998.
The Cambridge Companion to Ezra Pound / ed. by Ira B. Nadel. — Cambridge, 1999.
Schuchard, R. Eliot’s Dark Angel: Intersections of Life and Art. — N. Y.; Oxford, 1999.
Eliot, T. S. The Waste Land: A Norton Critical Edition. — N. Y., 2000.
Gay, P. Modernism: The Lure of Heresy. — N. Y., 2008.
T. S. Eliot in Context / ed. by J. Harding. Cambridge, UK; N. Y" 2011.
Вопросы и задания для самоконтроля
- 1. Как влияли на становление творческой манеры Т. С. Элиота Ж. Лафорг, Данте, Ш. Бодлер, Э. Паунд, Дж. Джойс?
- 2. Раскройте противоречивость образа Пруфрока в стихотворении «Песнь любви Дж. Алфреда Пруфрока».
- 3. С каких позиций и каким образом трактуется кризис европейского духа в стихотворении «Геронтион», почему «старичок» в нем сравнивается с Агасфером?
- 4. С какими искушениями сталкивается на пути к своему подвигу Томас Бекет в драме «Убийство в соборе»?
- 5. Объясните семантику названия «Бесплодная земля», образ поисков Грааля, мистической и поэтической тайны, а также характер игры с цитатами, «масками» в этой поэме.
- 6. Как Элиот обы срывает перекличку между мифом и современностью в «Бесплодной земле»?