Норвегия.
Музыка, театр, история, философия, живопись, наука
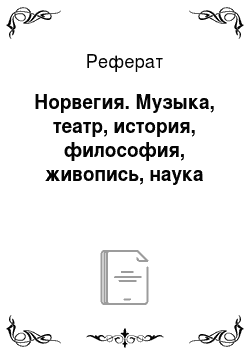
Это особенно надо подчеркнуть. Молчание французской прессы еще как-то можно объяснить: ведь Франция меньше всего была заражена энтузиазмом по отношению к Ибсену. Антуану и Люнье-Поэ на сцене, «присяжному» ибсенисту графу Прозору в литературе приходилось проламывать стену безразличия, отчуждения, выводить своего кумира в «звезды первой величины» с большим, неимоверным трудом. Но чем объяснить… Читать ещё >
Норвегия. Музыка, театр, история, философия, живопись, наука (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Генрик Ибсен
Недавно исполнилось тридцать лет со дня смерти Генрика Ибсена. Что и говорить, срок немалый: такое испытание времен не под силу многим литературным «известностям». И все-таки нельзя не удивиться тому молчанию, тому равнодушию и, скажем прямо, забвению, которым в наше время окружено имя Ибсена. Ведь дело касается не какого-нибудь литературного метеора, быстро промелькнувшего на европейском горизонте, возбудившего мгновенные восторги и тотчас же исчезнувшего — а «скандинавского гения», открывшего — вместе с Кнутом Гамсуном и двумя-тремя другими северянами — всему миру душу великих стран Скандинавии. Речь идет об авторе «Пер-Гюнта», «Бранда», «Призраков», взволновавших умы и сердца целой эпохи, о драматурге, пьесы которого десятилетиями не сходили с афиш всех столичных театров, о человеке, признанном в свое время не только замечательным выразителем настроений европейской элиты, но и крупным, а так же великим писателем. «Пер-Гюнта» сравнивали с «Гамлетом», с «Фаустом», с вечными творениями человеческого духа; Ибсена ставили на родине в уровень с Шекспиром и Гёте, и с самыми несомненными гениями человечества. Он как будто уничтожил перегородки между государствами, между бытовыми и климатическими условиями; в одном, общечеловеческом стремлении, «передовые» поклонники Ибсена забывали о своей родине и чувствовали себя «гражданами мира». Южная, романская Италия протянула в лице Элеоноры Дузе руку германскому северу, на Ибсена был, — как указывает в своих мемуарах французский актер ЛюньеПоэ, — огромный спрос в Южной Америке, что же касается русского Востока, то Ибсена он воспринимал, как своего, родного.
Это особенно надо подчеркнуть. Молчание французской прессы еще как-то можно объяснить: ведь Франция меньше всего была заражена энтузиазмом по отношению к Ибсену. Антуану и Люнье-Поэ на сцене, «присяжному» ибсенисту графу Прозору в литературе приходилось проламывать стену безразличия, отчуждения, выводить своего кумира в «звезды первой величины» с большим, неимоверным трудом. Но чем объяснить равнодушие русских? Не только в советской России, где, пожалуй, сейчас не до Ибсена, но и в эмиграции, та самая элита, которая Ибсену поклонялась, о нем не вспоминает, за самыми редчайшими исключениями. А между тем — повторяем — в России Ибсен был когда-то желанным гостем, больше того, символом, — Ибсеном бредила интеллигенция, его выдвигали «чеховские» круги, ставил Художественный Театр; поколение символистов признало в нем своего, считало его чуть ли не предтечей, Комиссаржевская едва ли не на ибсеновских героинях создала себе имя. Голос скандинавского писателя, казалось, предвещал новую эру, но вместе с тем напоминал о вечном. С жадностью ловили все интонации этого голоса; социальные проблемы, выдвинутые в «Кукольном домике», в «Бранде», в «Отцах города», воспринимались как насущные вопросы. Казалось бы, кому какое дело до того, уйдет ли Нора от мужа, решится ли Госмер на связь с Ревеккой. Но личные драмы героев отступали на второй план, а на первый выдвигались их общественные мотивы и последствия.
Пожалуй, именно эта «социальность» сослужила Ибсену наибольшую службу. Но нельзя забывать и иное: привлекала к нему не только кампания за женское равноправие или борьба с мещанским укладом жизни. В Ибсене ценили драматурга-реформатора, порвавшего с условными канонами бытового театра; ценили писателя-психолога, пытавшегося углубиться в еще неизведанные душевные области: «Призраки» ставили вопрос о наследственности, об ответственности за грехи отцов, предвещали в какой-то степени фрейдовский психоанализ; наконец, к Ибсену просто тянулись, как к живому источнику человеческих переживаний, создателю некоего «нового трепета». В этом, надо признаться, было большое достоинство поколения начала нашего века: всякий «новый трепет» оно готово было с радостью приветствовать, вступить за него в ярую борьбу, пробить ему дорогу собственными усилиями.
Моему поколению уже не надо было расчищать путь Ибсену, бороться за Ибсена: он уже достался нам в наследство, как некая незыблемая «культурная ценность». Ибсен читался на школьной скамье и, действительно, казался откровением. Конечно, социальные его устремления уже не ранили, отдавали анахронизмом; конечно, «новый трепет» стал уже привычным. Но вечная, человеческая сущность действовала необычайно. И Пер-Гюнт, и Росмер, и Освальд воспринимались впрямь в том же плане, что Гамлет; Сольвейг была не меньшим символом «вечно женственного», чем Офелия или Маргарита. Конечно, что-то в душе и сознании таким сравненьям сопротивлялось; несмотря на «культурную традицию», возникало чувство: нет, это не Гёте, не Шекспир. Все же среди писателей последних пятидесяти лет Ибсен продолжал оставаться на одном из первых мест — пока, как-то незаметно, он просто не выветрился из памяти.
И вот — выветрился прочно, не только из памяти «эмигрантского поколения», но, по-видимому, и старших. Что же произошло? Неужели пз это просто забывчивость и неблагодарность? Если же причины более серьезны, то как не попытаться определить произошедшие в нашем сознании перемены, вызвавшие такое разительное охлаждение. Нельзя же, в конце концов, без всяких объяснений разжаловать писателя из «Шекспиров» — в устаревшие бездарности. И не следует ли, в виде опытной проверки, перечитать хотя бы некоторые драмы Ибсена.
Пишущий эти строки проделал этот опыт некоторое время тому назад — проделал недаром. Опыт оказался тягостным, большим разочарованием. Нет сомнения, не только Ибсен — не Шекспир, во многом, в очень многом, он устарел, отошел, увял. Не будем вдаваться в другую крайность: легко сбрасывать авторитеты «с парохода современности», труднее это обосновать. Конечно, Ибсен отнюдь не ничтожный писатель, отрицать роль, сыгранную им в истории литературы, было бы бессмысленно. Без Ибсена какого-то звена не доставало бы, многое не могло бы появиться из более для нас сейчас живого и ценного. Но в основном обмануться нельзя: до подлинно большого писателя Ибсен все-таки не «дотянул».
Реакция на его «социальные запросы» в этом отношении показательна. Жизнь всегда идет вперед, злободневные проблемы неизбежно теряют остроту, какое бы разрешение им не давать. В этом порочность замысла, первородный грех всякой социальной литературы, не только состряпанной по заказу, как теперь в советской России, но и свободной — как у Ибсена. Волноваться сейчас по поводу злоключений Норы невозможно: ведь «Кукольного домика» давно нет и в помине, так же как и всей той среды, в которой задыхалась ибсеновская героиня; то, что для нее было актом первостепенной важности, современная женщина совершает в других условиях с другим сознанием. Драматическая развязка уже не предрешена логически. Остается личная драма, но и она не ранит. В том-то и беда, конечно. Большой писатель может трактовать о временных, преходящих явлениях, но подводя под них убедительную, вечную, вневременную основу. Социальная оболочка слетает, как шелуха — но человеческая трагедия остается той же, по-прежнему вызывает «ужас и сострадание», как писалось в учебниках словесности. Ужаса и сострадания к Норе или к «Дикой утке» у нас нет. Даже больше того: неожиданно на лице появляется улыбка снисхождения — а что может быть убийственнее такой невольной улыбки.
Увы, вызывают ее порою не одни лишь социальные моменты ибсеновских драм; в самых душевных и глубоких — иногда и впрямь глубоких его вещах — вдруг резнет фальшивая, слишком высокопарная интонация, неоправданный символ, когда-то действовавший гипнотически, теперь уже утративший всякую власть, звучащий — что грех таить — наивностью. Люнье-Поэ приводит в своих воспоминаниях любопытный эпизод, очень характерный для реакции на такие символы людей не предубежденных, не впитавших в себя атмосферу, окутавшую ибсеновсие драмы, а не прямо ими рожденную. В одном южном французском городе шли на сцене «Призраки» — кажется, более патетическую драму и представить себе трудно. Пафос нарастает и получает предельное завершение в последней сцене, когда умирающий Освальд видит пробившиеся сквозь норвежский туман солнечные лучи: «Мама, солнце»! Для ибсениста это, конечно, символ открывшегося ему перед смертью света-истины, вечности, освобождения. Но южные зрители, ко всей этой патетике неподготовлены и, вдобавок, целый день жарящиеся на солнце, встретили возглас Освальда единодушным и громогласным смехом.
Можно сказать — мелкий инцидент, вызванный невежеством. Все же он показателен. Преодолеть разницу климатов и житейских условий Ибсену, значит, не удалось. А вот другой пример, более потрясающий, уже судящий ибсеновский символизм в самых его истоках. Кто не помнит «Строителя Сольнеса», ставшего воплощением прогресса и духовного устремления — выше, все выше. Да, лозунг бесспорно — благороднейший. Но перечтем эту пьесу, и благородство символа оборачивается наивной и натянутой риторикой: инженер, поднимающийся на выстроенную им башню, чтобы подтвердить своей возлюбленной верность высоким идеалам и срывающийся с этой башни, — невольно вызывает комический эффект. Нет, такой символизм приемлем в наши дни разве для школьников.
«Строитель Сольнес» — пример, может быть, слишком яркий, для Ибсена исключительный. Но в какой-то степени весь его символизм так же надуман, нарочит. Даже Сольвейг — прекраснейший образ женской верности — слегка смущает тем, что она буквально «выплакала себе глаза». Было бы лучше, пожалуй, обойтись здесь без фактической слепоты. Какую-то струну Ибсен перетянул, какое-то правдоподобие нарушил. И это случается у него сплошь и рядом. Может быть, именно в подобных нарушениях основа охлаждения к нему, да и не к нему одному.
Что же делать. Наше время судит символизм, и вряд ли это одна лишь поверхностная реакция. Суд, иногда жестокий, но трезвый и честный — для символизма такой пересмотр был необходим. Тем более что его глубинное, первичное устремление современность не отстраняет, за борт не выбрасывает. В каком-то смысле ведь всякое искусство символично, идет — говоря словами Вячеслава Иванова — «от реального к более реальному». «Все преходящее — только подобие», — писал еще Гёте, задолго до возникновения символизма как течения. И поскольку искусство подчеркивает это подобие органически, поскольку оно вскрывает вечную сущность этого подобия — оно от символа не откажется никогда. Но символизм, напомнивший искусству его подлинную природу, и в этом не только правый, но и праведный, сам же переступил какую-то грань. Всякое переживание естественно символично, но стараться жить символами — или писать сплавами символов — значит, искусственно свое переживание направить на несвойственный ему путь, форсировать его, а следовательно, и снизить. «Фауст» — символичен органически, и потому действует безошибочно; драмы Ибсена в значительной своей части нарочито символистичны, и потому постепенно теряют остроту и убедительность. Остается все же многое. Сквозь нарочитость у Ибсена прорывается подлинное дыхание, и многие страницы «Пер-Гюнта» или «Росмерсгольма» преображаются если не в мистерию, как думали когда-то, то хотя бы в живую человеческую драму. Но целиком не выдержало испытания, пожалуй, ни одно из ибсеновских произведений. Читать их, конечно, будут и впредь из-за прорывающейся в них человечности; но ореол поблек, атмосфера исчезла, вопрос о первых местах в мировой литературе для Ибсена разрешен отрицательно. И это, наверное, — навсегда.