Формирование схемы «субъект-объект» в философии Нового времени
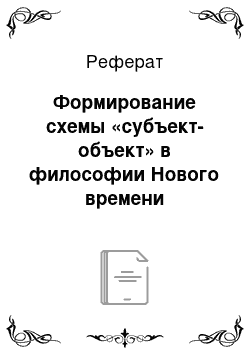
Тем самым Гюйгенс практически осуществил то целенаправленное применение научных знаний, которое и составляет основу инженерного мышления и деятельности. Для инженера всякий объект, относительно которого стоит техническая задача, выступает, с одной стороны, как явление природы, подчиняющееся естественным законам, а с другой — как орудие, механизм, машина, сооружение, которые необходимо построить… Читать ещё >
Формирование схемы «субъект-объект» в философии Нового времени (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В отличие от античного понимания науки, как принципиально отделенной от практики, наука нового времени сразу понимается, как ориентированная на практику, в каком-то смысле как часть новой практики. Галилей, открывая свое исследование о новой науке механике обращением к читателям, пишет, что гражданская жизнь поддерживается путем общей и взаимной помощи, оказываемой друг другу людьми, пользующимися при этом, главным образом, теми средствами, которые предоставляют им искусства и науки. Сходно понимает цели новой науки и Френсис Бэкон, говоря в «Великом восстановлении наук», что наукой нужно заниматься не для развлечения и не из соревнования, не ради того, чтобы высокомерно смотреть на других, не ради выгод, не ради славы или могущества или тому подобных низших целей, но ради пользы для жизни и практики и чтобы они совершенствовали и направляли ее во взаимной любви [30, с. 71].
Но каким образом, наука может помочь человеку, почему она становится необходимым условием практики? Бэкон, выражая здесь общее мнение времени, отвечает: новая наука даст возможность овладеть природой, управлять ею, а, оседлав такого «скакуна», человек быстро домчит, куда ему нужно. Великолепна юридическая аргументация Бэкона. «Власть же человека над вещами, — говорит он, — заключается в одних лишь искусствах и науках. Ибо над природой не властвуют, если ей не подчиняются… Пусть человеческий род только овладеет своим правом на природу, которая назначила ему божественная милость, и пусть ему будет дано могущество» [29, с. 192—193].
Известно, что исследования Г. Галилея и X. Гюйгенса позволили создать предпосылки для реализации этого «социального проекта». Именно Галилей показал, как строить новые науки. Для этого теорию необходимо было ориентировать на обслуживание техники, а полученные в ней теоретические характеристики изучаемых природных явлений относить не к этим явлениям, а к процессам в эксперименте, последние техническим путем приводились в соответствие с математическими построениями самой теории. В результате теория позволяла предсказывать поведение изученных природных явлений, то есть по отношению к техническому действию выступала как модель.
Гюйгенс решает задачу, которая по отношению к галилеевской выступает как обратная. Если Галилей считал заданным определенный природный процесс и далее строил знание (теорию), описывающее закон протекания этого процесса, то X. Гюйгенс ставит перед собой обратную задачу: по заданному в теории знанию (соотношению параметров идеального процесса) определить характеристики реального природного процесса, отвечающего этому знанию. На самом деле, как показывает анализ работы Гюйгенса, задача, которую он решал, была более сложная: определить не только характеристики природного процесса, описываемого заданным теоретическим знанием, но также получить в теории дополнительные знания, выдержать условия, обеспечивающие отношение изоморфизма между математической моделью и природным явлением, определить параметры объекта, которые может регулировать сам исследователь. Кроме того, выявленные параметры нужно было конструктивно увязать с другими, определяемыми на основе рецептурных соображений так, чтобы в целом получилось действующее техническое устройство, в котором бы реализовался природный процесс, описываемый исходно заданным теоретическим знанием. Другими словами, X. Гюйгенс реализует мечту и замысел техников и ученых Нового времени: исходя из научных теоретических соображений, запустить реальный природный процесс, сделав его следствием человеческой деятельности.
Тем самым Гюйгенс практически осуществил то целенаправленное применение научных знаний, которое и составляет основу инженерного мышления и деятельности. Для инженера всякий объект, относительно которого стоит техническая задача, выступает, с одной стороны, как явление природы, подчиняющееся естественным законам, а с другой — как орудие, механизм, машина, сооружение, которые необходимо построить искусственным путем. Сочетание в инженерной деятельности «естественной» и «искусственной» ориентации заставляет инженера опираться и на науку, из которой он черпает знания о естественных процессах, и на существующую технику, где он заимствует знания о материалах, конструкциях, их технических свойствах, способах изготовления и т. д. Совмещая эти два рода знаний, инженер находит те «точки» природы и практики, в которых, с одной стороны, удовлетворяются требования, предъявляемые к данному объекту его употреблением, а с другой — происходит совпадение природных процессов и действий изготовителя. Если инженеру удается в такой двухслойной «действительности» выделить непрерывную цепь процессов природы, действующую так, как это необходимо для функционирования создаваемого объекта, а также найти в практике средства для «запуска» и «поддержания» процессов в такой цепи, то он достигает своей цели.
Итак, если Галилей создал первый образец естествознания, то Гюйгенс — инженерного действия, то есть показал, как на основе знаний новой науки (позднее она получила названия «естественной») создавать технику, где бы, во-первых, реализовались уже изученные в естественной науки процессы природы, во-вторых, ими можно было управлять. Как следствие, постепенно формируется мировоззрение, что «природа написана на языке математике», представляет собой скрытый механизм, однако, в естественной науке этот скрытый механизм можно описать в форме законов природы, а в инженерии, используя эти законы, создавать реальные механизмы [84].
Мир теперь — это не произведение Творца и то, что не совсем совершенно уясняется человеком, а то, что человек может описать в новой науке и в виде второго искусственного мира техники воспроизвести практически. Успехи естествознания и инженерии все больше затеняли тот факт, что идеализированная природа (написанная на языке математики) — это всего лишь небольшой фрагмент действительности, который освоил человек, что «природа в эксперименте» не тождественна реальной природе. Но человек XVII—XVIII вв. склоняется к мысли отождествить идеализированную природу со всем миром, а естественнонаучное знания с истинным знанием о мире.
Это мироощущение как необходимое для новой науки и практики и формулируют философы нового времени — Локк, Юм, Декарт, Кант. Именно в их работах вводятся расчленения и понятия, на основе которых дальше формируется полноценная субъектно-объектная схема. Объект вводится при истолковании вещей как предметов естественнонаучного познания, а субъект, соответственно, при истолковании способностей и источника такого познания.
Подобный ход мысли был предопределен тем обстоятельством, что реальность в философии этого времени полностью редуцируется к природе и человеку, причем и то и другое понимаются как универсумы, в том смысле, что вне их ничего нет (хотя, например, признается, что человек — это «слабый тростник», но мышление сразу ставит его над природой). Бог или трансцендентальные начала здесь тоже включаются в эту реальность. В этом случае у познания два последних основания (подлежащих знания): во-первых, познаваемые вещи, получающие в этой функции имя «объект», во-вторых, познающий человек, то есть «субъект».
Первым, кто создает предпосылки для возможности мыслить объект и субъект, был Декарт. Судя по всему, он исходит из нового понимания отношения Бога к человеку и природе: хотя Творец создал и то и другое, он непосредственно не участвует в жизни природы и не руководит мыслью и поведением человека. Человек и в практических делах и в познании вынужден действовать самостоятельно. И действовал и создавал системы знаний, во-первых, не совпадающих друг с другом, во-вторых, часто неадекватно описывающих мир, то есть не являющихся истинными. Декарт же считает, что правильным (истинным) может быть только одно из мнений. Другими словами, он явно ориентируется на естествознание, а не на философию или гуманитарные дисциплины, где принцип единой истины не проходит.
Итак, необходимо было преодолеть разномыслие, связанное в данном случае не с изобретением рассуждений, как в античности, или с разными истолкованиями и пониманием Священного писания, как средних веках, а с потерей сакральных оснований мышления, с невозможностью больше прямо апеллировать к Богу. Другое затруднение возникло в связи с уже наметившимся направлением решения проблемы, а именно с обоснованием идеи нового мышления и метода. Декарт подобно Ф. Бэкону, пожалуй, даже энергичнее, утверждает, что только правильное мышление (метод), выведут человека на столбовую дорогу жизни [45, с. 80—81]. Декарт думает, что правильный ум «указывает воле», то есть направляет ее. Различие наших мнений, замечает Декарт в «Рассуждении о методе» «происходит не оттого, что одни люди разумнее других, но только оттого, что мы направляем наши мысли разными путями и рассматриваем не те же самые вещи. Ибо мало иметь хороший ум, главное — хорошо его применять» [45, с. 260].
Однако критики данного подхода справедливо спрашивали, а что значит «правильное применение ума», на что мы можем опираться, определяя «верное направление мышления», ведущее прямиком к истине? Еще одно затруднение вставало в связи необходимостью обосновать новое научное мышление, которое во главу угла в математике поставило конструирование новых счислений, например, алгебры, а в естествознании математические представления и эксперимент. С точки зрения нового научного мироощущения математические объекты создавались конструктивным путем, а физические — на основе математики и эмпирических наблюдений за естественными процессами, прошедшими, однако, экспериментальное подтверждение. В обоих случаях объекты начинают пониматься не только как идеальные, но и независимые от личности ученого (его установок и интенций), в противном случае нельзя было бы применять математику и считаться с экспериментом. В то же время еще сохранялось средневековое понимание объекта научного познания, как созданного Творцом и зависимого от личности познающего, который в акте мышления «собирал» отдельные свойства (акциденции) объекта в единство, целое. Совмещать оба эти понимания объекта (как независимого от личности ученого и зависимого), а также как порождаемого самим ученым и Творцом далее становилось невозможным.
И вот Декарт предпринимает усилия, чтобы, во-первых, освободить ученого от непосредственной опеки со стороны Творца в плане научного мышления, во-вторых, от опеки в плане творейия объектов, в-третьих, от онтологической опеки, когда объекты понимаются, как зависимые от личности познающего. Правда, при том условии, что одновременно Декарту приходится обосновывать свои новации в духе времени. Этот же дух по-прежнему задавался институтами церкви и религиозного образования. А следовательно, Декарт в своих построениях и обоснованиях вынужден, и достаточно искренни, пока еще обращаться к Богу.
Например, формулируя правила морали, оправдывающие его подход, Декарт пишет, что «первое — это подчиняться законам и обычаям своей страны, блюдя религию, в которой по милости бога он воспитан с детства» [45, с. 275]. На убеждении в существовании Бога основываются у Декарта и доказательства того, что исходные начала науки требуют ясного и отчетливого осознания, а также, почему наше знание описывает объективную реальность. «Ибо подобно тому, — говорит он, — как объективное искусственное осуществление этой идеи должно иметь в чем-нибудь причину — именно или в знании этого мастера, или в знании того, от кого он получил эту идею, — так точно невозможно, чтобы находящаяся в нас идея бога не имела причины в самом боге» [45, с. 287, 333].
Итак, Декарт убежден, что именно совершенный бог делает наше мышление ясным и эффективным, помогая «не совсем совершенному» человеку постигать объективное состояние дел в мире. Но ведь, я сказал, что Декарт должен был решить вроде бы прямо противоположную задачу — помочь человеку (ученому) стать независимым от бога! Чтобы разобраться в этом противоречии, замечу, что нужно различать реальное дело и его осознание (обоснование), о чем. кстати, писал сам Декарт [45, с. 276]. Так вот, Декарт делает одно, но осознает то, что он делает, в такой форме, которая скрывает истинное назначение его усилий. Скрывает для общественного сознания, но не для тех, кто пробивается к новому. Тем не менее, каким же образом Декарт решает свои задачи?
Мир, описанный в философии Декарта — это мышление как форма существования самого Декарта, а также мир, состоящий из двух сущностей — мыслительной (духовной) субстанции и материи. «Далее — мышление, — пишет Декарт, разбирая то, что можно считать существующем безусловно, — тут я нахожу, что мышление — атрибут, который принадлежит мне; оно одно не может быть отстранено от меня. Я есмь, я существую — это достоверно. На сколько времени? На столько, сколько я мыслю, ибо возможно и то, что я совсем перестал бы существовать, если бы окончательно перестал мыслить… Следовательно, я, строго говоря, — только мыслящая вещь, то есть дух (esprit), или душа, или разум (entendement), или ум (raison)» [45, с. 344]. В «Началах философии» Декарт определяет мышление так: «Под словом мышление (cogitation) я разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою; и потому не только понимать, желать, воображать, но также чувствовать означает здесь то же самое, что мыслить» [45, с. 429]. Эта первая реальность мира Декарта — мышление как форма существования его самого. Теперь вторая реальность.
«Главнейшее же различие, какое я замечаю между всеми сотворенными вещами, состоит в том, что одни вещи — интеллектуальные, иначе говоря, субстанции мыслящие (cogitantes), или свойства, относящиеся к такого рода субстанциям, другие вещи — материальные, то есть тела или свойства присущие телам. Восприятие, воление и все виды (modi) как восприятия, так воления относятся к мыслящей (cogitans) субстанции; к телам (corpora) относятся величина — то есть протяжение в длину, ширину и глубину, — фигура, движение, расположение и делимость частей и прочие свойства» [45, с. 446].
Сравнение характеристик мышления в первом случае (как мышления-существования самого Декарта) и во втором (как мыслящей субстанции), показывает, что в первом случае мышление описано с внутренней позиции, а во втором — с внешней. Причем в обоих позициях мышление характеризуется не только как мысль, но и более широко, включая все основные способности души. Сила, посредством которой мы собственно познаем вещи, отмечает Декарт, является в отличие от материальных вещей «чисто духовной» и называется сообразно ее различным функциям «чистым интеллектом, воображением, памятью или чувством» [45, с. 124, 125]. Но как, спрашивается, связаны между собой мышление как существование самого Декарта и мышление как мыслящая субстанция? Вроде бы, это разные вещи. И почему Декарту пришлось противопоставить мышление и материальные веши?
Первая характеристика мышления была необходима Декарту, с одной стороны, чтобы оправдать возможность самостоятельного мышления, то есть без направляющего божественного разума (поэтому мышление — это то же самое, что и существование), с другой — для объяснения чисто психологического ощущения мыслителя-творца, открывающего с помощью мысли и усилий своей души целые миры (поэтому мышление в самосознании Декарта, так же, кстати, как и у многих эзотериков, совпадает с творением и открытием мира). С третьей стороны, эта характеристика мышления позволяла оправдать идею метода, поскольку Декарт утверждает, что если человек чтонибудь и может строго контролировать, так только свою мысль [45, с. 277—278].
Противопоставив мышление (во втором понимание) как непротяженную духовную субстанцию и материальные протяженные вещи, Декарт, с одной стороны, обосновывает роль познания и науки (они описывают материальные вещи), с другой — оправдывает галилеевское понимание природы, как написанной на языке математике, и понимание науки, как оперирующей гипотезами и математическими моделями. Действительно, ведь материальные вещи у Декарта — это чисто интеллектуальная конструкция (тот же идеальный объект), они характеризуются строго определенными свойствами — пространственными характеристиками, формой, делимостью частей и др., то есть как раз теми, на которые указывает Галилей. В письме к Мерсенну от 1633 г. Декарт пишет: «Я сознаюсь, что если учение Галилея ложно, то ложны и все основания моей философии, так как они взаимно опираются друг на друга» [45, с. 20].
М. Мамардашвили в своей книге о Декарте обращает внимание на еще один важный момент, а именно, что последний дает такое описание природы, которое окончательно освобождает ее от воздействий и прихотей и Бога и познающего человека (ведь не надо забывать, что с точки зрения средневекового и ренессансного человека ученый, концепируя, как бы поворачивает вещь к себе, собирает ее нужным для себя способом). Утверждая, что акт творения мира необратим (Бог создал мир и в нем установились законы, независимые от воли Творца), что душа мыслит без тела, что материальные вещи не имеют души (не субъекты; но ведь именно как субъекты понимались вещи в средние века), Декарт создает условия для новой науки и мышления [64, с. 117, 160, 171—172].
Итак, подлинный мир Декарта — это двойной мир мышления (самого мыслящего и объективно наблюдаемого мышления), порождающий и описывающий мир материальных вещей. Мир, порождаемый в акте (процессе) мышления, и одновременно порожденный Творцом. Конечно, речь не идет об обычном человеке и эмпирическом Я. «Я» Декарта — это «мыслящая вещь», мышление, это, как говорит Декарт, «среднее между ничто и богом». Другими словами, мыслящий человек из ничего с помощью мышления (рассуждений — отсюда «среднее», средний термин силлогизма) творит свое существование и мир вещей (бытие). Здесь невольно вспоминаются средневековые схемы творения Богом мира из ничего. Впрочем, по Декарту человек — хоть и не столь совершенен как Бог, но все же достаточно на него похож и, что существенно, может бесконечно увеличивать степень своего совершенства. Несмотря на некоторую парадоксальность, данные характеристики человека и Я вполне выполняют свое назначение, объясняя возможность самостоятельного мышления и познания мира.
Не менее важная характеристика «декартовского человека» — наличие у него способности познавать истинное строение действительности, не исключая самого человека и, отчасти, Творца. Эта способность обеспечивается, с одной стороны, идеями, рождающимися вместе с человеком (эти идеи по Декарту обеспечивают доступ души к божественному знанию, а ведь именно Бог знает, как устроен мир), с другой — особым строением мыслительного аппарата, как бы приспособленного для истинного отображения мира (Мамардашвили называет это принципом «индивидуации»), с третьей стороны, способность познавать истинное строение действительности Декарт связывает с правильным мышлением, то есть таким, которое следует методу [64, с. 52, 187].
Но если душа может получать прямой доступ к реальности (которую можно назвать галилеевско-декартовской), иначе говоря, познавать ее, то почему тогда человек ошибается и заблуждается? Декарт отвечает так: во-первых, здесь сказываются особенности нашей воли, свободно выбирающей не то, что нужно, во-вторых, наше познание зависит как от возможностей материального тела, так и нашего развития. «Откуда же, — спрашивает Декарт, — рождаются мои заблуждения? Очевидно, только из того, что воля, будучи более обширной, чем ум (entendement), не удерживается мной в границах, но распространяется также на вещи, которых я не постигаю. Относясь сама по себе к ним безразлично, она весьма легко впадает в заблуждение и выбирает ложь вместо истины и зло вместо добра; поэтому я ошибаюсь и грешу» [45, с. 376—377].
В «Началах философии» Декарт специально рассматривает основные причины наших заблуждений и ошибок: работу и ограниченность человеческих чувств, предубеждения детства, утомляемость ума, отождествление понятий со словами [45, с. 457—462].
Таким образом, вырисовывается следующая схема. На пути к истинному познанию природы и человека, которое производится мышлением, в частности, на основе идей, рожденных вместе с человеком, стоят преграды, обусловленные природой его воли, тела и детства. Чтобы их преодолеть, человек должен правильно мыслить, что предполагает опору на метод.
Подведем итог. Вслед за Галилеем Декарт утверждает новое мироощущение, предполагающее, разделение действительности на два плана — природу и мышление, а также убеждение, что правильное мышление адекватно описывает природу. Материальные протяженные вещи — источники познания со стороны природы, человек как «мыслящая вещь» — источник познания со стороны мышления. В этой схеме нетрудно усмотреть прообраз будущей схемы «объект-субъект». Наконец, и Галилей и Декарт, говоря о природе и мышлении, имеют в виду прежде всего «природу, написанную на языке математики» и мышление в естествознании, ориентированное на инженерию. Именно поэтому, обсуждая важную роль Декарта в становлении европейской субъективности, Хайдеггер пишет, что только со времени Декарта человек становится субъектом, и «вступает на путь ничем не ограничиваемого представляюще-исчисляющего раскрытия сущего» [112, с. 290]. Я это понимаю так, что, когда человек открывает законы природы и затем использует их для расчета и создания в инженерии машин, он реализует вполне определенное («представляющее-исчисляющее») понимание природы.
Следующий шаг делает Давид Юма, он уже широко используется понятие «объект». И понятно, почему ему понадобилось это представление. Юм считает, что познание основывается главным образом на опыте, основным источником которого выступают объекты и впечатления от них. «Человек, — пишет Юм, — рожден преимущественно для деятельности и в своих поступках руководствуется вкусом и чувством, стремясь к одному объекту и избегая другого… весь материал мышления доставляется нам внешними или внутренними чувствами… знание причинности отнюдь не приобретается путем априорных заключений, но возникает всецело из опыта, когда мы замечаем, что отдельные объекты постоянно соединяются друг с другом… Всякая вера в факты или реальное существование основана исключительно на каком-нибудь объекте, имеющимся в памяти или восприятии, и на привычном соединении его с каким-нибудь другим объектом… Итак, существует род предустановленной гармонии между ходом природы и сменой наших идей» [120, с. 5, 24, 35, 62, 74].
Здесь очевиден параллелизм знаний («идей», «мыслей») и объектов природы, а также то, что именно с помощью объектов Юм объясняет происхождение и строение знания. При этом у него нигде не говорится о субъектах, что и понятно, ведь источник знания (подлежащее) — не человек, а природа и ее объекты. Напротив, когда Кант принципиально меняет объяснение познания, считая, что источником знания выступает человек, ему приходится ввести понятие субъекта. «Но свет, — пишет Кант, — открылся тому, кто первый доказал теорему о равнобедренном треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам a priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения). Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он может лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вложенного им самим сообразно его понятию… Естествоиспытатели поняли, что разум видит то, что сам создает по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти вперед согласно постоянным законам и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем… не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием, а это лучше согласуется с требованием возможности априорного знания о них, которое должно установить нечто о предметах раньше, чем они нам даны… Что же касается предметов, которые мыслятся только разумом, и притом необходимо, но которые (по крайней мере так, как их мыслит разум) вовсе не могут быть даны в опыте, то попытки мыслить их (ведь должны же они быть мыслимы) дадут нам затем превосходный критерий того, что мы считаем измененным методом мышления, а именно что мы a priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими» [51, с. 86—88].
Размышляя, каково же последнее основание и источник познания, которое Кант понимает как связывание, синтез данных рассудка, он приходит к идее субъекта, понимаемого как одно из условий осуществления данных операций. «Все многообразное в созерцании, — пишет Кант, — имеет… необходимое отношение к [представлению] я мыслю в том самом субъекте, в котором это многообразие находится… только в силу того, что я могу постичь многообразное представлений в одном сознании, я называю все их моими представлениями; в противном случае я имел бы столь же пестрое разнообразное Я (Selbst), сколько у меня есть сознаваемых мной представлений… синтетическое единство апперцепции есть высший пункт, с которым следует связывать все применение рассудка, даже всю логику и вслед за ней трансцендентальную философию; более того, эта способность и есть сам рассудок» [51, с. 191—192, 193]. А субъект-это место, источник синтетического единства апперцепции. Правда, это «место» в «Критике чистого разума» Кант задает трансцендентально, поскольку оказывается, что другим условием синтетического единства апперцепции, действующим на уровне разума, является Бог. Истолковывая разум одновременно как разумную деятельность людей и как органическое разумное целое (существо), действующее посредством мышления людей, Кант получает предположительную возможность не только отождествить Бога с этим разумным существом, то есть с разумом, но даже приписать Творцу антропоморфные характеристики [51, с. 581—582, 588, 589]. Понятно, что на личностном уровне (то есть вне философского дискурса, на уровне непосредственного ощущения реальности) Кант был убежден, что Бог и есть разум. Здесь он продолжает аристотелевскую традицию.
Стоит еще отметить, что уже у Декарта, тем более у Канта познающий человек («мыслящая вещь», субъект) — это теоретическая конструкция, обосновывающая и объясняющая основания и источники познания. Можно сказать и иначе: субъект конституируется в особой практике — познании, характерном для культуры нового времени, познании, которое артикулируется и структурируется в плане оппозиции двух начал — человека и мира. В онтологическом плане такому сконструированному человеку помимо всего прочего приходится приписать способность самопознания. Это связано с тем, что, с одной стороны, человек рассматривается как универсум (он ничем не детерминирован и не обусловлен извне), с другой — должен реализовать вполне определенные процедуры мышления, соответствующие адекватному познанию. Выход один, намеченный еще Аристотелем, замкнуть мышление на само себя и одновременно истолковать его как самодеятельную и самоконституирующую сущность, например, как бога.
Идея Бога у Декарта, замечает Л. Микешина, «выполняет по существу функцию трансцендентального субъекта, непогрешимого и совершенного «сознания вообще». Итак, человек расколот внутри себя не только на мыслящую и телесную субстанции — уже как субъект он обретает свою эмпирико-трансцендентальную двойственность (термин М. Фуко), скрывающуюся за своего рода «дополнительностью» несовершенного индивида и совершенного Бога. Однако «субъектом оказывается при этом не полнота человеческого существа, a cogito, наблюдающее, между прочим, и за человеком» [67, с. 136—137].
К каким сложным проблемам приводит такое решение видно из разъяснений Фихте. «Приходится сталкиваться с вопросом, — пишет последний, — что такое был я до того, как я пришел к самосознанию? Естественный ответ на это таков: я не был ничем, так как я не был Я. Я есть лишь поскольку, постольку оно сознает само себя. — Возможность подобного вопроса зиждется на смешении Я как субъекта, с Я как объектом рефлексии абсолютного субъекта, и вопрос этот сам по себе совершенно недопустим. Я представляю самого себя… и только тогда становится нечто, объектом. Сознание получает в этой форме некоторый субстрат, который существует и в отсутствии действительного сознания и к тому же мыслится телесным. Представляя себе такое положение вещей затем спрашивают: что такое был я до тех пор, т. е. что такое субстрат сознания? Но и в таком случае незаметно для себя примысливают абсолютный субъект как субъект, созерцающий этот субстрат… Ничего нельзя помыслить без того, чтобы не примыслить своего Я, как сознающего себя; от своего самосознания никогда нельзя отвлечься» [102, с. 73—74].
Здесь обращают на себя внимание два момента. Во-первых, Фихте рассуждает вполне последовательно: если уж ничего кроме сознания нет, то Я до самосознания не существует. Во-вторых, при заданных Декартом и Кантом предпосылках приходится пользоваться категориями «субъект» и «объект», то есть новая мыслительная практика заставляет конституировать соответствующую реальность (с этого момента уже можно говорить о существовании субъектов и объектов). Другое дело, если эти предпосылки перестают работать.