Проблема бытия и небытия как предметов научного познания
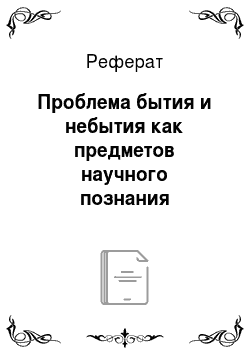
Проблема, однако, заключается в том, чтобы определить методологические принципы действительно научного, а не произвольно-интуитивного моделирования будущего — трудно признать, например, отвечающим научному критерию необходимости и достаточности перечисление авторитетным на Западе футурологом Э. Корнишем «92 изменений в нашей жизни к 2025 году» — новообразований в сфере техники, экономики… Читать ещё >
Проблема бытия и небытия как предметов научного познания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
С исторического момента рождения науки и до середины XIX в. исходным в теории познавательной деятельности было определение бытия как ее предмета; многообразие наук объяснялось множеством форм бытия, его уровней, свойств, закономерностей, проявлений. В конечном счете философы стали изучать закономерности строения мира наук (весьма обстоятельный историографический обзор осуществлен в монографии А. П. Огурцова [86], классификационный подход к проблеме был полвека тому назад реализован Б. М. Кедровым [87], а не так давно по-новому В. М. Розиным [88]). В главе данной книги, посвященной морфологическим проблемам, была предложена трактовка этой проблемы, проистекающая из членения бытия, обоснованного автором, и потребности культуры в полноте познания бытия. Развивая эту тему в свете проблематики настоящей главы, сформулирую кажущийся парадоксальным тезис: потребности культуры в знании выходят за границы бытия и включают сферу небытия во всех ее проявлениях, что делает небытие предметом научного познания. Как это, однако, возможно — познавать то, чего нет?
Здесь еще раз проявляется различие между содержанием онтологических категорий «небытие» и «ничто»: последнее, действительно, не может быть предметом познания, поскольку оно обозначает отсутствие всего, абсолютное отсутствие, тогда как небытие есть отсутствие конкретного бытия и потому ставит ряд вопросов, на которые наука должна искать ответы, — вопросов, связанных с отношением небытия и данного бытия: является оно «еще-не-бытием» этого бытия, или его «уже-не-бытием», или его фантасмагорически-невозможным «псевдобытием», или его неосуществленным, но возможным «ино-бытием». Так, историческая наука, археология и палеонтология изучают «ужене-бытие» безвозвратно ушедшего прошлого; психологическая наука и психоанализ исследуют процессы порождения психического псевдобытия (с одной стороны, деятельность фантазии, предвидение, художественное творчество, с другой, сновидения и бред); марксизм претендовал на создание теории «научного коммунизма», противостоящей ненаучной конструкции «еще-не-бытия» человечества в виде «утопического социализма», но практика показала, что и он не стал действительно научным моделированием будущего, и в конце XX в. социологическая мысль вырабатывала способы реального прогнозирования грядущего в социальных процессах, что вылилось в формирование особой дисциплины — футурологии. Открытые синергетикой закономерности процессов самоорганизации диссипативных систем предоставили научному познанию социального, культурного, персонального будущего новые методологические принципы — идею аттрактора, однако в ее применении к изучению развития антропосоциокультурных систем сделаны еще только первые шаги. В частности, в упоминавшихся работах В. П. Бранского и С. Д. Пожарского наметилось продуктивное движение от «социальной синергетики» к «синергетическому историзму», который обосновывает реальные возможности научного познания небытия будущего. Опыт реализации этих возможностей проделан и мной в монографии «Введение в историю мировой культуры».
Не претендуя, естественно, на полноту решения данной методологической проблемы в настоящей книге, ограничусь формулированием его исходного онтологического принципа: научное познание всех форм небытия возможно постольку, поскольку оно дедуцирует небытие из бытия, так что во всех случаях предметом познания фактически является бытие. Так, палеонтолог, археолог, историк культуры занимается останками, сохранившимися фрагментами былого бытия, которые стали доступны непосредственному исследованию; футуролог познает будущее, как если бы оно было настоящим; психиатр, психоаналитик работает с фантазиями, бредом, сновидениями как «превращенными формами» бытия, когда предметом познания становится сам процесс «превращения»; искусствовед, эстетик имеет дело с художественнообразным «ино-бытием» в произведениях искусства.
Эту гносеологическую коллизию понял уже гениальный Августин. Рассматривая в «Исповеди» парадоксальные метаморфозы течения времени, он говорил о способности и необходимости нашего воображения превращать прошлое и будущее в настоящее: «Те, кто рассказывает о прошлом, не рассказывали бы о нем правдиво, если бы не видели его умственным взором», следовательно, для этого рассказчика оно уже «не прошлое,… а настоящее»; «Детства моего, например, уже нет, оно в прошлом, которого уже нет, но когда я о нем думаю и рассказываю, то я вижу образ его в настоящем…» И далее он совершенно справедливо заметил: «Не по сходной ли причине предсказывают будущее?.. Когда мы приступим к нему и начнем осуществлять предварительно обдуманное, тогда только действие и возникает, ибо тогда оно уже не в будущем, а в настоящем», само же это обдумывание, «это таинственное предчувствие будущего», есть способность его увидеть, но «увидеть можно ведь только то, что есть, а то, что есть, это уже не будущее, а настоящее» [89].
До теоретического обоснования синергетикой возможности научного познания будущего как «еще-не-бытия», играющего роль аттрактора для реализации его возможности стать «наличным бытием» как «сейчас-бытием», выход социальных наук за пределы изучения настоящего мог быть только интуитивным, а в сочинениях социалистов-утопистов — Т. Мора, Т. Кампанеллы, Дж. Уинстенли, а затем Р. Оуэна, Ш. Фурье, Н. Г. Чернышевского — чисто декларативным; характерно, что в большинстве случаев эти идеи излагались не в теоретической, а в художественно-образной форме, не требующей научной аргументации, как, например, в поэтическом пророчестве Р. Бернса:
Настанет день, и час пробьет, Когда уму и чести На всей земле придет черед Стоять на первом месте.
При всем при том, При всем при том, Могу вам предсказать я, Что будет день, Когда кругом Все люди станут братья!
Разрабатываемые футурологией прогнозы должны базироваться на социологическом, демографическом и культурологическом анализах экономических и иных социальных процессов. Изданная И. В. Бестужевым-Лада «Антология современной классической прогностики. 1952— 1999» [90] показывает, что представляет собой современная футурология, ее сильные и ее слабые стороны, но главный вывод, который она позволяет сделать, таков: познание будущего может иметь научный характер. Примечательно, что такой выдающийся ученый, как М. Кастельс, утверждая в предисловии к русскому изданию своей уже цитированной книги, что он «категорически против футурологии, так как она не является серьезной, научной дисциплиной, однако делает вид, что говорит нам, как будет выглядеть мир, влияя, таким образом, на политиков и бизнес», в дальнейшем замечал, что он имел в виду только «крайности футурологии» [91], называл Маршалла Маклюэна «великим провидцем» и сам неоднократно высказывал прогностически-футурологические суждения.
Проблема, однако, заключается в том, чтобы определить методологические принципы действительно научного, а не произвольно-интуитивного моделирования будущего — трудно признать, например, отвечающим научному критерию необходимости и достаточности перечисление авторитетным на Западе футурологом Э. Корнишем «92 изменений в нашей жизни к 2025 году» — новообразований в сфере техники, экономики, политики, коммуникаций, туризма, досуга, основанного на развлечениях с помощью электроники, даже секса, названного «киберсексом», без каких-либо предположений об управляющей всем этим грядущей системе ценностей, о нравственных принципах, о духовных потребностях человека в кибернетическом мире! И хотя футуролог как будто понимает, что «от того, как мы распорядимся великой кибернетической машиной, будет зависеть, превратится ли она в Молох или в Мессию», он воздерживается от прогнозирования вероятности господства того либо другого — даже в разделе «Изменения в сфере культуры» все свел к прогнозам относительно грядущих «информационных технологий».. [92].
На рубеже XX и XXI веков проблема познания возможного будущего и различения, говоря языком Н. А. Бернштейна, будущего «потребного» и, так сказать, «непотребного», приобрела такое значение в практической жизни человечества, что стала одним из основных предметов деятельности ЮНЕСКО: она организовала серию дискуссий «Беседы о XXI веке» и «Диалоги о XXI веке», привлекая к ним крупнейших ученых большинства стран Европы, Америки, Азии и Африки, и публикует под редакцией Ж. Бенде материалы обсуждения ими проблемы движения человечества в новое столетие [93].
Синергетика предоставила футурологическому направлению современного обществознания и культурологии новые методологические возможности — показательно, что один из сборников материалов этих дискуссий открывается рассуждением И. Пригожина, которое завершается таким выводом: «Если новые парадигмы науки ставят под вопрос веру в то, что мир подчинен детерминизму, т. е. поддается предвидению, если XXI век проходит под знаком конца определенности, каково же тогда будущее у будущего? Изменчивый и неясный характер будущего означает, что, по определению, оно не может быть объектом научного исследования. Именно здесь приходит на помощь научное прогнозирование, которое не в состоянии предсказать того, что будет завтра, пытается путем междисциплинарного исследования, применяющего точные научные знания, предугадать то, что нас ждет, раскрыть в настоящем ростки возможного будущего и построить будущее, подготовив его наступление уже сегодня» [94].
Разъясняя методологические основы такой научной позиции, И. Пригожин ссылался на разработанную синергетикой «концепцию разветвления, самоорганизации и диссипативной структуры, которая все глубже и глубже проникает во все науки, в том числе и в гуманитарные…» и позволяет построить вероятностную модель движения из настоящего в будущее: «При разветвлении обычно предоставляется много возможностей, именно поэтому природа непредсказуема. Выбрать возможность, которая будет реализована, это и является проблемой вероятности», ибо «у будущего теперь много вариантов» [95].
К сожалению, среди 80 (!) участников данной дискуссии не было ни одного российского ученого, хотя проблемы научного прогнозирования и проектирования обсуждаются у нас, и весьма продуктивно, уже несколько десятилетий — об этом свидетельствуют и множество конкретных публикаций наших футурологов, и вышедшая еще в 1980 г. монография В. Н. Ярской, обобщившая сложившееся к тому времени состояние прогностической мысли [96], и обсуждение перспектив, которые открывает тут синергетика. В частности, Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, характеризуя применение принципов синергетики к решению проблем социального управления, подчеркивали: «Важно понять, что социальные системы, как и любые сложные системы, имеют не один единственный, а несколько альтернативных путей эволюции. Путей эволюции много, и они определяются спектрами структур-аттракторов социальных сред как сред открытых и нелинейных»; поэтому «будущие формы социальной организации открыты в виде веера предопределенных возможностей. Проходы в будущее неоднозначны, но они узки. Существуют определенные „коридоры“ эволюции» [97]. Отсюда последовал вывод, в корне изменивший традиционные представления об историзме как законе познания развивающихся систем, сформулированный Гегелем и принятый основоположниками марксизма: с синергетической точки зрения, «развитие определяется не столько прошлым, историей, традициями системы, сколько будущим, структурами-аттракторами эволюции» и что «можно смоделировать спектры структур-аттракторов, спектры „целей“ саморазвития социальных систем»; так оказывается возможной «детерминация процессов эволюции из будущего» [98], иными словами — детерминация бытия из небытия.
Таким образом, синергетика доказывает, что научное изучение «еще-не-бытия» будущего, свободное от идеологических пристрастий, в принципе возможно, но это познание стохастическое, т. е. определяющее грядущее как спектр возможностей, каждая из которых имеет свою степень вероятности осуществления, в зависимости от совокупности многих объективных и субъективных обстоятельств; распознать среди них наиболее вероятно осуществимую и должна наука. Понятно, что историку сделать это легче, чем футурологу, ибо в прошлом действие аттрактора осуществилось и его остается только «вычислить», а «распознать» его в будущем можно лишь предположительно — проверка точности прогноза будет произведена потомками.
В методологии научного познания мира модернистский и постмодернистский субъективизм произвел весьма чувствительные разрушения; если в естествознании и математике подобное теоретизирование, которое отожествляет объективное с субъективным, науку с мифологией, понятийный язык с метафорическим, наталкивается на непробиваемое сопротивление практики технического воплощения этих идей, то в социально-гуманитарно-культурологическом знании подобного критерия либо нет, либо он выкажет свое действие в более или менее отдаленном будущем, и потому здесь существует достаточно широкий простор для всяческого скептицизма, субъективизма, релятивизма, короче, для отрицания научности всего того, что относится к области humanities. Это означает, что здесь снимается онтологическая проблема бытия как предмета познания (Л. П. Репина убедительно показала это, исследовав методологические установки так называемой «новой исторической науки» [99]).
В исторически сложившихся в культуре способах познания отношений бытия и небытия есть еще один любопытный аспект, отличающийся и от религиозного, и от художественного, и от научного — я имею в виду антитезу документального и мнимо-документального описаний (изображений, фиксаций) бытия. Потребность в первом имманентна культуре, ибо порождена необходимостью фиксировать теми или иными средствами произошедшее либо кажущееся таковым для его запоминания потомками. Но одновременно с этой потребностью сформировалась и противоположная — потребность в обмане, т. е. в заведомом (в отличие от неосознаваемого мифологически-религиозного и осознаваемого художественного) обмане человека человеком, когда ложь сознательно выдается за правду, в обыденной жизни это называется грубоватым словечком «вранье», а в современной политической, дипломатической, коммерческой, военной практике — научным термином «дезинформация».
Д. И. Дубровский справедливо подчеркнул в своем эссе «Обман. Философско-психологический анализ», что «ложное, неверное сообщение, способное ввести в заблуждение того, кому оно адресовано», должно рассматриваться «не только в правовом, а также и в этическом и социологическом планах, и при этом исследоваться не только в индивидуально-психологической, но и в социально-психологической плоскости», и более того — в «широком философском плане, включающем его анализ в таких „измерениях“, как онтологическое, гносеологическое, аксиологическое и праксеологическое» [100]. Польский ученый М. Мазур, разрабатывая «качественную теорию информации», специально рассмотрел явления «псевдоинформирование», «дезинформирование», «метаинформирование» и показал на множестве примеров из различных сфер человеческой деятельности (от бытовой до военной и политической), какое жизненно-реальное значение имеет то, что на языке теории информации звучит весьма абстрактно: «Симуляционное дезинформирование — дезинформирование, при котором некоторые кодовые цепи не содержат оригиналов» [101]. Вот несколько приводимых автором примеров: «случаи, когда в военных сводках говорится о победоносных сражениях, в то время как на самом деле никаких сражений не было; когда правительство какой-либо страны обвиняет правительство другой страны во враждебных действиях, которых то на самом деле не совершало; когда политическая партия нападает на своих противников за слова, которых никто не произносил; когда редакция газеты, чтобы заинтересовать своих читателей, выдумывает сенсационные новости („газетные утки“)» и т. д. [102]. Совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с такой онтологической ситуацией, когда происходит подмена сообщения о бытии сообщением о небытии, предназначенная, однако, для его восприятия реципиентом как описания бытия ради воздействия в желательном направлении на поведение последнего. В данном случае не имеет значения, с корыстными, преступными или благими («ложь во спасение») целями и сознательно или бессознательно осуществляется обман — с онтологической точки зрения, значение имеет лишь то, что перед нами специфический аспект метаморфоз бытия и небытия. С культурологической же точки зрения, это весьма значимо: сопоставив уже приводившееся пушкинское определение нравственно-эстетической позиции романтизма «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман» с обманом партнера при игре в карты, мы поймем, что «обман обману рознь»; и еще проще — мы противоположным образом оцениваем деятельность Штирлица, который обманывал наших врагов, и аналогичные действия вражеских агентов, обманывавших нас (эти структурно идентичные деятельности обозначаются даже разными словами, содержащими противоположные оценки и эмоциональные ореолы: «разведчик» и «шпион»). Так высвечивается аксиологический аспект онтологии культуры: поскольку ценность рождается при соотнесении оцениваемого объекта с идеалом как формой небытия, она оказывается производной от отношений бытия и небытия.
Но вступив в культуре на аксиолого-онтологическое поле, мы сразу же сталкиваемся с внутренней ее проблемой — взаимоотношением двух основных ценностей, по-разному представляющих отношения бытия и небытия: религиозной и нравственной формами ценностного сознания.