Послание в лирике В.А. Жуковского
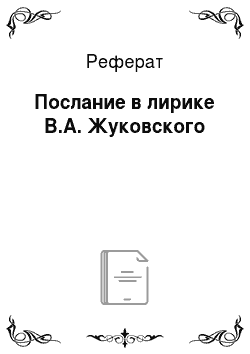
Это представление о способности поэзии преодолевать ограниченность земной жизни развивается в дружеских посланиях Жуковского. В послании «К Батюшкову» (1812) утверждается избранность поэта по сравнению с другими людьми и его способность преодолевать границу между земным и небесным. Здесь же разворачивается аллегорическая картина царства Фантазии, которая называется богиней и сближается с фигурами… Читать ещё >
Послание в лирике В.А. Жуковского (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Из русских поэтов прошлого века особенно часто обращался к жанру послания В. А. Жуковский. Среди его адресатов друзья-поэты и лица власть предержащие. По случаю рождения 17 апреля 1818 г. великого князя, будущего императора Александра II поэт обращается к его матери — супруге великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) с посланием. Характерно, что Жуковский остановился вопреки традиции на послании, а не на оде, как это было принято. Показательно и другое: обращение к матери позволило Жуковскому сделать акцент на этом событии как на семейном, а не государственном. Начиная свое послание «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича», поэт передает подобающее случаю, охватившее его волнение, затем произносит хвалу материнству в чисто религиозном плане. В традиции IV эклоги Вергилия, которая трактовалась как предсказание о рождении Христа, Жуковский возглашает [Пронин В. А. Теория литературных жанров — М.: Поспект 2009 С.100]:
Гряди в наш мир, младенец, гость желанный!
Завершается послание назиданием в просветительском духе:
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет Святейшего из званий: человек.
Жить для веков в величии народном, Для блага всех — свое позабывать, Лишь в голосе отечества свободном С смирением дела свои читать.
Вот правила царей великих внуку.
С тобой ему начать сию науку [Пронин В. А. Теория литературных жанров — М.: Поспект 2009 С.101].
Для В. А. Жуковского авторство как служение подразумевает «серьезную» литературную деятельность.
В.А.Жуковский разделяет свое творчество на прагматически различающиеся сферы. Условно говоря, это произведения «для себя и друзей» и произведения «для потомства». К первому разряду можно отнести всю так называемую «домашнюю поэзию», балладу, дружеское послание; второй менее определен в жанровом отношении: это «крупные» жанры — поэма, драма, но также элегия, «высокое» послание и др. Зачастую принадлежность произведения к числу «домашних» или предназначенных «для потомства» определяется контекстом; так, в письме 1814 года к Александру Тургеневу Жуковский именует «дрянью» практически все свои стихотворения — кроме послания «Императору Александру», которое для поэта чрезвычайно важно. Решающим является авторское отнесение текста к одной из групп, обусловленное замыслом, а не жанровой принадлежностью [Зорин А. Послание «Императору Александру» В. А. Жуковского и идеология Священного союза // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 113].
А. Л. Зорин в статье «Послание „Императору Александру“ В. А. Жуковского и идеология Священного союза» указывает, что именно работа над этим произведением «составляет для него основное творческое содержание осени 1814 года» 8. На наш взгляд, это некоторое смещение исследовательской оптики. Действительно, Жуковский понимает, что предпринятый труд в случае успеха обеспечит ему почетное место среди русских поэтов, и потому ответственность очень велика. Но все приведенные ученым цитаты взяты из писем к А. И. Тургеневу, который, по словам А. Л. Зорина, в кругу друзей Жуковского «как бы представлял Библейское общество, князя Голицына, а в некотором смысле и самого императора» 9. Апелляция к А. Тургеневу объяснялась, по нашему мнению, и тем высоким нравственным авторитетом, которым он пользовался в глазах Жуковского — и за личные качества, и в уважение к памяти его брата Андрея. Личность адресата неизбежно влияет на оценку Жуковским своих поэтических произведений; ср., например, в том же письме А. Тургеневу 1814 года:
Что тебе сказать одним словом о всех моих поделках, кроме этого Послания? Переведены четыре баллады, да две сочинены, да еще три послания к Вяземскому, не считая всякого рода мелкой дряни, и годной, и негодной. Все это доставлено будет к тебе вместе с прочим, переписанное и совсем готовое для печати. А я теперь принимаюсь за новый подвиг. Певец во стане, предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на кремлевских развалинах, посреди народа, пришедшего благодарить Творца побед. Итак, жди нового Певца; место — Кремль; слушатели граждане Москвы; время — день Рождества Христова [Зорин А. Послание «Императору Александру» В. А. Жуковского и идеология Священного союза // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 113].
Жуковский четко отделяет здесь «важное» от «неважного»: послание императору и замысел «Певца в Кремле» — «подвиг», другие произведения — «мелкая дрянь». Однако такое деление существует лишь в своей системе координат, точнее в письмах Тургеневу, которые прагматически ориентированы на создание образа «поэта-патриота», призванного заменить собой образ «балладника» в глазах широкой аудитории. Согласно письму Жуковского, два первых стихотворения — гражданские деяния, адресатами их являются император и «народ русский». Остальные литературные опусы предназначены вниманию «публики», рядовых читателей: они будут напечатаны в первой части «Стихотворений Василия Жуковского» в 1815 году. Собрание включает и «гражданские» произведения — они открывают книгу. Перед читателем предстает сначала «новый» Жуковский, «певец двенадцатого года», затем — уже известный публике «балладник» .
Уже в начале своего литературного пути В. А. Жуковский тщательно отбирает произведения. Поэтому предназначенное к печати заведомо не может быть для автора незначительным, «дрянью». При этом Жуковский тщательно расставляет акценты, рассчитанные на понимание адресата и дальнейшее транслирование в определенной аудитории. В этой системе послание «Императору Александру» находится на верхней ступени иерархии, стихотворения «Библия», «К самому себе», «Теон и Эсхин» квалифицируются как «мелкая дрянь», а домашняя шуточная поэзия не существует вовсе.
В посланиях Жуковского часто встречается образ неземного существа, вестника с небес, возвышающего человека и преобразующего его жизнь. В настоящей статье будет предпринята попытка описания эволюции этого образа.
В ранней элегии Жуковского «Вечер» появляется мотив явления Музы на берегу ручья. Муза здесь изображена в духе эмблематической традиции «в венке из юных роз, с цевницею златой» и является аллегорией вдохновения, при этом в ее облик включаются знаки типично сентименталистской эстетики, которые затем повторяются в описании самого певца: Муза склоняется «задумчиво» и поет «туманный вечер» [Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Л., 1959.].
В стихотворении «Моя богиня» (1809) богиня Фантазия помещается в окружение античных мифологических существ и богов, персонифицирующих абстрактные понятия — Мудрость, Рассудок, Надежду. Таким образом сама Фантазия аллегорически соотносится с этими понятиями. В стихотворении осмысляется вклад Фантазии в организацию мироустройства. Этот вклад связан с преодолением времени: она украшает однообразие вечности и разрушает скованность настоящим. «Вымыслы» и «сны» Фантазии утешают Зевса «в скуке бессмертия», а смертным, отмеченным «Зевесовой благостью», Фантазия дает утешение, радость и отличает их этим от остальных, которые:
С очами незрящими, В слепых наслаждениях, С печалями смутными, Гнетомые бременем Нужды непреклонныя, Начавшись, кончаются В кругу, ограниченном Чертой настоящего, Минутною жизнию" [Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Л., 1959.].
Это представление о способности поэзии преодолевать ограниченность земной жизни развивается в дружеских посланиях Жуковского. В послании «К Батюшкову» (1812) утверждается избранность поэта по сравнению с другими людьми и его способность преодолевать границу между земным и небесным. Здесь же разворачивается аллегорическая картина царства Фантазии, которая называется богиней и сближается с фигурами Невинности, Беспечности, Славы, Веселья и противопоставляется Скуке, Суете, Алчности, Мести и Зависти. Мысли о поэзии, однако, содержат в себе и долю сомнения в ее способности давать человеку свободу. Мечта, вечная спутница поэта, представляется, с одной стороны, безусловно положительным, возвышающим человека началом, а с другой — иллюзорным, обманчивым. Поэт же, как и любой человек, оказывается подверженным земным законам и обречен страдать от утрат. Но эти сомнения преодолеваются мыслью о том, что, несмотря на трагическое несовпадение между земным и небесным миром и на обреченность поэта страдать в земном, поэзия помогает противостоять Року. Она озаряет «мглу» низкой действительности и дает силы быть равнодушным «к бедам». Тогда как сам поэт, чтобы соответствовать «служенью муз», должен быть человеком с чистой душой, доступной «лишь благам неизменным», и соединять в себе «младенца чистоту / С величием свободы» [Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Лениздат 1959.].
В посланиях «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» («Друзья, тот стихотворец — горе…») (1814) и «К Вяземскому. Ответ на его послание к друзьям» (1814) утверждается боговдохновенность поэта. Поэтому закономерно возникают соответствующие аллегорические образы: Аполлон, который внушает поэту страсть к творчеству и в святилище которого поэта влечет «крылатый проводник» Гений, и Муза — богиня поэта. Поэтический дар является доказательством независимости поэта от людского мнения и его права прислушиваться только к «избранным судиям». При этом поэзия связывает поэта с будущими поколениями и таким образом преодолевает время.
В рассмотренных стихотворениях аллегорические фигуры Музы, Фантазии, Гения служат своеобразным подтверждением тому, что поэзия имеет своим источником нечто, лежащее за пределами эмпирической реальности. Небесное происхождение объясняет и особую природу поэзии — ее способность преодолевать время и жить после смерти своего создателя, возвышать человека и освобождать его от поглощенности исключительно земными проблемами, воодушевлять его, зажигать в его душе «пламень» и пробуждать этот «пламень» в душах читателей. Эта философия совмещает в себе представление о несовершенстве мира и мысль об избранности поэта, включенности его в особый круг друзей, что нейтрализует в лирике Жуковского разницу между такими, казалось бы, противоположными, жанрами, как элегия и дружеское послание.
В любовной лирике Жуковского присутствуют послания. В одном из стихов посланий поэт выразил свое разочарование в любви, всю горесть безнадежных чувств. Как ни велики были страдания Жуковского, в сердце его не было ревности. Об этом говорит и его послание «К Мойеру» :
Счастливец! Ею ты любим, Но будет ли она любима так тобою, Как сердцем искренним моим, Как пламенной моей душою!
Возьми ж их от меня и страстию своей Достоин будь судьбы своей прекрасной!
Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и всё напрасно, Когда нельзя всего отдать на жертву ей [Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.: Лениздат 1959.].
Рассматривая лирические послания Жуковского нельзя не отметить связь двух великих поэтов: Жуковского и Батюшкова.
Природа в поэзии Жуковского окружена тайной, его пейзажи призрачны и почти нереальны, словно отражения в воде.
Чувствительная, нежная и мечтательная душа Жуковского как будто сладко замирает на пороге «оного таинственного света». Поэт, по меткому выражению Белинского, «любит и голубит свое страдание», однако страдание это не уязвляет его сердце жестокими ранами, ибо даже в тоске и печали его внутренняя жизнь тиха и безмятежна. Поэтому, когда в послании к Батюшкову, «сыну неги и веселья», он называет поэта-эпикурейца «родным по Музе», то трудно поверить в это родство. Скорее мы поверим добродетельному Жуковскому, который дружески советует певцу земных наслаждений: «Отвергни сладострастья погибельны мечты!» .
Батюшков — фигура во всем противоположная Жуковскому. Это был человек сильных страстей, а его творческая жизнь оборвалась на 35 лет раньше его физического существования: совсем молодым человеком он погрузился в пучину безумия. Он с одинаковой силой и страстью отдавался как радостям, так и печалям: в жизни, как и в ее поэтическом осмыслении, ему — в отличие от Жуковского — была чужда «золотая середина». Хотя его поэзии также свойственны восхваления чистой дружбы, отрады «смиренного уголка», но его идиллия отнюдь не скромна и не тиха, ибо Батюшков не мыслит ее без томной неги страстных наслаждений и опьянения жизнью. Временами поэт так увлечен чувственными радостями, что готов безоглядно отринуть гнетущую мудрость науки:
Ужели в истинах печальных Угрюмых стоиков и скучных мудрецов, Сидящих в платьях погребальных Между обломков и гробов, Найдем мы жизни нашей сладость?
От них, я вижу, радость Летит, как бабочка от терновых кустов.
Для них нет прелести и в прелестях природы, Им девы не поют, сплетаясь в хороводы;
Для них, как для слепцов, Весна без радости и лето без цветов.
Подлинный трагизм редко звучит в его стихах. Лишь в конце его творческой жизни, когда он стал обнаруживать признаки душевного недуга, под диктовку было записано одно из его последних стихотворений, в котором отчетливо звучат мотивы тщеты земного бытия:
Ты помнишь, что изрек, Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родился человек, Рабом в могилу ляжет, И смерть ему едва ли скажет, Зачем он шел долиной чудной слез, Страдал, рыдал, терпел, исчез [Анисемова А.О. В. А. Жуковский И К. Н. Батюшков — Первые русские поэтыромантики — Минск 2000].
В послании к Батюшкову, «сыну неги и веселья», Жуковский называет поэта-эпикурейца «родным по Музе», то трудно поверить в это родство. Скорее мы поверим добродетельному Жуковскому, который дружески советует певцу земных наслаждений: «Отвергни сладострастья погибельны мечты!» .