Множественный язык.
Критика и истина
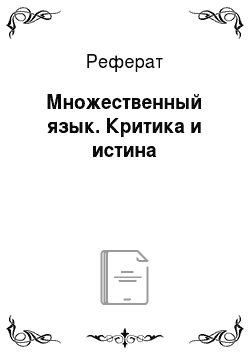
При этом, конечно, меняется само определение произведения; отныне оно оказывается уже не историческим, а антропологическим явлением, ибо никакая история не в силах его исчерпать. Сказанное значит, что разнообразие «смыслов не проистекает от релятивистского взгляда на человеческую нравственность и не свидетельствует о склонности общества к заблуждению; оно свидетельствует о предрасположенности… Читать ещё >
Множественный язык. Критика и истина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Жанр интимного Дневника был рассмотрен социологом Аленом Жираром и писателем Морисом Бланшо с двух весьма различных точек зрения Girard A. Le Journal intime. Paris, 1963; Blanchot M. L’Espace litte-raire. Paris, 1955. P. Для Жирара Дневник представляет собой способ запечатления известного числа социальных, семейных, профессиональных и т. п. обстоятельств; для Бланшо же это мучительный способ отсрочить неминуемое одиночество, на которое обрекает письмо. Итак, Дневник несет в себе по меньшей мере два смысла, и каждый из них правомерен в силу того, что обладает собственной внутренней логикой. Это самое обычное явление, и примеры ему можно найти как в плане истории критики, так и в самом множестве изменчивых прочтений, которым поддается одно и то же произведение; подобные факты свидетельствуют по меньшей мере о том, что произведение обладает несколькими смыслами.
В самом деле, любая эпоха может воображать, будто владеет каноническим смыслом произведения, однако достаточно раздвинуть немного границы истории, чтобы этот единственный смысл превратился во множественный, а закрытое произведение — в открытое Eco U. Oeuvre ouverte. Paris, 1965.
При этом, конечно, меняется само определение произведения; отныне оно оказывается уже не историческим, а антропологическим явлением, ибо никакая история не в силах его исчерпать. Сказанное значит, что разнообразие «смыслов не проистекает от релятивистского взгляда на человеческую нравственность и не свидетельствует о склонности общества к заблуждению; оно свидетельствует о предрасположенности произведения к открытости; произведение разом содержит в себе несколько смыслов в силу своей структуры, а не в силу ущербности тех людей, которые его читают. Именно в этом и состоит его символичность: символ — это не образ, это сама множественность смыслов Мне, конечно, известно, что в семиологии слово символ имеет совершенно иной смысл; там, напротив, символическими считаются такие системы, в которых «можно установить одну такую форму, где каждой единице выражения «будет взаимооднозначно соответствовать определенная единица содержания». Подобные системы противостоят семиотическим системам, где необходимо «постулировать две различные формы (одну для плана выражения, другую для плана содержания), не предполагающие соответствия между ними» (Ruwet N. La linguistique generate aujourd’hui//Archives europeennes de Sociologie. 1964. N 5. P. 287).
Очевидно, что согласно этому определению символы принадлежат те области символики, а области семиотики. Однако в предварительном плане я сохраняю за словом символ тот общий смысл, который придает ему П. Рикёр и который удовлетворяет моим дальнейшим рассуждениям («Символ есть там, где язык создает сложно организованные знаки и где смысл, не довольствуясь указанием на предмет, тут же указывает на другой смысл, способный раскрыться только внутри и через посредство первого смысла» (Riсоеur Р. De l’lnterpretation, essai sur Freud. Paris, 1965. P. 25).
Символ устойчив. Меняться может лить осознание его обществом, равно как и те права, которыми оно его наделяет. В средние века символическая свобода была не только узаконена, но в известном смысле даже кодировалась, как это видно из теории четырех смыслов Буквальный, аллегорический, моральный и анагогический (21). Само собой разумеется, что при этом существовало русло, по которому все смыслы устреи" -лялись к апагогическому.; напротив, классическое общество приспосабливалось к этой свободе с немалым трудом: оно либо отрицает ее напрочь, либо — что имеет место в современных пережиточных формах такого общества — подвергает цензуре; история символов и их свободы нередко оказывается историей насилия над ними, и, конечно же, в этом тоже есть свой смысл, а именно: символы не позволяют цензуровать себя безнаказанно.
Как бы то ни было, это уже институциональная, а не структуральная, если можно так выразиться, проблема: что бы ни воображали и ни декретировали те или иные общества, произведение преодолевает их границы, проходит сквозь них наподобие формы, которую поочередно наполняют более или менее возможные исторические смыслы. Произведение «вечно» не потому, что оно навязывает различным людям некий единый смысл, а потому, что внушает различные смыслы единому человеку, который всегда, в самые различные эпохи говорит на одном и том же символическом языке: произведение предлагает, человек располагает.
Всякий читатель — если только он не позволяет цензуре буквы запугивать себя — знает об этом.
Разве не чувствует он своей причастности к некоему запредельному по отношению к тексту миру, так, словно первичный язык произведения взращивает в нем иные, новые слова и учит говорить на вторичном языке? Так бывает в снах. Однако и в снах, по выражению Башляра, проложены свои маршруты, и это те самые маршруты, которые расстилает перед словом вторичный язык произведения.
Литература
— это способ освоения имени: всего из нескольких звуков «Если я вас правильно понимаю, — писал Малларме Франсису Вьеле-Гриффену, — вы обосновываете привилегированное положение поэта, ссылаясь, на несовершенство того инструмента, которым ему приходится пользоваться; если бы существовал некий гипотетический язык, способный адекватно передать, его мысль, он уничтожил бы литератора, который в силу указанного обстоятельства должен был бы называться господин Первый Встречный» (цит. по: Richard J. -P. L’Univers imaginaire de Mallarme. Paris, 1961. P. 576)., составляющих слово Германты, Пруст сумел вызвать к жизни целый мир. В глубине души писатель всегда верит, что знаки не произвольны и что имя присуще каждой вещи от природы. Писатели держат сторону Кратила, а не Гермогена (22). Это значит, что мы должны читать тем же способом, каким пишем […], ведь если бы у слов был только один смысл, тот, который указан в словаре, если бы вторичный язык не нарушал и не раскрепощал «достоверные факты языка» , — не было бы и литературы. Вот почему правила чтения произведения — это не правила его буквального понимания, а правила проникновения в его аллюзивные смыслы; это не филологические, а лингвистические правила.
Недавно новую критику несколько раз упрекнули в том, что она препятствует выполнению педагогических задач, которые, как кажется, по самому своему существу состоят в том, чтобы научить читать. С другой стороны, старая риторика претендовала на то, чтобы научить писать:она устанавливала правила творчества (подражания), а не правила восприятия. Можно спросить, себя: не умаляем ли мы роли чтения, изолируя свойственные ему правила? Умение хорошо читать потенциально предполагает умение хорошо писать, а это. значит: писать в соответствии с логикой символов.
В самом деле, задача филологии заключается в установлении буквального смысла высказывания, однако ей совершенно неподвластны его вторичные смыслы. Напротив, лингвистика стремится не к устранению многосмысленности языка, а к ее пониманию и, если так можно выразиться, к ее институированию. Явление, с давних пор известное поэтам под именем суггестивности или внушающей силы слова, ныне начинает привлекать и внимание лингвистов, которые пытаются придать научный статус самой, переливчатости смыслов. Роман Якобсон особо настаивал на. многосмысленности как на неотчуждаемом свойстве поэтического-(литературного) сообщения (23); это отнюдь не значит, будто подобная многосмысленность вытекает из известной эстетической концепции, утверждающей «свободу» в истолковании текста, и в еще меньшей степени она предполагает моральный контроль над вытекающими отсюда опасностями; это значит, что такую многосмысленность можно сформулировать в категориях кода: символический язык, которому принадлежат литературные произведения, по самой своей структуре является языком множественным, то есть языком, код которого построен таким образом, что любая порождаемая им речь (произведение) обладает множеством смыслов. Подобная предрасположенность свойственна уже языку в собственном смысле слова, характеризующемуся гораздо большей неопределенностью, чем принято думать; этим явлением как раз начинает заниматься лингвистика Greimas A.J. Cours de Semantique. Paris, 1964 (в особенности гл. VI об изотопии дискурса). Между тем неоднозначность практического языка — ничто по сравнению с многосмысленлостью языка литературного.
В самом деле, все двусмысленности практического языка устраняются самой ситуацией, в рамках которой они появляются. Вокруг любой, пусть даже самой неоднозначной фразы, всегда имеет место нечто такое — контекст, жест, воспоминание, — что подсказывает нам, каким образом мы должны ее понимать, если хотим практически использовать сообщаемую информацию; смысл проясняется благодаря внешним условиям, в которых существует текст.
Ничего подобного не происходит с произведением: произведение лишено для нас внешних условий, и, быть может, это-то и определяет его лучше всего. Оно не окружено, не обозначено, не предохранено, не сориентировано никакой ситуацией. Здесь отсутствует чья бы то ни было практическая жизнь, которая могла бы подсказать, каким именно смыслом следует его наделять. В нем всегда есть нечто от цитаты. Неоднозначность явлена в нем в чистом виде. Сколь бы пространным ни было произведение, ему непременно свойственна какая-то заведомо пророческая лаконичность, оно состоит из слов, соответствующих первичному коду (ведь и Пифия не говорила несуразностей), и в то же время остается открытым навстречу сразу нескольким смыслам, ибо слова эти были произнесены вне контекста какой бы то ни было ситуации, если не считать саму ситуацию многосмысленности: ситуация, в которой пребывает произведение, — это всегда пророческая ситуация.
Разумеется, привнося свою ситуацию в совершаемый мною акт чтения, я тем самым могу устранить многосмысленность произведения (что обычно и происходит). Однако именно в силу того, что эта ситуация непрестанно меняется, она организует произведение, но отнюдь его не обнаруживает. С того момента, как я сам подчиняюсь требованиям символического кода, лежащего в основе произведения, иными словами, обнаруживаю готовность вписать свое прочтение в пространство, образованное символами, — с этого момента произведение оказывается не в силах воспротивиться тому смыслу, которым я его наделяю.
Однако оно не может и удостоверить этот смысл, ибо вторичный код произведения имеет не предписывающий, а ограничительный характер: он намечает смысловые объемы, а не смысловые границы текста; он учреждает многосмысленность, а не один какой-нибудь смысл.
Именно потому, что произведение изъято из любой ситуации, оно и позволяет осваивать себя: перед лицом человека, который пишет или читает такое произведение, оно превращается в вопрос, заданный самому языку, чью глубину мы стремимся промерить, а границы — прощупать. В результате произведение оказывается способом грандиозного, нескончаемого дознания о словах. Обычно символ принято считать прерогативой одного только воображения. Однако символ обладает также и критической функцией, и объектом такой критики оказывается не что иное, как сам язык. Можно вообразить себе, что различные Критики Разума, которые дала нам философия, будут дополнены Критикой Языка, и этой критикой окажется сама литература.
Итак, если верно, что произведение, в силу своей структуры, обладает множественным смыслом, то это значит, что оно делает возможным существование двух различных видов дискурса. Ибо, с одной стороны, можно нацелиться разом на все смыслы, которые оно объемлет, или, что-то же самое, на тот полый смысл, который всем им служит опорой, а с другой — можно нацелиться лишь на какой-нибудь один из этих смыслов. Эти два дискурса ни в коем случае не следует смешивать, ибо различны как их объекты, так и санкции, которыми они располагают. Можно предложить назвать наукой о литературе (то есть о письме) тот общий дискурс, объектом которого является не тот или иной смысл произведения, но сама множественность этих смыслов, а литературной критикой — другой дискурс, который открыто, на свой страх и риск, возлагает на себя задачу наделить произведение каким-нибудь конкретным смыслом. Однако этого разграничения недостаточно. Поскольку акт наделения смыслом способен принять письменную форму, а может осуществиться и про себя, мы станем отличать чтение произведения от его критики: чтение имеет непосредственный характер, критика же опосредована неким промежуточным языком, каковым является письмо самого критика. Итак, Наука, Критика и Чтение — вот те три типа слова, которые нам необходимо обозреть, чтобы сплести вокруг произведения его языковой венок.