Авторские беседы с читателем в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»
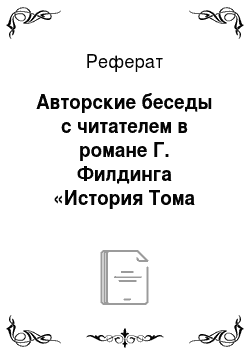
В отличие от так и оставшейся анонимной «Шамелы» и не сразу обретшей автора «Истории Джозефа Эндруса и его друга Абрама Адамса», авторское повествование «Тома Джонса» сознательно маркировано: уже на обложке первого издания романа было обозначено имя писателя «Генри Филдинг, сквайр». Очевидно, что писатель из всех своих романных сочинений придает наибольшее значение именно этому. Следует отметить… Читать ещё >
Авторские беседы с читателем в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Авторские беседы с читателем в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша»
Одной из самых важных особенностей романного повествования в эпоху Просвещения являлось стремление говорить от имени героя, «натурализовать» художественный текст, превратить его не в сочинение того или иного литератора, а в публикацию подлинных мемуаров, дневников или писем, так или иначе попавших в руки «издателя». С. Ричардсон как создатель образцового эпистолярного романа XVIII в. вписывается в эту тенденцию абсолютно органично. Иначе обстоит дело с его постоянным полемическим собеседником и соперником Г. Филдингом.
Введение
образа автора в текст романа основное новаторство Г. Филдинга, поскольку писатель явным образом идет вразрез с общей тенденцией романного повествования своего времени, когда маскируется «литературность», «романность» текста, предстающего перед читателем как «найденная рукопись», «частные письма», «интимный дневник», когда повествование передается герою или героине, а автор чаще всего оказывается «издателем» случайно попавшего ему в руки текста или пересказчиком выслушанной из уст персонажа истории.
Как верно заметила О. Ю. Анцыферова, «по своей природе, воплощая „самосознание искусства“, роман всегда, в более или менее явной форме, рефлектирует над своей „литературностью“, над природой своих, как артефакта, взаимоотношений с действительностью» [1]. В процессе становления романного самосознания просветительский роман занимает особо важное место, а пальму первенства часто отдают именно Г. Филдингу. Для Г. Леблана например, основной смысл «Тома Джонса» вообще «заключен в его повествовательном обрамлении, а не в сюжете» [2].
В отличие от так и оставшейся анонимной «Шамелы» и не сразу обретшей автора «Истории Джозефа Эндруса и его друга Абрама Адамса», авторское повествование «Тома Джонса» сознательно маркировано: уже на обложке первого издания романа было обозначено имя писателя «Генри Филдинг, сквайр». Очевидно, что писатель из всех своих романных сочинений придает наибольшее значение именно этому. Следует отметить и то, что в сравнении с предшествующим романом пространство авторской рефлексии в «Истории Тома Джонса» существенно расширяется: уже в посвящении «Достопочтенному Джорджу Литльтону, эсквайру, Лорду Уполномоченному Королевства» содержатся размышления писателя о созданном им произведении; сам роман состоит из восемнадцати книг, каждая из которых предваряется особой главой-критическим эссе. И этим «орнаментальным частям своего труда», как называет их сам автор, он уделяет большое внимание, считает их «необходимым элементом этого, созидаемого нами литературного жанра» (т. 1; кн. 5, гл. 1, с. 203) / «…to be essentially necessary to this kind of writing, of which we have set ourselves at the head» (p. 145).
Помимо этого, авторские рассуждения, замечания, оговорки постоянно встречаются и по ходу развертывания романного действия, порой повторяются, в чем отдает себе отчет и сам повествователь. Он пишет об этом во вступительной главе к шестнадцатой книге: «Наши теперешние прологи повторяют все те же три темы. Именно: поношение вкусов столичной публики, осуждение всех современных писателей и восхваление данной пьесы… Подобным же образом какой-нибудь будущий повествователь (если он окажет мне честь подражанием моей манере), боюсь, и меня помянет… каким-нибудь добрым словом за изобретение этих вступительных глав, большая часть которых, подобно нынешним прологам, может предварять любую книгу этой истории…» (т. 2; кн. 16, гл. 1, с. 325). Отчетливое стремление проговорить авторскую позицию, «проартикулировать свой манифест прозаического повествования» [3] и дать собственный, отличающийся от ричардсоновского «лицемерного» назидания, урок морали, расширяет границы авторского пространства, но это широта носит не экстенсивный, а скорее интенсивный характер. Внешне продолжая разрабатывать концепцию «героико-комической эпической поэмы» (комического эпоса), Г. Филдинг гораздо меньше, чем в первом романе, прибегает к пародийному «выворачиванию наизнанку» топосов героической поэмы или галантно-героического романа, натурализуя и миниатюризуя саму форму авторских размышлений.
Еще в посвящении Филдинг определяет предмет своего повествования («образ подлинно доброжелательной души») и его цель: «я искренне старался изобразить доброту и невинность в самом выгодном свете» (т. 1; посвящение, с. 23), однако цель эта двоится, поскольку автор уточняет, что пишет о том, что его покровитель «прочтет с наибольшим удовольствием» (а, значит, стремится не только «поучать», но и «развлекать» и развлекать с выгодой для себя), к тому же писатель предлагает не статичный безукоризненный портрет «прекрасной души», а историю ее злоключений, доказывая, что «добродетель и невинность могут быть поставлены в опасное положение разве только опрометчивостью, которая одна лишь вовлекает их в ловушки, расставляемые обманом и подлостью» и при этом «гораздо легче сделать добрых людей умными, чем дурных хорошими» (т. 1; посвящение, с. 24).
Двойственно-компромиссная моральная позиция Г. Филдинга дополняется столь же двойственной эстетической позицией, подробно представленной во вступительных главах. В отличие от тех предромантических тенденций, которые исследователи неоднократно замечали в английской литературе эпохи Просвещения, порой даже преувеличивая их, и в которых писатель ценит свою индивидуальность, оригинальность, филдинговский повествователь подчеркивает свою служебную роль по отношению к читательским вкусам, необходимость удовлетворять эти вкусы в силу своей профессии: «Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги» (т. 1; кн. 1, гл. 1, с. 29) / «An author ought to consider himself, not as a gentleman who gives a private or eleemosynary treat, but rather as one who keeps a public ordinary, at which all persons are welcome for their money» (p. 3).
У. Эко по поводу данной фразы повествователя замечает, что в ней Г. Филдинг «четко сформулировал идею о романе как о произведении-продукте, создаваемом для определенного рынка» [4]. Безусловно, если учесть, что современное литературоведение именно к XVIII столетию возводит истоки массовой беллетристики, предполагающей отношение к книге как товару, с этим утверждением можно согласиться. Во втором томе романа (кн. 13, глава 1) «рыночность» намерений автора выражена даже еще более явно: «Мне не надо твоего вдохновения не лиши меня только заманчивых твоих даров: блестящих звонких монет и легко размениваемых банковских билетов, таящих в себе невидимые богатства…» (т. 2; кн. 13, гл. 1, с. 174).
В то же время «коммерческая стратегия» романиста эпохи Просвещения не равна коммерциализации современной массовой литературы уже в силу ироничности подобных авторских сентенций. Да и «угодливость» повествователя не только иронична и двойственна (см. предыдущую цитату или «мы заботимся не только о собственной репутации и удобствах, но также о благе и интересах читателя: ведь этим способом мы избавляем его от потери времени, которое уходит на нудное и бесполезное чтение…» (т. 2; кн. 12, гл. 1, с. 111), но имеет четкие границы: «Пусть же не удивится читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие и очень длинные главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы… Я не считаю себя обязанным отвечать за это ни перед каким критическим судилищем» (т. 1; кн. 2, гл. 1, с. 74). Или: «О читателях, которые на основании сказанного, усомнятся в мудрости или проницательности мистера Олверти, я без стеснения скажу, что они дурно и неблагодарно пользуются сообщаемыми мною сведениями» (т. 2, кн. 12, гл. 5, с. 128). Или: «Пораскинь же умом; хотя в трудных местах мы всегда готовы подать тебе посильную помощь… однако не будем потакать твоей лени там, где от тебя требуется одно только внимания» (т. 2, кн. 11, гл. 9, с. 101 102). Игра между «угодливостью» и «строптивостью» повествователя, как видим, ведется Филдингом на протяжении всего романа. Писатель рисует своего повествователя профессионалом, мастером, отнюдь не полагаясь только на вдохновение, воображение или пренебрегая знаниями: «Грациозности танцмейстера ничуть не вредит изучение танцевальных па; ремесленник тоже, я думаю, владеет своим инструментом не хуже оттого, что выучился обращаться с ним я не могу допустить, чтобы Гомер или Вергилий писали с большим огнем, если бы не были образованнейшими людьми своего времени…» (т. 2; кн. 14, гл. 1, с. 227). Знание писательского ремесла для Филдинга не менее важно, чем вдохновение или воображение; скорее, оно даже более важно, поскольку, с точки зрения романиста, «природа может снабдить нас только способностями или, как я предпочитаю выражаться образно, орудиями нашей профессии; образование должно приспособить их к употреблению, должно преподать правила, как ими пользоваться» (т. 1., кн. 9, гл. 1, с. 484).
Мастерство, знание ремесла особенно значимо и потому, что Филдинг, подобно Ш. Сорелю, не пренебрегает правдоподобием, исключает из «естественного» воображения сферу фантастического: «As for elves and fairies and other such mummery, I purposely omit the mention of them… we must keep likewise within the rules of probability» (с. 23). Стараясь изображать «вероятное», повествователь неоднократно возвращается в своих размышлениях к проблеме правдоподобия и правды, естественного как к основе читательского доверия к рассказываемому. Он уточняет, в частности: «To say the truth, if the historian will confine himself to what really happened, and utterly reject any circumstance, which, though never to well attested, he must be well assured is false, he will sometimes fall into the marvelous, but never into the credible» (P. 301) / «Правду сказать, если историк будет ограничиваться тем, что действительно происходило, и, несмотря ни на какие свидетельства, беспощадно отбрасывать все, что, по его твердому убеждению, ложно, он будет иногда впадать в чудесное, но его рассказ никогда не покажется невероятным» (т. 1, кн. 8, гл. 1, с. 396).
С самого начала, таким образом, устанавливаются и проходят через все текстовое «поле» авторской рефлексии два главных собеседника писатель и читатели, которым рассказчик полагает себя обязанным представить «не только общее меню всего нашего угощения, но также особые карты каждой перемены кушаний». «Картография» романов XVII столетия (аллегорическое описание либо внутреннего пространства человеческого чувства Карта нежности в романе «Клелия» М. де Скюдери, либо внешнего пространства человеческой жизни маршрут героя в «Пути паломника» Д. Бэньяна) в процессе характерной для рококо миниатюризации сжимается до «карты блюд», то есть меню. Тем самым образ авторского пространства харчевни-кухни дан явно не как эпический, а как специфически романный, частный, закрытый, хотя и не непроницаемо-замкнутый, впускающий в себя разнообразных «посетителей» — читателей. В конце романа Филдинг предложит другое сравнение образ почтовой кареты, наполненной читателями-пассажирами, однако и в нем можно констатировать ту же пространственную закрытость, приватность. Пассажиры филдинговской кареты не смотрят за окно, на дорогу, а ведут беседы друг с другом: «если им и случалось немного повздорить и посерчать дорогой, они под конец обычно все забывают…». Если проследить эволюцию метафор произведения от Ренессанса до эпохи Просвещения и поставить в эту перспективу роман Филдинга, то мы увидим постепенный переход от образа книги-ребенка («органическая метафора» Возрождения) к образу книги учебника, энциклопедии, карты (XVII век), а от него к образу книги-помещения (харчевни, кареты, дома). Пространственная интериоризация, как кажется, являет собой необходимый этап в выработке приватного взгляда романиста на мир и человека.
филдинг правдоподобие найденыш компромиссный.