Лингвокультурологический анализ классического и актуализирующего типов прозы
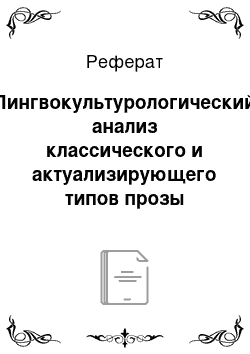
Читая работы лексикологов о современных процессах в лексике, все время возвращаешься мыслью ко второй парадигме культуры ХХ века и к ее современному постмодернистскому этапу. То безудержное смешение стилей, лексико-семантических полей, устаревших церковно-славянских слов и мощной волной хлынувшей заимствованной новой лексики — то, что отмечают лексикологи как характерный процесс наших дней… Читать ещё >
Лингвокультурологический анализ классического и актуализирующего типов прозы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Н.Д. Арутюнова обратила внимание на то, что актуализирующий синтаксис противопоставлен классическому. Экспрессивность первого основана на нарушении последнего. Классический синтаксис определяется соответствием актуального членения предложения его грамматической структуре; совмещенностью грамматических и интонационных единиц; разделенностью модуса и диктума; уточнением, отделкой, развитием синтагматических, в том числе и межпредложенческих, связей; актуализацией высказывания, в основном, при помощи личной формы глагола. Новый, актуализирующий синтаксис разрушает эту гармоническую систему иерархии, пропорций, соответствия. На смену тонко нюансированным связям идет расчленение, самостоятельное предицирование каждого компонента информации, разрушение иерархии. Соответствие грамматической структуры и актуального членения разрушается, грамматические и интонационные единицы начинают не совпадать, модус и диктум перестают расчленяться.
И действительно, когда на фоне усложненного, длиной на полстраницы, предложения, где четко проработаны все связи, тончайше выражены все отношения, где грамматическому компоненту соответствует его интонационный рисунок, когда на этом фоне появляется рубленая фраза, где каждый компонент информации самостоятельно предицирован и представляет собой предложение, где интонационные границы фразы не совпадают с грамматическими границами предложения, где член предложения может быть так же оформлен грамматически и пунктуационно, как и все предложение в целом, где тонко нюансированные связи и отношения заменены соположением, — как не сопоставить это с полотнами кубистов, где изображаемое порублено плоскостями на плохо стыкуемые фрагменты, с картинами, где рука наездницы может протянуться через всю арену (П. Пикассо). То, что Ю. М. Лотман назвал «минус-приемом», т. е. отсутствием привычного, пронизывает поэтику искусства и языка ХХ века, только прием стал принципом, а минусуется гармония, иерархия, перспектива, мелодия, все то, что является святая святых первой парадигмы, эстетики культургуманизма.
Нарушение, а часто и отказ от естественных связей, соотношений, пропорций, взаиморасположения, в искусстве авангарда, искусстве второй, альтернативной парадигмы, мне кажется, аналогичны происходящему в синтаксисе русского языка процессу ослабления и распадения связей, нарушению естественного совпадения, грамматических и интонационных границ предложения, широкому использованию грамматически не связанных структур.
На нарушении синтаксических связей строится широко распространившаяся в наше время (и не только в языке художественной литературы) парцелляция. Это «речевая презентация предложения в виде нескольких коммуникативно самостоятельных сегментов одного высказывания» .
Довольно и одного творения Такого творца. Через кожу Вы воспринимаете и чужие души, и это верней. Ибо в этой области Вы — виртуоз (М. Цветаева).
Само собой напрашивается сравнение с распространенным особенно у кубистов приемом среза плоскостями одного предмета. Например, портреты Пикассо или «Город» Фернана Леже, изображенный на перекрывающих одна другую плоскостях. Эти срезы привлекают внимание зрителя настолько, что поднимающиеся по лестнице люди в центре картины воспринимаются упрощенными до геометрической простоты бесцветными деталями механизма машины.
Чем сильнее связи, нарушаемые интонационным делением на самостоятельные отрезки, тем сильнее экспрессивность такой конструкции. Наименее выразительно нарушение сочинительной связи.
Между тем на шоссе становилось все веселее. Все больше встречных и попутных (В. Аксенов). Что ж, придет час. И не так уж он далек (В. Гроссман).
Разделение сложносочиненного предложения точкой на два простых вообще не воспринимается как парцелляция, ведь может же простое предложение связываться сочинительными союзами с предыдущим в тексте.
И вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песчаным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную, затоваренную бочкотару. И сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, манящей, улетающей нежности (В. Аксенов).
Однако нарушение сильных подчиненных связей создает эффект, приковывая внимание читателя к каждому парцелляту.
Мы в догонялки играем, дурачок! С воеводой (В. Шукшин).
Да и сам-то… Не задумывайся шибко (В. Шукшин) Чем сильнее связь, тем реже встречается ее разрыв, и в этом, видимо, ключ к повышенной экспрессивности. Если парцелляция вообще основана на эффекте обманутого ожидания (читатель ждет единого предложения с единым интонационным рисунком), то особенно сильно это ожидание обмануто там, где связи сильны, где, казалось бы, нельзя разделить связанные компоненты.
Самая! Удобная! В мире! Бухта! (С. Куваев).
Парцелляция как конструкция, основанная на нарушении гармонии, соответствия между грамматической конструкцией и ее интонационным рисунком, очень характерна для экспрессивных средств разных видов искусства авангарда. Ведь искусство ХХ века строит свою выразительность на «плевке общественному вкусу», на несоответствии, дисгармонии. Как здесь не вспомнить здание Культурного центра им. Ж. Помпиду в Париже (архитектура Р. Пиано и Р. Роджерс), где все коммуникации: трубы горячей и холодной воды, канализации, отопления, вентиляции, газоснабжения и даже прозрачные тубусы для лифта — все вынесено изнутри и расположено вдоль внешних стен здания, иначе говоря — на улице. Как здесь не вспомнить скульптуру С. Дали — слона на ногах жирафа или картину того же С. Дали «Телефон-омар», где на телефонном аппарате вместо трубки лежит… омар!
Еще более прямую аналогию парцелляции в языке представляет прием живописцев и графиков разбивать на части объект изображения. Например, на картине Марселя Делоне «Эйфелева башня» последняя разобрана на части и как бы сложена их этих отдельных частей.
Интересно, что абстракционист В. Кандинский, пытался, как и многие модернисты начала века, теоретически осмыслить свое искусство, объяснял его новизну, обращаясь за аналогией к языку. Доказывая, что простые, само собой разумеющиеся азы графики и живописи — точка и линия — в новом искусстве перерождаются, приобретая свое, особое значение (вспомним «самовитое слово» футуристов). И что важно нам, точку в живописи он сравнивал с точкой — пунктуационным знаком, с ее преображением в новом, неожиданном месте, рассуждая о ее, по сути дела, экспрессивности в середине предложения. Иначе говоря, сам Кандинский проводит параллель между принципами экспрессии абстракционистов и парцелляцией в языке: «Точка — это единство бытия и небытия, связь молчания и речи… Задача состоит в том, чтобы вырвать точку из узкого круга ее обычного значения и заставить ее внутренние свойства звучать более ясно. Мертвая точка становится живым существом… Точка переводится из практически целесообразного состояния в нецелесообразное, следовательно — алогическое. Например, „Сегодня я иду в кино“. Это нормальное с логической точки зрения, целесообразное предложение. Точка стоит на месте. Если я переверну ее — получится уже нечто привлекающее внимание… „Сегодня я иду. В кино…“ В этом предложении начинается деятельность чистой формы алогического» .
Система Кандинского, как и каждого абстракциониста, в том и состоит, что он вырывает из обычного логического контекста те или иные элементы, чтобы, по его собственному выражению, «поставить их с ног на голову» и тем усилить их звучание. Но ведь если любой элемент, образующий вместе с другими средства письменного языка или живописи, поставить на необычное место, то происходит взрыв, нарушение гармонии, подчас смысла, и это обращает на себя внимание. Выразительность и парцелляции в языке, и приемов живописи модернизма основана именно на этом.
Парцелляция — отнюдь не единственное новое явление в синтаксисе языка, вобравшее в себя, воплотившее дух искусства ХХ века. Просматриваются несомненные аналогии и в таких синтаксических явлениях, как неполнота предложения, вставочные конструкции, сегментация и ее наиболее распространенная разновидность — конструкция с именительным темы, повтор, неграмматическое (коммуникативное) обособление второстепенных членов. Ведь их общей особенностью является актуализация наиболее важного компонента информации, который в формальном отношении может занимать весьма незначительное место. При его актуализации возникает несоответствие между структурно-грамматическим и актуальным членением предложения: на первый план выходит тот компонент, который несет незначительную структурную роль, а главный член предложения остается в тени, вплоть до того, что он может и опускаться в неполном предложении.
Например, в следующем предложении при помощи тире обособлен второстепенный член, не требующий, с точки зрения правил пунктуации, обособления. Но автору необходимо выделить, подчеркнуть, заострить внимание на том, как была произнесена реплика (ведь ее содержание противоречит спокойному тону), а главные члены «я ответил» коммуникативно мало значимы, ибо их смысл предполагается самим фактом существования прямой речи.
Я ему ответил — спокойно, с улыбкой:
Феликс, за что ты меня ненавидишь, сволочь?
(Г. Владимов) Итак, налицо актуализация, подчеркивание одного структурно мало значимого компонента, который в данном тексте приобретает особую коммуникативную значимость; создается несоответствие структурной и коммуникативной нагруженности, иначе говоря, диспропорция, дисбаланс. На картине Модильяни «Отдыхающая натурщица» женский торс (от груди до бедер) примерно на треть длиннее возможного анатомического размера. На других его картинах растянуты шеи, овалы лица. Но черты лица почти не прописаны, лишь несколько почти графических штрихов — глаза, нос, подбородок. Подчеркивание, вытягивание шеи, торса создает особую элегантность, традиционно интересующие портретиста глаза, выражение лица как бы за пределами внимания автора. Разве нет здесь аналогии с широко распространившемся в языке неграмматическим обособлением? Разве это не явления одного стилевого ряда?
Хочется провести параллель между неполнотой предложения и характерным для искусства ХХ века изображением детали, фрагмента, части целого, нарочито оторванной, изолированной. Она-то и выражает мысль художника лучше, чем целое.
В ХХ веке происходит бурное качественное развитие неполного предложения и резкое повышение его частотности. Кроме существовавших и ранее бесподлежащных и эллиптических предложений, развиваются неполные предложения с невербализованной позицией любых обязательных членов, включая главные. Вербализованной может оставаться лишь позиция второстепенного члена, что приводит к образованию контаминированных предложений, т. е. таких, которые могут восходить к различным языковым моделям. Например:
Обычный разговор. Наконец:
Ну, ладно, ребята, уже поздно, мы пойдем (Ю. Крелин) В романе Ю. Трифонова «Старик» страстная речь казачьего атамана Мигулина вводится неполным предложением ремарки:
— Граждане станичники! Что для казаков главное было, Есть и будет… — и выждав паузу, насладившись Общим секундным томлением, громоподобно и С размахом руки, будто гранату в толпу: ;
Воля, казаки!..
Главные в структурном отношении компоненты — подлежащее и сказуемое — вообще отсутствуют, и это привлекает особое внимание к вербализованным компонентам, ведь именно они в данном художественном микротексте несут основную информацию, хотя в структурном отношении это всего лишь второстепенные члены. Автору важно показать, как говорил с трибуны его герой, каким он был прекрасным оратором, и это выражено рядом однородных обстоятельств; а констатировать сам факт говорения членами «сказал Мигулин» он не считает необходимым, это и так понятно, и эллипсис подлежащего и сказуемого актуализирует коммуникативно значимые обстоятельства. Сравним этот микротекст со ставшими символом мира двумя женскими кистями с голубем — шедевром Пикассо. Или менее известная, но не менее замечательная скульптура Эрнста Неизвестного «Слух Парижа» — голова яйцевидной формы, лежащая на боку, и к уху приставлена кисть руки — все обратилось в слух. Скульптура эта лежит на одной из площадей Парижа. Структурно необходимые части (тело, лицо, конечности) вовсе не нужны для данного художественного замысла, как не нужны подлежащее и сказуемое неполному предложению в определеннойкоммуникативной ситуации. Отсутствие остального, даже структурно значимого, подчеркивает ситуативную, художественную, коммуникативную значимость эксплицитно выраженной части. И в языке, и в искусстве. Так реализуется вторая, альтернативная, антицивилизационистская парадигма с ее ориентацией на дисгармонию, хаос, иррациональность, фрагментарность, бессистемность.
В исследованиях синтаксиса русского языка ХХ столетия не предпринималось попыток предложить его периодизацию. Более того, известные нам работы описывают активные процессы в синтаксисе, синтаксис советской эпохи, новое в синтаксисе, не давая более точной датировки. И действительно, синтаксис гораздо менее, чем лексика, «привязан» к событиям общественной и политической жизни народа, поэтому его периодизация с социолингвистических позиций мало перспективна, а упомянутые выше исследования рассматривают факторы языкового развития именно так. Правда, особняком здесь стоит «переломная эпоха», конец 80-х — 90-е годы; ее все лингвисты единодушно считают особым этапом в развитии русского языка, о чем уже было сказано в первой главе, и этой яркой спецификой обладает и синтаксис этих лет. Особенности этого периода, как единодушно отмечают ученые, вызваны новой социо-политической ситуацией в стране; Е. А. Земская дает перечень социальных факторов, породивших бум языковой. Если же посмотреть на развитие русского языка, в частности синтаксиса, с лингвокультурологической точки зрения, то очевидна стадиальность его динамики, соответствующая действию (или господству) общекультурных парадигм. Как известно, появление модернизма в начале века ознаменовало скачок от первой, антропоцентрической, парадигмы классического реалистического искусства и литературы к альтернативной ей, не очень удачно названной А. Якимовичем биокосмической, или, по терминологии Ницше — Халипова, от аполлоновского к дионисийскому началу (от первичного к вторичному великому стилю, по Д.С. Лихачеву).
Мы уже касались вопроса о том, что с модернизмом в язык художественной литературы пришла вторая общекультурная парадигма. Хочется добавить, что дело здесь не столько в лозунгах футуристов, с их требованиями «уничтожить чистый, ясный, честный звучный Русский язык… Уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, симметричную логику…». Этот лозунг типичен для культуры дионисийского начала, ниспровергающий логику и разум и заменяющий их интуицией, творческим экстазом, прозрением. Но как этот лозунг может «работать» на таком материале, как язык, который даже в рамках языка художественной литературы должен выполнять свои основные функции, помимо эстетической? А как же он может продолжать оставаться средством формирования и выражения мысли, средством коммуникации, если «уничтожить движение мысли по закону причинности»? Изменения в языке, даже только в языке художественной литературы, не могут происходить столь же радикально и одномоментно, как в изобразительном искусстве или музыке. В этом смысле язык художественной литературы можно сравнить с архитектурой, которая, хотя и не остается в стороне от авангардных и постмодерных тенденций, но должна создавать и создает произведения, выполняющие основную функцию, пригодные для жилья, эксплуатации. Вышеупомянутые архитекторы могли вынести все коммуникационные трубы на внешнюю сторону здания, раскрасить их в разные цвета, выполнить из разных материалов и сделать их различного диаметра, так что здание Культурного центра Помпиду в Париже причудливо опоясано почти десятком лент-труб, но они не могли спроектировать это здание без коммуникаций вообще — оно бы стало нефункционально. В живописи же или музыке критерий функциональности в большинстве случаев вообще отсутствует, и Пикассо может рисовать портрет, где часть лица изображена анфас, а часть — в профиль…
Поэтому действие второй парадигмы культуры в языке начала века не надо искать в «отказе языка от беззубого здравого смысла». Ее надо видеть в появлении, а иногда и в высочайшей концентрации языковых явлений, характерных для этой парадигмы, в творчестве ряда литераторов, в том, что такого рода языковые инновации становятся стилеобразующими у ряда авторов. Хочется привести в пример несколько отрывков из прозы М. Цветаевой, типичнейшей для поэтики всех видов искусства второй парадигмы, с ее хаотичностью, фрагментарностью и бессистемностью.
Что обратное Наталье Гончаровой — той? Наталья Гончарова — эта. Ибо обратное красавице не чудовище, Как в первую секунду может показаться, а — сущность, личность, печать. Ведь если и красавица — не красавица, красавица — только красавица. «Наталья Гончарова» Больше скажу: Вольтер жил в нем, и в каком-то смысле (не женитьба на Гончаровой, а… «Гаврилиада» хотя бы) В переводе на французский вернувшийся в свою колыбель; смерть Пушкина — рукой Дантеса — самоубийство. «Наталья Гончарова» Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним!.. Какой опережающий вход — опережающий взгляд, сами глаза — опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и, в нетерпение придя, как метлой обмахивал пол и стены — всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты — меня бы первую ввергший в столбняк, если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть — на его страх, как Дуров на злого дога: «Борис Николаевич! Господи, как я рада!» М. Цветаева «Пленный дух» .
Здесь разрушена классическая синтаксическая иерархия предложения: отсутствуют структурно и семантически обязательные члены предложения, нарушено управление (именительный вместо родительного падежа, творительный вместо родительного), изобилует вставные, грамматически не связанные с предложением конструкции, совершенно ненормативная пунктуация, бессоюзная связь предикативных единиц предельно затемняет синтаксические отношения между ними, расположения синтаксически главенствующего и зависимого на такой дистанции, что теряется эта связь в сознании читателя, затемняющий смысл повтор («ведь если и красавица — не красавица, красавица — только красавица»), парцелляция, просто, на мой взгляд, теряется синтаксическая связь между членами предложения (найдется ли грамматист, который восстановит все связи во втором из приведенных отрывков?).
Фрагментарность, коллажность, расчлененность, нарушение иерархии, плевок «беззубому здравому смыслу», затемненность смысла, бесконечный повтор одного и того же слова с его переосмыслением (детали в изобразительном искусстве) — разве это не типичнейшие черты артефакта второй парадигмы — неважно, литературного, живописного, графического, музыкального? У читающего эти строки возникает естественный вопрос: почему этот неординарный цветаевский синтаксис является показателем целого этапа в развитии синтаксиса русского литературного языка ХХ века? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить идею ступеней вхождения устных разговорноречевых конструкций в русский литературный язык в качестве его экспрессивных конструкций.
В.Д. Левин еще в семидесятые убедительно доказал их разговорноречевое происхождение. Г. Н. Акимова, развивая идеи Р. И. Будагова и Ю. М. Скребнева писала о трех ступенях их вхождения в русский литературный язык: на первой ступени разговорноречевые конструкции попадают в прямую речь персонажей для имитации устной речи; на второй ступени они употребляются в авторской речи — художественной литературы и публицистики, где теряют стилистический оттенок разговорности, а приобретают яркую книжную экспрессивность; на третьей происходит нейтрализация экспрессивности, что способствует их распространению в других функциональных стилях. В этом рассуждении Г. Н. Акимовой привлекает мысль о стадиальности вхождения конструкций в литературный язык. Представляется, что эту мысль можно развить, рассуждая об этапах развития синтаксиса ХХ века. Первую четверть века все-таки можно считать первым, модернистским, этапом развития синтаксиса русского литературного языка, хотя, конечно, упомянутые выше новации были характерны лишь для стиля ряда авторов, чье творчество вписывается во вторую парадигму культуры. Это можно считать первой ступенью динамики новых явлений. Тогда второй ступенью будет широкое их использование в языке художественной литературы, в том числе и авторами, далекими от идей модернизма. Третьей ступенью будем считать их выход за рамки языка художественной литературы, употребление в различных функциональных стилях. Приведем в пример историю парцелляции. Первой ступенью было ее употребление в языке художественных произведений писателей авангардной ориентации, например, в творчестве Цветаевой, Маяковского, Олеши, в вошедшем в моду «рубленом» синтаксисе (отнюдь не только в прямой речи персонажей). Второй ступенью можно считать использование парцелляции в художественной литературе 60-х-70-х годов, причем не только авторами авангардной молодежной прозы (В. Аксеновым, А. Битовым, Г. Владимовым, Ф. Искандером), но и ориентированными на традицию и классику «деревеншиками», почвенниками ХХ века — В. Астафьевым, В. Распутиным, Ф. Абрамовым, В. Шукшиным.
Третьей ступенью вхождения парцелляции в русский литературный язык стало ее широчайшее распространение за рамками языка художественной литературы — в публицистическом, научно-популярном и даже (!) научном стилях. Приведем несколько примеров:
Они решили, что Башмачников — хороший, что любить его надо за то, что он — жертва. Что в нем можно открыть массу достоинств, которые Гоголь забыл или не успел вложить в Башмачникова. П. Вайль, А. Генис. Русская речь.
…учитывая и признавая возможность изменения нормы, участники дискуссии едины в том, что русскому языку — в смысле системы — ничего не грозит. И: «со временем все утрясется». И. Опхайзер. Еще раз о состоянии русского языка глазами филолога-иностранца.
В основе пастернаковского восприятия жизни лежала многосторонняя, все грани человека охватывающая и на редкость обостренная восприимчивость. Прежде всего — к нравственным впечатлениям. И наряду с ними к их чувственным проводникам. Л. Асмус. Творческая эстетика Б. Пастернака.
Эта мысль о ступенях вхождения новых синтаксических конструкций в язык позволяет нам считать начало века, период господства второй парадигмы в культуре, этапом развития синтаксиса литературного языка ХХ века, хотя рассматриваемые нами конструкции в то время и не выходили за рамки языка художественной литературы и, более того, были характерны для стиля далеко не всех писателей.
По закону маятника Чижевского дионисийской начало в культуре сменяется аполлоновским. Общий закон развития культуры здесь наложился на конкретную историко-политическую ситуацию в нашей стране: естественное, по Чижевскому, движение маятника в — противоположную сторону вошло в резонанс с факторами общественно-политическими, с тоталитарным строем, который целенаправленно положил конец модернизму, второй парадигме. Авангард был остановлен на бегу… (Среди искусствоведов есть и альтернативная точка зрения: он изжил себя сам к середине 20-х годов). Эта ситуация в общественно-политической и культурной жизни страны не могла не отразиться и на состоянии языка, о чем красноречиво писал В. Г. Костомаров: «тоталитаризм и авторитарность создавали некую атмосферу нравственной однозначности и чистоты, в которой нестерпимыми признавались любые отклонения от нормы — будь то гомосексуализм или формальное искусство, эстетизм или упаднические стихи. И… в такт атмосфере даже естественные колебания нормы казались нежелательными…». Социалистическому реализму, или, как его сейчас справедливо называют, советскому классицизму, в искусстве и литературе соответствовала и строгая нормированность, иерархия, системность в состоянии языка, что можно считать вторым этапом в развитии синтаксиса ХХ века, господством первой парадигмы.
Общеизвестно, что во времена хрущевской оттепели происходит определенная либерализация, и новое «закручивание гаек» никогда уже не приняло тех масштабов, не имело той силы, как в сталинские времена. В некоторых сферах идеологический диктат и регламентация вынуждены были отступать, в частности, это коснулось такой трудноконтролируемой стороны, как синтаксис языка художественной литературы, а вслед за этим и литературного языка вообще. Синтаксические инновации, вспыхнувшие в «молодежной прозе» (В. Аксенов, Ф. Искандер, А. Битов, Г. Владимов и др.) даже не были заклеймены как «стиляги», в чем не раз обвинялись и читатели, и издатели, и авторы «молодежной прозы». Эти конструкции уже не уходят из литературы, попадая в произведения писателей, которые и сами никогда не считали себя нон-конформистами и неформалами. Они переходят в публицистику, а чуть позже — в научно-публицистический и научный стиль. Это можно считать третьей и последней ступенью вхождения в язык конструкций актуализирующего синтаксиса, тех самых конструкций, которые были «желтой кофтой», «плевком общественному вкусу» в прозе модернистов начала века. Их «право на жизнь» в языке ХХ века было зафиксировано в многотомной академической монографии «Русский язык и советское общество». Это и был новый отлет маятника, возвращение ко второй парадигме культуры. Это мы и будем считать третьим этапом развития синтаксиса ХХ века. Конечно, на третьем этапе, который хронологически можно обозначить с хрущевской оттепели до горбачевской перестройки, вторая парадигма сосуществует с первой и в искусстве, и в языке. Это, однако, не противоречит идеям «теоретиков» стадиальности, качания маятника культуры. Напротив, Д. С. Лихачев пишет: «На самом же деле великие стили охватывают то большую, то меньшую область культуры, то ограничиваются отдельными искусствами, то подчиняют себе все искусства и даже все главные стороны культуры… При этом ни один из великих стилей не определял полностью культурное лицо эпохи и страны». И еще одна мысль Д. С. Лихачева, которая подтверждает и оправдывает тот факт, что на третьем этапе динамики синтаксиса (и языка в целом) ХХ века новации второй парадигмы (вторичного стиля, по Лихачеву), вызревают в первой и сосуществуют с ней. В главе «Великие стили и стиль барокко» «Русской литературы X—XVII вв.еков» Д. С. Лихачев рассуждает, в частности, об ассиметричности великих стилей, о вызревании вторичного в первичном на примерах романского в готике, маньеризма, барокко, рококо — в ренессансе, романтизма — в классицизме: «Каждому стилю первого ряда соответствует свой поздний „эллинистический период“, при котором создается стиль второго ряда» (в терминологии А. Якимовича это первая и вторая парадигмы). Ему вторит и А. Якимович: «Когда мы говорим о присутствии разных, полярно направленных парадигм в культуре и искусстве ХХ века, не надо думать, будто разные модели и паттерны видения — мышления, раз уж они имеют место, всегда равны себе, всегда противостоят друг другу и вытесняют друг друга как непримиримые антагонисты… В том-то и дело, что полярно противоположные друг другу парадигмы сознания и творчества весьма плодотворным образом взаимодействуют между собой и образуют некие странные, не обязательно устойчивые, но действенные союзы». В пример сосуществования обеих парадигм он приводит архитектуру ХХ века, которая «будет постоянно оперировать двумя парадигмами: будет отсылать нас к верховному разуму человека и подкреплять культ Homo Sapiens Supremus, а с другой стороны, будет нас отсылать к явлениям природы, хаосу и случаю». Представляется, что еще более наглядным примером этого положения является сосуществование парадигм в языке и литературе обозначенного выше третьего периода.
Четвертый период, который можно датировать с начала перестройки до наших дней, гораздо однозначнее. Здесь наблюдается абсолютное господство (или разгул?) второй парадигмы. Свойственные ей вызов, бунтарство, «анархизм», бессистемность проявились в беспрецедентном расшатывании норм языка, которое пугает многих, лингвистов и непрофессионалов в языкознании, и даже ставит на повестку дня вопрос о гибели языка. Неслучайно в начале 90-х Ю. Н. Караулов провел опрос ведущих лингвистов страны об их отношении к кризисному состоянию языка, результаты которого отразились в его книге «О состоянии русского языка нашего времени». Как же связаны эти тревожные процессы в языке с состоянием культуры, триумфальным шествием второй парадигмы со второй половины 80-х до наших дней?
Сегодняшнее плачевное состояние языка и искусства в России является прямым следствием жесткой регламентации предшествующих десятилетий. Так пишет об этом искусствовед С. Файбисович: «Мы, как всегда, находимся в особом, самобытном положении: на протяжении многих десятилетий здешнее искусство носило ярко выраженный резервационный характер… Сегодня мы расхлебываем этот провал во времени, длительную погруженность в безвременье; и производитель, и потребитель прекрасного, и посредник между ними вступает в XXI век, не поварившись в котлах культурных процессов шедших в цивилизованном мире в ХХ веке». Взрывной характер либерализации речи, а вслед за тем и нарушения всяческих языковых норм в узусе культурных слоев, дикторов, ведущих СМИ, представителей высших эшелонов власти стала предметом шуток, анекдотов, публикаций озабоченной общественности и специалистов-языковедов. Причину этого, в основном, усматривают в реакции на всеобщее регламентирование, авторитарное нормирование всех сфер жизни на протяжении долгих десятилетий. Горбачевская перестройка вернула второй, альтернативной парадигме культуры право на жизнь во всех сферах. Демократизация общества разрушает единую культурную норму, единый стиль культуры, обеспечивает культурный плюрализм. На смену единообразному во всем соцреализму, этому классицизму ХХ века, приходит многоликий постмодернизм, но не как только художественный стиль или отдельное течение, а как тип культуры, как воплощение второй культурной парадигмы, противостоящей «комплексу антропокультурности» .
Изучая постмодернизм в изобразительном искусстве, выделяя его типологические признаки, А. Якимович делает вывод: «Вряд ли в самом деле так называемый постмодерн был новым словом в истории искусства. Он, в сущности, вернулся к стратегиям наиболее прозорливых художников и мыслителей эпохи высокого авангарда — от Дюшана до Батая». И о российском постмодернизме: «Российский соц-арт и соц-концептуализм 70−80 гг. были старательными и довольно провинциальными учениками постмодерна Запада…» «Это искусство новых дикарей, это нарушение всяческих табу — моральных, социальных, культурных… Нарушения табу русскими художниками 90-х являются более или менее эпигонскими и вторичными актами». Итак, постмодернизм — это новая стадия развития второй, нигилистической, антицивилизационистской парадигмы ХХ века. И в русском искусстве он не вызвал к жизни высоких образцов, а напротив, имел вторичный по отношению к западному характер. Это эпигонство вошло в резонанс с нашим отечественным стремлением освободиться от жесткой регламентированности тоталитарной эпохи — и началась вакханалия растаптывания всех и всяческих табу. Эта практика была возведена в квадрат рыночными отношениями, необходимостью привлечь внимание, поразить. И это часто становится самоцелью и для художника, и для «художника слова», и для журналиста, играющего огромную роль в формировании языковой моды благодаря СМИ. С едким сарказмом характеризуя в «Новом мире» «актуальные проблемы актуального искусства», С. Файбисович пишет: «В этой ситуации „актуальным“ сознанием овладела новая идея — привлечь к себе внимание любой ценой. Достижения наших местных художественных сил (как раз подключившихся к мировому процессу) на этом этапе неоспоримы. Наиболее привлекательной для них формой оказался радикальный жест — эскалация чистого эпатажа (с одной стороны, богатая традиция артистического скандала, восходящая к декадентству, с другой стороны, богатейшая традиция российско-совестского хамства). Прилюдное обнажение тел, выкладывание из них неприличных слоев, кусание людей, спускание штанов, публичные естественные отправления, половые сношения и извращения стали наиболее ходким и приветствуемым критикой художественным товаром — главным способом здешнего искусства слова принадлежать народу» .
К сожалению, процессы, наблюдаемые сегодня в речевой деятельности, соответствуют происходящим в искусстве постмодернизма.
Демократизация, а по более точному термину В. Г. Костомарова, либерализация происходит на всех языковых уровнях. В фонетике упрощенные формы разговорно-просторечного характера стали приметой некогда священной области былой кодифицированности. В речи дикторов радио и телевидения опрощения типа «буът, вы грали, деъшка (девушка), чьо (чего)» стали для нас вполне привычными. Характеризуя особенности современного вокализма, В. Шапошников восклицает: «Сокращение сверх „положенного“, выпадения и звуковые стяжения в образованной речи не просто многочисленны — массовы. Что есть норма, а что licentia poetica?» и далее: «Увы, оборотная сторона демократизации — вульгаризация» .
Самые яркие процессы, разумеется, характеризуют лексический строй, и они привлекают наибольший интерес лингвистов.
Показателен даже лексикографический бум, который мы сегодня переживаем: активно и необычно обновляющаяся, пополняющаяся, меняющая сферу бытования лексика вдохновляет на создание все новых словарей: сленга хиппи, «запредельной» лексики, политической, новых иностранных слов, новых сокращений и т. д.
Кажется, наиболее активным процессом в лексике нашего времени стало смещение стилей. На это обращают внимание и общественность, и журналисты, и лингвисты. Например, В. Г. Костомаров пишет об этом: «Наиболее общей чертой становится разностильность, смешение или смещение стилевых пропорций, причем наиболее яркой приметой выступают соединение обиходно-сниженных элементов, вплоть до вульгарных, с сохраняющимся наследием предшествующей эпохи — канцеляризмами». К этому надо добавить активное участие в этом синтезе стилей и христианской, и оккультной лексики. Такое смешение стилистически окрашенной и лексики ограниченного употребления сопровождаются и смешением, перераспределением тематических групп лексики. Об этом интересно пишет В. Шапошников, делая вывод: «Итогом инвентаризации лексикона оказывается современное перераспределение единиц: между тематическими группами и предметными областями, из одной узусной сферы в другую. Таким образом изменяются лексико-семантические поля и перераспределяется общее пространство русского языка» .
Читая работы лексикологов о современных процессах в лексике, все время возвращаешься мыслью ко второй парадигме культуры ХХ века и к ее современному постмодернистскому этапу. То безудержное смешение стилей, лексико-семантических полей, устаревших церковно-славянских слов и мощной волной хлынувшей заимствованной новой лексики — то, что отмечают лексикологи как характерный процесс наших дней — не параллелен ли он свойственной искусству постмодерна коллажности, цитатности?! Ведь в произведении постмодернизма не просто ощущается та или иная традиция — здесь прямая установка на привлечение элементов, отсылающих зрителя (читателя, слушателя) к известным произведениям, авторам. Искусствовед С. Кусков использует образ палимпсеста, характеризуя эту важнейшую черту постмодернизма: «Палимпсестом называют старинную рукопись, где поверх старых слоев письма наносятся новые. Старые смываются, но неокончательно, проступая на поверхность, но все же вытесняясь новыми записями… Ему можно уподобить типично постмодернистскую констатацию заведомой цитатности и вторичности, обреченности на вечное заимствование — присвоение чего-то, уже имевшего место в прошлом, без чего не мыслится любой нынешний художественный опыт». Эту черту постмодернизма как одну из важнейших выделяют теоретики постмодернизма и от литературы, и от искусства. Вспомним ставший хрестоматийным пример этого принципа у Умберто Эко, где он обращается к объяснению постмодерниста в любви — даже в этой ситуации, влюбленный, он не может не сослаться на прецеденты. В. П. Руднев в «Словаре культуры ХХ века» отмечает это свойство: «В постмодернизме господствует всеобщее смешение и насмешливость надо всем, одним из главных принципов стала культурная опосредованность». Искусствовед Т. Калугина, выделяя два признака, типообразующих для постмодернистской культуры, первым называет этот: «Прежде всего это то поле значений, которое имеют в виду, когда говорят о цитатности, коллажности, нонселекции, децентрированном мире, вторичности, культурном плюрализме, мультикультурном контексте и т. д.» .
Еще одна, и несомненная, параллель лексики с искусством постмодерна, а точнее, с отмеченной выше со ссылкой на С. Файбисовича его особенностью — детабуизацией всего в целях привлечения внимания. К сожалению, сегодняшняя речевая практика дает право говорить о коллективной манере изъясняться грубо и бранно, допускать табуированные слова в ситуациях, ранее не допускающих их, вплоть до высоких политических трибун и теле-, радиопередач на многомиллионную аудиторию, театра, кино, художественной литературы.
Из грамматических процессов нашего времени, формирующих вторую парадигму, надо отметить опрощение грамматической системы и простую грамматическую небрежность, тоже ставшую коллективной манерой, языковой модой. Сюда относится и рядоположение слов разного управления, и абсолютное употребление сильноуправляющих глаголов, и вообще потеря сильноуправляемого компонента, и употребление в КЛЯ просторечных форм («капает, езжает, полоскает»). Все эти отмеченные В. Г. Костомаровым процессы и явления не только выражают языковой вкус эпохи (так называется его книга), но и формируют постмодернизм — «фокус нашего самосознания, атмосферный параметр действительности» (Т. Калугина). Постмодернизм как современный этап развития второй, альтернативной, антицивилизационистской, нигилистической парадигмы ХХ века.