Краткое содержание работы Х. Ортеги «Восстание масс»
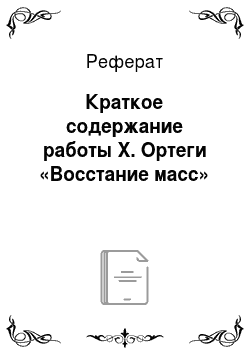
Реальность, которую мы называем «государством», отнюдь не представляет собой спонтанно возникшее общество людей. Государство возникает тогда, когда группы различного происхождения вынуждены уживаться вместе. Это не голое насилие; скорее их влечет сила общей цели. Государство — это прежде всего план действия, программа сотрудничества, которая приглашает разрозненные группы к совместной работе… Читать ещё >
Краткое содержание работы Х. Ортеги «Восстание масс» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». И, не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса — двух основных факторов — за столетие утроил людские ресурсы Европы. Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое — либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из доныне известных форм общественной жизни; второе — вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохранят ее суть, и третье — возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно.
Либерализм — правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм, и сегодня стоит об этом помнить, — предел великодушия: это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо звучавший на земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и, мало того, врагом слабейшим. Трудно было ожидать, что человеческий род решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько изысканный, настолько акробатичный, настолько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым и нелегким, чтобы утвердиться на земле быстро и безболезненно.
Оттого-то и большевизм и фашизм, две политические «новинки», возникшие в Европе и по соседству с ней, отчетливо демонстрируют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений — в любой доктрине есть доля истины, да и в чем только нет хотя бы малой ее крупицы, — сколько по тому, как допотопно, антиисторично используют они свою долю истины. Обычно массовые движения, возглавленные людьми недалекими, несовременными, с короткой памятью и нехваткой исторического чутья, с самого начала выглядят так, словно уже канули в прошлое, и, едва возникнув, кажутся реликтовыми.
Нет смысла обсуждать вопрос: быть или не быть коммунистом; бессмысленно оспаривать символы веры. Непостижимо и анахронично то, что коммунист 1917 года решается на революцию, которая внешне повторяет все прежние бунты, не исправив ни единой ошибки, ни единого их изъяна. Поэтому-то происшедшее в России в тот памятный год исторически невыразительно; оно не ознаменовало собой начало новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции. Общих настолько, что нет ни единого шаблонного изречения о революции, которое не нашло бы в ней печального подтверждения: «Революция пожирает собственных детей», «Революцию начинают умеренные, совершают непримиримые, а все завершается реставрацией» и т. д.
Кто действительно хочет создать новую социально-политическую явь, тот прежде всего должен позаботиться, чтобы в обновленном мире утратили силу жалкие стереотипы исторического опыта. Нужно приберечь титул «гениального» для того политика, с первых же шагов которого спятили все профессора истории, видя, как их научные «законы» разом стареют, рушатся и рассыпаются прахом.
Почти все это, лишь поменяв плюс на минус, можно адресовать и фашизму. Обе попытки — не на высоте своего времени, так как превзойти прошлое можно только при одном непременном условии: его надо целиком, как пространство в перспективу, втиснуть внутрь себя. С прошлым не сходятся в рукопашном бою. Новое может победить лишь поглотив его; подавившийся же им — гибнет.
Обе попытки — это ложные зори, у которых не будет завтрашнего утра, а лишь давно прожитый день. Это — анахронизмы. И так будет со всеми, кто по простоте душевной надеется сохранить или восстановить прошлое, вместо того, чтобы преступить к его полному перевариванию. Безусловно, надо преодолеть недостатки либерализма XIX века. Но такое не по зубам тому, кто подобно фашистам, объявляет себя антилибералом. Ведь быть антилибералом, значит занимать ту позицию, что была до наступления либерализма. Раз он наступил, то, победив однажды, будет побеждать и впредь, а если погибнет, то только вместе с антилиберализмом и со всей Европой. Хронология жизни неумолима: нелиберализм и только затем либерализм; подобно тому, как сначала появилось копье, а лишь затем ружье.
Было бы недурно, если б безоговорочное «нет» могло покончить с прошлым, но прошлое по своей природе возвращается; выгони его в дверь, оно зайдет в окошко. Поэтому единственный способ справиться с ним — это не гнать его, а наоборот, прислушаться к нему; не выпуская его из виду, перехитрив, ускользнуть от него. Иными словами, нужно «жить в ногу со временем», но при этом ни на минуту не забывать о «родимых пятнах» прошлого. У прошлого своя правда; если с ней не считаться, она вернется и утвердится. У либерализма была своя правда, и ее надо признать на веки вечные. Но он был прав не во всем, и то, в чем он не был прав, надо изменить. Европа должна сохранить все правдивое из своего либерализма.
О фашизме и большевизме здесь говорилось вскользь, отмечая лишь одну их черту — анахронизм. Эта черта органически присуща всему тому, что сейчас торжествует. Сейчас повсюду торжествует человек массы, и только то, что внушено им и пропитано его плоским мышлением, может одержать видимость победы. Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство — это личности или группы личностей особого, социального достоинства. Масса — это множество людей без особых достоинств. Масса — это заурядность. Таким образом, чисто количественная характеристика предстает перед нами как качество. Это совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип.
Какой смысл в этом превращении количества в качество? Простейший — изучив тип, мы сможем понять происхождение и природу массы. До банальности очевидно, что естественное возникновение массы предполагает общность вкусов, интересов, стиля жизни у составляющих ее индивидов. Могут возразить, что это верно в отношении любой социальной группы, какой бы элитарной она себя ни считала. В общем, да. Но есть и существенная разница!
В тех группах, которые нельзя назвать массой, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает массовое распространение или многочисленность. Для образования какого угодно меньшинства сначала надо, чтобы каждый по особым причинам, более или менее личным, отпал от толпы. Согласованность внутри группы — фактор вторичный, результат общего отталкивания от массы; это, можно сказать, согласованность в несогласии или совпадение несовпадений. Иногда такой характер группы выражен явно, пример — англичане, назвавшие себя «нонконформистами», то есть «несогласными», которых связывает только их несогласие с большинством. Объединение меньшинства, чтобы отделить себя от большинства, — необходимая предпосылка его создания. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот круг людей своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.
В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. О каждом отдельном человеке можно сказать, принадлежит он массе или нет. Человек массы — это тот, кто не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он — «точь-в-точь, как все остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все. Представим себе, что самый обыкновенный человек, который пытается определить свою ценность на разных поприщах, испытывает свои способности там и тут и, наконец, приходит к заключению, что у него нет таланта ни к чему. Такой человек будет чувствовать себя посредственностью, бездарностью, серостью, но никогда не почувствует себя членом массы.
Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», лицемеры передергивают смысл этого выражения, притворяясь, будто они не знают, что «избранный» — вовсе не «важный», то есть тот, кто считает себя выше остальных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим, даже если он лично и не способен удовлетворить этим высоким требованиям. Несомненно, самым глубоким и радикальным делением человечества на группы было бы различие их по двум основным типам: на тех, кто строг и требователен к себе самому, берет на себя все тяготы и обязательства, и на тех, кто снисходителен к себе, доволен собой, кто живет без усилий, не стараясь себя переделать и улучшить, кто плывет по течению. Таким образом, деление общества на массу и избранное меньшинство — деление не на социальные классы, а на типы людей; это совсем не то, что иерархическое различие «высших» и «низших».
Старая демократия была закалена значительной долей либерализма и преклонением перед законом. Служение этим принципам обязывает человека к строгой самодисциплине. Под защитой либеральных принципов и правовых норм меньшинства можно было нормально жить и работать. Демократия и закон были нераздельны. Сегодня же мы присутствуем при триумфе гипердемократии, когда массы действуют непосредственно (принцип «прямого действия»), помимо закона, навязывая всему обществу свою волю и свои вкусы.
Не следует объяснять новое поведение масс тем, что им надоела политика и что они готовы предоставить ее специалистам. Именно так было раньше, при либеральной демократии. Тогда массы полагали, что в конце концов профессиональные политики при всех их недостатках и ошибках все же лучше разбираются в общественных проблемах, чем они, массы. Теперь же наоборот, массы считают, что они вправе пустить в ход и сделать государственным законом свои беседы в пивнушках. Сомнительно, чтобы в истории нашлась еще такая эпоха, когда массы господствовали так явно и непосредственно, как сегодня. Особенность нашего времени состоит в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, бессовестно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду.
Мы стоим здесь перед тем самым различием, которое испокон веков отделяет глупца от мудреца. Умный знает, как легко сделать глупость, он всегда настороже, и в этом его ум. Глупый не сомневается в себе; он считает себя хитрейшим из людей, отсюда завидное спокойствие, с каким он пребывает в собственном идиотизме. Подобно тем моллюскам, которых не удается извлечь из раковины, глупого невозможно выманить из его глупости, вытолкнуть наружу, заставить на миг оглядеться по ту сторону своих катаракт и сравнить свои убогие шаблоны со взглядами других людей. глупость пожизненна и неизлечима. Недаром Анатоль Франс сказал, что дурак пагубней злодея, поскольку мерзавец иногда отдыхает, глупец — никогда.
Однако речь идет вовсе не о том, что человек массы глуп. Наоборот, сегодня он гораздо умнее, чем когда-либо. Но это не идет ему в прок: на деле смутное ощущение своих возможностей лишь побуждает его закупориться и не пользоваться ими. Раз и навсегда он усвоил набор общих мест, предрассудков, обрывков мыслей и пустых слов, случайно нагроможденных в памяти, и с развязностью, которую можно оправдать только наивностью, пользуется этим мусором всегда и везде. Специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право. Сейчас у заурядного человека есть самые определенные представления обо всем, что происходит и должно произойти в мире. Поэтому он перестал слушать других. А к чему слушать, если он и так уже все знает? Нет никакого смысла выслушивать, теперь надо самому судить, постановлять, выносить приговор. Кажется, не осталось ни одной общественной проблемы, куда бы он не вмешался, навязывая свои «взгляды», — он, слепой и глухой.
«Но, — скажут мне, — что же здесь плохого? Разве это не свидетельствует о прогрессе, разве это не значит, что массы стали культурнее?» Ничего подобного! Идеи человека массы не являются таковыми и никакой культурой он не обзавелся. Кто хочет иметь идеи, должен прежде всего стремиться к истине и усвоить правила игры, ею предписываемые. Не может быть речи об идеях и суждениях там, где нет системы, в которой они выверяются, нет свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила — основа культуры. Не важно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если нет основ законности, к которым можно прибегнуть. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике. Культуры нет, если экономические отношения не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если в эстетических диспутах всякое оправдание для произведения искусства объявляется излишним. Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть в самом прямом и точном смысле слова варварство. Путник, попадая в варварский край, знает, что не найдет там законов, к которым мог бы воззвать. Не существует собственно варварских порядков; у варваров их попросту нет и взывать не к чему. Степень культуры измеряется степенью развития норм. Где они мало развиты, там жизнь направляется только приблизительно, где они развиты подробно, там они проникают во все детали и все области жизни.
Жить — это вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без устали, без остановки. Отдаваясь на волю случая, мы, тем не менее, принимаем решение — не решать. Неправда, что в жизни все делается по воле случая, «решают обстоятельства». Каждая жизнь — это борьба за то, чтобы стать самим собой. Препятствия, на которые мы при этом натыкаемся, пробуждают нашу активность и наши способности. Если бы наше тело ничего не весило, мы не смогли бы ходить. Если бы атмосферный столб не давил на нас, мы ощущали бы свое тело как нечто пустое, губчатое, призрачное.
Цивилизация не данность и не держится сама собой. Она искусственна и требует художника и мастера. Если вам по вкусу ее блага, но лень заботиться о ней, — плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажетесь без цивилизации. Малейший недосмотр — и все вокруг улетучится в два счета; один промах — и все исчезнет как дым, словно сдернули завесу, скрывавшую нагую природу, и она появилась снова, девственная, как лес. Как остановить натиск леса? Сейчас «западному человеку» предстоит решать задачу, над которой бьются австралийские власти: как помешать диким кактусам захватить землю и сбросить людей в море. В сорок каком-то году некий эмигрант, тоскующий по родной Малаге или Сицилии, привез в Австралию крохотный росток. Сегодня австралийский бюджет истощает затяжная война с этим безобидным сувениром, который заполонил весь континент и наступает со скоростью километра в год. Массовая вера в то, что цивилизация такая же стихия, как и сама природа, уподобляет человека дикарю. Он видит в ней свое лесное логово. Основы, на которых держится цивилизованный мир и без которых он рухнет, для человека массы попросту не существует. Эти краеугольные камни его не заботят, и крепить их он не намерен.
Но положение гораздо опаснее, чем думают. Годы уходят, и человек может привыкнуть к тому сниженному тонусу жизни, какой сейчас установился; он разучится править, прежде всего — управлять самим собой. Некоторые — как всегда бывает в подобных случаях — пытаются спасти положение, искусственно оживляя те самые, изжитые, принципы, которые привели к кризису. Именно этим объясняются вспышки национализма в последние годы. Но все эти «национализмы» лишь тупики. Национализм всегда противоположен тем силам, которые формируют истинное государство: он стремится нечто ограничить и исключить, тогда как силы, создающие государство, всегда нечто включают и приемлют. Национализм лишь мания, предлог, чтобы увильнуть от своего долга — от импульса творчества, нового, великого дела. Примитивность методов, которыми национализм оперирует, и тип людей, которых он вдохновляет, слишком ясно показывают, что он прямо противоположен подлинному историческому созиданию.
Человеческая жизнь по самой своей сути должна быть чему-то посвящена — славному делу иль скромному, блестящей иль будничной судьбе, но отдана другим. Человеческое бытие подчинено странному, но неумолимому условию: с одной стороны, человек живет для себя, с другой, для общего дела (последнее есть непременное условие, ибо в противном случае жизнь потеряет смысл, цельность, форму; она окажется скомканной и потерянной). Мы видим сейчас, как многие заблудились в собственном лабиринте жизни, потому что им нечему себя посвятить. Все заповеди, все приказы потеряли силу. Казалось бы, чего лучше — каждый волен делать, что ему вздумается. Но результат оказался печальнее, чем ожидалось. Жизнь, посвященная самой себе, потерялась, стала пустой, бесцельной, а так как нужно чем-то себя наполнить, она выдумывает для себя бессмысленные занятия: сегодня ее тянет вправо, завтра — влево. Жизнь гибнет, когда она предоставлена самой себе. Если нам действительно нужно сделать что-то великое, мы должны перестать совершать маленькие «добрые дела» и приниматься за серьезное созидание. Творческая жизнь требует безукоризненной чистоты, высокой красоты, неугасаемых стимулов, подстегивающих сознание своего достоинства. Творческая жизнь — жизнь напряженная и тяжелая. При нормальном общественном порядке масса — это те, кто не выступает творчески, активно, и в этом ее особенность. Она появилась на свет, чтобы быть пассивной, в этом ее предназначение. Она должна подчинять свою жизнь высшему авторитету, исходящему от избранного меньшинства. Можно сколько угодно спорить, кем должны быть эти избранные, но то, что без них человечество утратит основу своего существования, сомнению не подлежит. Это не частный вывод из ряда наблюдений и догадок, а закон социальной физики, под стать всемирному закону тяготения Ньютона. хосе ортега восстание Общеизвестно, современное государство — это наиболее очевидный продукт цивилизации. Крайне интересно и поучительно проследить отношение человека массы к государству. Он видит государство, изумляется ему, знает, что это оно охраняет его собственную жизнь, но не отдает себе отчета в том, что это — дело рук человека, что оно создано незаурядными людьми, держится на известных человеческих ценностях, которые сегодня существуют, а завтра могут и улетучиться. С другой стороны, человек массы видит в государстве безликую силу и так как он чувствует себя тоже анонимом, считает государство «своим». Представим себе, что в общественной жизни страны возникают какие-либо трудности, проблемы, конфликты; человек массы будет склонен потребовать, чтобы государство немедленно вмешалось и разрешило проблему непосредственно, путем «прямого действия», пустив в ход свои неограниченные средства.
Здесь-то и подстерегает цивилизацию главная опасность — подчинение всей жизни общества государству, экспансия власти, поглощение аппаратом любой социальной инициативы — словом, удушение творческих начал истории, которыми в конечном счете держатся, питаются и движутся людские судьбы. Когда у массы возникнут затруднения или просто разыграется аппетит, она уже не сможет не поддаться искушению добиться своей цели самым легким и привычным способом, без сомнений, борьбы и риска, одним нажатием кнопки запустить чудовищный механизм. Между тем, государство идентично массе только в том смысле, в каком Икс идентичен Игреку, поскольку никто из них не Зет. Современное государство и массу роднит лишь их безликость и безымянность. Ошибка в понимании закончится плачевно. Государство удушит окончательно всякую социальную самодеятельность. Общество вынудят жить для государственной машины. И поскольку это всего лишь машина, исправность и состояние которой зависят от живой силы, государство, высосав все соки из общества, обескровленное, умрет смертью ржавой машины, более отвратительной, чем смерть живого существа.
Под «правлением» не надо понимать в первую очередь материальную силу, физическое насилие. Нормальные, прочные отношения между людьми, которые подразумеваются под словом «правление», никогда не покоятся на силе. Правление — нормальное проявление власти, всегда основывалось на общественном мнении. Так было всегда — и нынче, и десять тысяч лет назад, и среди современных англичан, и среди древних бушменов. Ни одна власть в мире никогда не покоилась ни на чем ином, кроме общественного мнения. В физике Ньютона сила тяжести — причина движения. Закон общественного мнения — это закон всемирного тяготения в сфере политической истории. Без него история не была бы наукой. Иногда нет никакого общественного мнения; общество разбито на противоборствующие группы, мнения противоположны, тогда и власти не сложиться. Однако природа не терпит пустоты, свято место пусто не бывает, и вот вместо общественного мнения приходит грубая сила, которая не правит, а только насилует (против общественного мнения править нельзя).
В наши дни каждый европеец уверен — и эта его уверенность крепче всех его «мнений» и «идей», — надо быть либералом. Неважно, какая именно форма либерализма подразумевается. Сегодня самый реакционный европеец в глубине души признает: то, что волновало Европу прошлого столетия и получило название либерализма, — нечто подлинное, имманентное западному человеку, неотделимое от него, хочет он этого или нет. Пусть было бы доказано, что все конкретные попытки осуществить заветы политической свободы ошибочны и обречены на поражение, по существу, упомянутый завет не скомпрометирован и остается в силе. Это конечное убеждение остается и у коммунистов, и у фашистов, на какие бы уловки они ни пускались, чтобы убедить самих себя в обратном. Они знают, что, несмотря на справедливую критику либерализма, его внутренняя правда неуязвима, ибо это правда не теоретическая, не научная, не рассудочная — она просто другой природы и ей принадлежит решающее слово — это правда жизни. Судьба нашей жизни — чем нам стать и чем нам не быть — дискуссии не подлежит: она либо целиком принимается, либо целиком отвергается.
Прочность и процветание демократий — какого бы типа и степени развития они ни были — зависят от ничтожной технической детали: процедуры выборов. Все остальное второстепенно. Если процедура поставлена правильно, если ее результаты верны, все хорошо; если нет, страна гибнет, как бы отлично ни было все остальное. В начале I века до Р. Х. Рим всемогущ, богат, у него нет врагов. Тем не менее, он на краю гибели, ибо упрямо придерживается нелепой и лживой избирательной системы. Голосуют только в Риме; граждане, проживающие в провинциях в голосовании не участвуют, не говоря уже о тех, кто был рассеян по всему «римскому миру». Поскольку всеобщие выборы были невозможны, приходилось их фальсифицировать, и кандидаты нанимали банды — из ветеранов армии и цирковых атлетов, — которые брались вскрыть урны.
«Общая слава в прошлом, общая воля в настоящем; воспоминание о великих делах и готовность к ним — вот основные условия для создания народа… Позади — наследие славы и раскаяния, впереди — общая программа действий… Жизнь нации — это ежедневный плебисцит». Такова знаменитая формула Ренана. Как объяснить ее необычайный успех? Без сомненья, красотой последней фразы. Мысль о том, что нация осуществляется благодаря ежедневному голосованию, освобождает нас. Общность крови, языка, прошлого — заключают нас в тюрьму. Если бы нация была только этим, она лежала бы позади нас, нам не было бы до нее дела. Неверно, будто нацию создает патриотизм, любовь к отечеству. Те, кто так думает, впадают в сентиментальное заблуждение. Если бы она была только тем, чем она была, но не тем, чем она будет, ее не было бы смысла даже защищать, когда б на нее напали. Мы защищаем нацию ради общего будущего, а не во имя общего прошлого, не во имя крови, языка и т. д. Те, кто спорит с этим — лицемеры или глупцы.
Таким образом, «государство-нация» — такая историческая форма, для которой характерен плебисцит. Все прочее имеет лишь преходящее значение и относится только к содержанию, форме и гарантиям, которых плебисцит требует. Ренан нашел магическую формулу, излучающую свет; она позволяет нам проникнуть во внутреннюю структуру нации. Два момента различаем мы при этом: во-первых, проект совместной жизни в общем деле; во-вторых, отклик людей на этот проект. Всеобщее согласие создает внутреннюю прочность, которая отличает «государство-нацию» от древних форм, где единство достигалось и поддерживалось внешним давлением государства на отдельные группы, тогда как в нации сила государства проистекает из глубокой внутренней солидарности «подданных». В сущности, эти подданные и составляют государство и потому — в этом чудо, в этом новизна нации — не могут ощущать государство, как нечто чужое.
Реальность, которую мы называем «государством», отнюдь не представляет собой спонтанно возникшее общество людей. Государство возникает тогда, когда группы различного происхождения вынуждены уживаться вместе. Это не голое насилие; скорее их влечет сила общей цели. Государство — это прежде всего план действия, программа сотрудничества, которая приглашает разрозненные группы к совместной работе. Государство не кровное родство, не общность языка и территории, не соседство. Оно вообще не есть что-то материальное, косное, данное. Это чистая динамика, воля к общей деятельности, поэтому государственной идее не могут помешать физические границы. Любое государство — первобытное, античное, средневековое или современное — это всегда призыв, с которым одна группа людей обращается к другим группам, чтобы сделать что-то вместе. Дело это, каковы бы ни были его промежуточные ступени, сводится к созданию какой-то новой формы общей жизни. Разные государственные формы возникают из тех разных форм, в которых инициативная группа осуществляет сотрудничество с другими. Поскольку государство есть призыв к совместной деятельности, каждый, кто примыкает к общему делу и будет действующей частицей государства. Раса, кровь, язык, географическая родина, социальный статус — все это имеет второстепенное значение. Право на политическое единство дается не прошлым — древним, традиционным, фатальным, неизменным, а будущим, то есть не тем, чем мы были вчера, но тем, чем мы будем завтра., — вот что соединяет нас в одно государство. Отсюда та легкость, с какой на Западе политическое единство переходит языковые и территориальные границы. Европеец, в противоположность человеку древнему, обращен лицом к будущему, сознательно приноравливаясь к нему. Политический импульс такого рода неизбежно побуждает к образованию все более обширного единства.