Симеон Полоцкий и его школа на пути формирования русской лирики
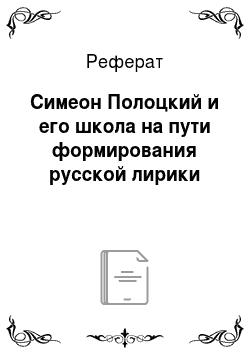
Во второй половине XVII в. литературную атмосферу определило появление в Москве Симеона Полоцкого, который создал свою школу. Необозримое наследие этого стихотворца, еще не изданное полностью, отразило энциклопедические познания автора. Свою миссию он видел в том, чтобы передать читателям широкие сведения из разных областей знания. Энциклопедизм Симеона Полоцкого был книжным. И. П. Еремин… Читать ещё >
Симеон Полоцкий и его школа на пути формирования русской лирики (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Симеон Полоцкий и его школа на пути формирования русской лирики
Фамилия автора: Савченко Т. Т.
Специфика литературного рода в значительной мере определяется предметом изображения. На протяжении XVII столетия стихотворство оставалось универсальным в предмете изображения, стремясь вобрать в себя полноту внешнего мира в его событийной проявленности и открывая возможность изображать внутреннее в человеке. Это внутреннее, открывавшееся лишь в намеках на настроение, душевное состояние, было редким. Открытия, сделанные Евфимией Смоленской и Симеоном Шаховским, не были подхвачены и развиты, так как их творчество осталось недоступным для современников.
Во второй половине XVII в. литературную атмосферу определило появление в Москве Симеона Полоцкого, который создал свою школу. Необозримое наследие этого стихотворца, еще не изданное полностью, отразило энциклопедические познания автора. Свою миссию он видел в том, чтобы передать читателям широкие сведения из разных областей знания. Энциклопедизм Симеона Полоцкого был книжным. И. П. Еремин характеризовал его как «библиофила и начетчика» [1]. Сведения из библейской истории, нравоучения, в основе которых лежали принципы христианской добродетели и нравственности, переложение Псалтыри — вот что стало содержанием стихотворного творчества Симеона Полоцкого. У него, согласно средневековым представлениям, сложилось отношение к словесному творчеству как к божественному акту. Поэт подобен Богу, он способен как бы заново создать мир [2].
В творчестве Симеона Полоцкого происходят сдвиги в структуре высказывания. Они обусловлены содержанием и сменившейся жанровой системой. Прикладной характер творчества членов приказной школы не был воспринят Симеоном Полоцким и его соратниками. Индифферентное отношение к смене форм высказывания в пределах одного произведения у поэтов первой половины XVII в. сменилось тяготением к повествовательной форме высказывания у Симеона Полоцкого. Так, из ста пятидесяти четырех стихотворений, представленных в одной из последних публикаций этого поэта [3], в ста тридцати восьми автор прибегает к повествовательному высказыванию. Повествователь сообщает об исторических событиях библейского прошлого, о событиях из жизни евангельских персонажей, их поступках, размышляет о нравственных законах, о христианской морали. В стихах Симеон Полоцкий продолжает свойственную литературе традицию самосознания искусства слова. Так, в обращении «К благочестивому читателю», открывающем «Псалтырь рифмотворную», есть строки, которые объясняют место и смысл рифмованной, т. е. искусной, речи в писательском и читательском сознании: поэт полоцкий стихотворный лирика Тужде аз рифмы тщахся преложити, не дабы тако в церкви чтенней быти, Но еже в домех часто ю читати или сладкими гласы воспевати Во славу богу, — ибо услаждает Рифм слух и сердце; чести понуждает [3; 167,168][1].
Появляющийся в тексте субъект речи в форме «аз» не придает субъективной окраски высказанному суждению. Даже и в том, чисто цеховом понимании эстетического воздействия рифм на «слух и сердце» нет добытого собственным опытом знания. Эстетика средневековья определяет основу этого поэтического высказывания. По наблюдениям С. Маутхаузеровой, эстетическая концепция стиха определялась правилами, выработанными Симеоном Полоцким: стих, как и цветы, полезен и своей красотой может лечить душу [4].
Иные эстетические критерии выдвигало направление протопопа Аввакума. Внешнему украшательству, ярко выраженному стилю «плетения словес», изысканности и некой претенциозности сил-лабиков Аввакум противопоставлял словесную прямоту, неискусность, простоту выражения, при-родность языка. В одной из редакций Жития Аввакум писал: «…виршами философскими не обык речи красить понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет» [5; 42].
Таким образом, стихотворство XVII в. имело свою философию и эстетику. Тяготение Симеона Полоцкого к местоименно не выраженной форме высказывания предопределено сознанием того, что все, о чем повествуется в виршах, — не личное — мое, а нисходит свыше и обращено ко всем. Сам автор-повествователь выступает своего рода посредником между божественным Логосом, запечатленным в книгах библейских пророков, и читателем. Традиционная старорусская анонимность в литературе не исчезла окончательно, она приобрела другие очертания и иное воплощение. Известный стихотворец Симеон Полоцкий не свою судьбу и личность как индивидуальное явление отразил в созданных им произведениях. Другие судьбы, лица, порой их эмоциональное состояние, увиденное со стороны, названы и описаны:
грешник молитвы не рад возсылати. Вечныя муку за тыя страдати, горе! и увы? выну воплствовати [131].
Краль Галлийский Бреун деву возлюбил есть [С. 130].
Предмет изображения, вторичность его (ибо повествуется о том, что другими уже в слове воплощено и в морали закреплено) определили сознательное тяготение Симеона Полоцкого к повествовательной форме высказывания.
Значительным событием в формировании личного высказывания у Симеона Полоцкого оказывается появление ролевого «я». Стихотворение «Покаяние Оригеново» с самого начала построено как личное высказывание от лица «я»:
Увы мне, мати моя, яже мя носила?
Горе мне, матия моя, яже мя родила? [С. 141].
«Я» — это автор, перевоплотившийся в кающегося Оригена — раннехристианского аскета, ритора, философа и богослова. Стихотворение начинается эмоционально окрашенным зачином. Для Симеона Полоцкого характерными являются повествовательные констатирующие зачины:
АлександрМакедонский елмауслышаше… [С. 115] Октавиан Август в Риме кесарь бяше… [С. 116] Полезно выну бдети, не много же спати… [С. 118] Безгласу рыбу пища услаждает… [С. 119] Две пиявицы во нас всегда пребывают… С. 140].
«Покаянию Оригенову», в отличие от других известных нам произведений Симеона Полоцкого, свойственна повышенная эмоциональность, которая создается риторическими вопросами и восклицаниями. Повтор конструкций с восклицанием «увы» встречается шесть раз:
Увы мне, мати…
…Да плачучася, увы, муж болезный… Но, увы, угашенна и зломрачна бывше!.. Увы мне, учителю прежде в церкви бывшу… Сам, увы, помрачихся, не могох стояти… Создателя моего, увы, удалихся…
Выразительна сложная синтаксическая конструкция, образованная трехкратным сравнительно-противительным повтором:
Яко столп превеликий древле вознесенна, но внезапну до земли люте поверженна; Яко плодоносное древо процветавша, но уже изсохшаго и неплодна ставша; Яко светоносную лампаду светивша, но, увы, угашенна и зломрачна бывша!
Покаянное самоумаление с первых же стихов приобретает высокий эмоциональный накал, который не дает возможности развивать его по нарастающей. Прием градации в поэтике Симеона Полоцкого не отработан. Стихотворение строится как эмоциональное движение по кругу; варьируется покаяние грешного Оригена перед Всевышним в разнообразных словесных сочетаниях, образных параллелях.
Завершает это выразительное покаяние шестистрочное слово повествователя, который выступает в форме «мы»:
Сице Ориген греха своего рыдаше Мы то судбам божиим дело оставляем, его же не яви бог, не испытоваем.
Необычная, редчайшая в практике стихотворства XVI—XVII вв. основная часть стихотворения — ролевое слово — в заключение переводится в традиционное русло драматического монолога. Несмотря на это, стихотворение «Покаяние Оригеново» следует считать значительным историко-литературным фактом. Симеон Полоцкий сделал еще один шаг на пути овладения художественными средствами. Если другие его вирши — это повествование о чем-то, то в анализируемом стихотворении происходит перевоплощение в другое лицо, от имени которого и произнесено покаянное слово. Правда, до конца в этом образе стихотворец Симеон Полоцкий не сумел остаться, но опыт еще раз осуществился. Отметим и другую сторону этого литературного факта. Симеон Полоцкий еще не может говорить от своего «я», когда речь идет душевных состояниях. Русскому стихотворству предстоит огромный путь, прежде чем это ядро лиризма сформируется.
Ролевое личное высказывание присутствует и в «Молитве святаго Иоасафа, в пустыню входя-ща». Надо полагать, что умением говорить от имени другого «я» Симеон Полоцкий овладел в полной мере. «Повесть о пустыннике Варлааме и царевиче Иоасафе» распространилась на Руси в различных вариантах. Наряду с прозаическими версиями этой самой читаемой повести в XVII в. появились сочинения и в стихотворной форме. Некоторые части московского издания были написаны Симеоном Полоцким. «Молитва… «лишь условно может быть воспринята как молитва Иоасафа, так как в ней почти отсутствуют приметы, в которых мог бы проявиться Иоасаф. Устойчивые формулы, повторяющиеся во множестве произведений, могут быть произнесены как свое слово любым молящимся.
К тебе грешный притекаю, многи слезы проливаю: Благоволи мя прияти, еже тебеработати [С. 111,112].
Конечно, искушенный читатель в картине пустыни и в образе Варлаама узнавал известный сюжет. И все-таки у Симеона Полоцкого еще очень незначительными были индивидуальные характерологические признаки.
В анализируемой подборке стихотворений Симеона Полоцкого встречаются произведения со смешанной формой высказывания. В них проступают черты индивидуальности. Так, стихотворение «Честная» утверждает личную точку зрения «аз», которая противополагается философии Платона, выраженной в повествовательной форме:
Аз же предлагаю славу, ту бо от богатств лучше быти знаю [С. 164].
Далее еще раз сменяется высказывание: заключительное утверждение дается в форме множественного числа:
И паче сил телесе мощно ю вменяти, зане за ню и живот волим полагати, т. е. за славу и жизнь (мы) можем отдать. Это суждение логично могло быть высказано от субъекта в 1-м лице единственного числа, но в контексте стихотворения «волим» (т.е. можем) включает в себя «аз» и неисчислимое множество других, считающих так же.
Стихотворное переложение Псалтыри предваряется обращением «К благочестивому же читателю», построенным как дидактическое наставление от личного субъекта в глагольной форме 1-го лица: «молю тя, здравым умом… а то извещаю, поелику сам спастися желаю… и за мя, грешна, ему помолися… ея же верно аз тебе желаю, милости твоей сам ся поручаю» [С. 167—169].
Образ «я» приобретает определенность в пределах традиции; приметы эмпирической жизни не входят в стихотворное произведение. Но даже и таким образом заявленное личное начало чрезвычайно редко у Симеона Полоцкого.
Интересная закономерность обнаруживается в виршах этого стихотворца: к личной форме высказывания он обращается в тех частях произведений с эпическим высказыванием, в которых рассуждает о творчестве, о поэтическом слове, его красоте и воздействии на человека. В «Приветстве… царю… Алексию Михайловичу… «по случаю его вселения в дом в селе Коломенском стихотворец самим словом стремится создать прекрасное подобие выстроенного дома. Это стихотворение — тот редкий случай у Симеона Полоцкого, когда реальный факт, жизненная эмпирика стали основой художественного произведения:
Видя в дом новый ваше вселение, в дом, иже миру есть удивление.
В дом зело красный, прехитро созданный, честности царстей лепо сготованный, Всячески дивный, красный и богатый, велелеп извне, внутрь нескудно златый [С. 108—110].
Избирается объективное, безличное, как бы со стороны, повествование, которое дает возможность включиться авторскому «я» в художественное событие:
Аз тех лишенный, дерзнух приходити с приветным словом, тем верность явити.
Слово из сердца исходно бывает, что в чием сердце, то светло являет.
Не тако злато, убо яко цату приношу слово в царску ти полату Христос царь цату изволил прияти, ты, царю, приими слово в место цаты Слово же мое сияти вещает, их же благ сердце мое ти желает [С. 110].
Далее высказывание явно принадлежит авторскому «я», субъектно не проявленному, но остается та же повышенная взволнованность. Однако меняется объект изображения: если в приведенном тексте этим объектом был сам субъект речи, то далее объектом изображения становится царь.
Здравствуй, пресветлый царю, многа лета, живи век долгий в любви Христа света, В доме сем новом, в нова человека облечен, живи до кончины века.
В заключение субъект речи и объект изображения «я» вновь совпадают; но слово «я» обращено и к другому:
Сих сердце мое благ тебе желает, а слово сие верно извещает, Еже изволи в милости прияти, на мою худость светло призирати [С. 108—111].
Оказавшись яркой фигурой в истории русского стихотворства второй половины XVII в., Симеон Полоцкий еще не подошел к тому, чтобы события собственной жизни, переживания собственной души сделать предметом изображения. Он даже делает шаг назад в сравнении со стихотворцами первой половины XVII в., составившими так называемую приказную школу. Личное в прямом значении почти ушло из стихов Симеона Полоцкого. Его усиление наблюдается в дошедших до нас стихотворных произведениях учеников и последователей Полоцкого — Сильвестра Медведева и Кариона Истомина, присутствует оно в выражении точки зрения на изображаемое личностно проявленного носителя речи. Так строятся «Стихи воспоминати смерть приветством» Кариона Истомина:
Воззрю на небо — ум не постигает, како в не пойду, а бог призывает.
На землю смотрю — мысль притупляется, всяк человек в ту смертью валяется [3; 211].
В отличие от Симеона Полоцкого его ученики, как и поэты «приказной школы», сообщают в виршах о фактах частной жизни. Например, Карион Истомин называет свое имя в заключительной, четырнадцатой главке стихотворного переложения Домостроя:
Наук изрядством Карион дети вся дарит, в приятность иеромонах и старым говорит Истомин сообщает время написания своих виршей:
Карион хуждший хотящым словеса иеромонах Истомин написа Седмь тысящь двесте четвертаго лета генваря луны мирозданна света сие издадеся [3; 211].
В таком проявлении личного начала нет индивидуального почерка. Устойчивые повторы этикетного характера встречаются постоянно. Они — признак эстетики древнерусской литературы, в которой все значимое узнаваемо, знакомо. Однако приметы индивидуального стиля в соединении с личным началом присутствуют в «Сказании о страстях Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, како претер-пе безвинно создатель всех от беззаконных жидов поругание и крест и смерть ради грех и беззаконий наших», которое атрибутировано А. М. Панченко Сильвестру Медведеву [6; 115—135].
Публикатор произведения относит его к жанру декламации.
Исследователь отмечает, что «наиболее простая разновидность этого жанра, когда связанные общей темой монологи произносились поочередно „строками“ [6; 116]. „Сказание.“ Сильвестра Медведева может представлять собой особую разновидность декламации», которая открывает путь к формированию эпической поэмы, в то время как другие разновидности этого жанра древнерусской литературы вплотную подходили к драме. Анализируемое произведение состоит из шестисот сорока четырех стихов силлабического одиннадцатисложника, в основном парной женской рифмовки. Рифма, по преимуществу, — глагольная. В «Сказании…» множество диалогов, соединенных сюжетным повествованием, что, по всей вероятности, дает основание видеть в нем признаки жанра декламации.
В основе сюжетного повествования «Сказания…» лежат события, запечатленные в Евангелии. Повествование о последних трагических событиях земной жизни Иисуса предваряется кратким вступлением. Уже в нем присутствует та повышенная, ярко выраженная эмоциональность, которая задает тон всему последующему изложению. Субъектная структура вступления традиционна: носитель речи выступает в местоименной форме «нам», «нас», «наш». Выбор такой формы высказывания обусловлен содержанием: то, что произошло много столетий назад, одинаково значимо как для повествователя, так и для слушателей-читателей.
Солнце бо наше како изменися, радость во слезы, день в нощь преложися! Велий дождь слезны очи заливает, дух от печали внутрь нас исчезает.
О страдании ти днесь глаголати благоволи нам помощь твою дати [7; 123] .
Далее стихи Сильвестра Медведева цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте.
На протяжении всего произведения субъект речи и слушатели будут включаться в повествование несколько раз в местоименной форме «нас», «нам», «наш» и в глагольной форме 1-го лица множественного числа — «молим», «поклоняемся».
Един той за нас умирает и всех нас вечны смерти свобождает [С. 124].
Завет язык живота вещательна, присно всем благо нам глаголательный, Глаголати у от труда престаше.
паче и вся плоть нас дела страдаше [С. 128].
Царю нашему Феодору дати… [С. 134].
Молим тя: сына упроси твоего Христа нашего бога любезнаго [С. 134].
Подаждь твоему благоверну рабу, а нас от сына ти данному дару [С. 134].
Молим тя, дево, чрез слезы драгия,.
Молим: упроси у сына твоего присно всем жити в благодати его, Страсти же его в памяти имети, сице нас ради страдавшему пети:
Покланяемся страстем твоем, Христе, Яви славное твое воскресение! [С. 135].
Таким образом, автор расширяет художественное пространство и время: участниками событий «Сказания…» оказываются не только исторические Христос, Мария, Иуда и другие, но и сегодняшние автор и слушатели-читатели.
Важно отметить, что всякий раз, когда в произведении появляется местоименно выраженный субъект речи, содержательно это уместно и значимо. В «Сказании…» переход от повествовательного высказывания к личному не случайность, не дань литературному этикету, а перелом в развитии сюжета, фиксирующий переход от исторического прошлого к настоящему моменту, от действий исторических персонажей к действию повествователя и слушателей. «Сказание.» зафиксировало зарождение функционально значимого субъектного высказывания.
В той же части анализируемого произведения, где субъект речи личностно не обозначен и не участвует в сюжете, его отношение к изображаемому действию выражено внесубъектными средствами. Выразительным оказывается лексический пласт. Немногочисленны слова, обозначающие эмоциональное состояние всех персонажей: страх и трепет несказанный; злой. Тем не менее эмоциональный накал повествования очевиден, и создается он синтаксическими средствами: прежде всего, риторическими восклицаниями и вопросами, параллелизмами в развернутых синтаксических единицах. Так, из пяти предложений вступления лишь одно завершается повествовательной интонацией, а четыре — риторическими вопросами и восклицаниями:
Кто ся не дивит и не ужасает, от своих очес слез не изливает?
Новый Израиль, от бога избранный, прииде и виждь страх и трепет несказанный!
И далее, по ходу развития содержания повествование постоянно перебивается риторическими вопросами и восклицаниями:
О, колика ти бысть поношения от них, злотворцев, и укорения! Кто-то возможет все изглаголати ли писанию подробну предати? О всезлии, что се содеваете себе в вею огнь уготовляете! [С. 126].
О, что се страшно и чюдно явися, яко владыка к мукам осудися!
О, колико ту Иисусе стеняше и от любых ран болезни терпяше! [С. 127].
и т. д. Эти конструкции, встречающиеся в повествовании, освещают события с точки зрения повествователя и в его эмоциональной окраске. В «Сказании.», насыщенном диалогами, широко используются энергичные, выразительные, близкие к разговорным синтаксические конструкции:
Нецып его в ланиту бияху, прорицания слышати хотяху:
" Прорцы, прорцы нам, Христе Иисусе, сый покровенный от нас в убрусе, От предстоящих кто тя ударяет?" [С. 125].
Другий от воин его обличает Яко: «Со Христом тя во вертограде видех»,.
Петр же ему рек, яко: «Ту с ним не бех» [С. 125].
Абие Пилат жидов созывает, из претора с ним изшед, возглашает:
" На мужа сего что порицаете, и вину кую в нем изявляете?" [С. 126].
и т. д. Нередки в произведении диалогические сцены с участием нескольких евангельских персонажей.
Авторское повествование пестрит оценочными характеристиками действий, событий, персонажей. Берущие Иисуса воины «злии»; «злии волцы». Анна, которому приводят во двор Иисуса, «злый», «зело преяростный», «весма нежалостный», «пес скверный»; у мучителей Иисуса «немило-стию сердца… горяху», они «всезлейшие»; Пилат «сквернии руце умывает»; «вои проклятии»; «род родов злозливый», «спекулаторы злые». В отличие от врагов Иисус — «агнец кроткий», «праведный агнец», «светлое лице его», «пречисте нозе», «Христос и ничто же вопреки глаголание», «безгласен». Черно-белые краски характеристики персонажей — в традиции древнерусской литературы, и автор выступает здесь прилежным последователем этой традиции. Повествование оказывается эмоционально выраженным, когда в него врывается непосредственный голос автора, переводящего повествование из прошлого времени (именно это грамматическое время преобладает в «Сказании…») в настоящее, создавая впечатление о том, что все совершается в данный момент.
О всезлии, что се содеваете, себе в вечный огнь уготовляете! [С. 125].
О, колико ту Иисус стеняше и от лютых ран болезни терпяше! [С. 127].
Это произведение несет в себе черты художественности, которые разовьются в литературе значительно позднее. Многие черты стиля, отмеченные нами, будут свойственны лирике. Само же «Сказание… «соединяет в себе принципы лирического и эпического художественного изображения. Ориентация на изображение душевного состояния персонажей, эмоциональная окрашенность событий, включенность повествователя в событийный сюжет, его местоименная проявленность — все это в совокупности присутствует в произведении, составляя его лирическую основу. Столь же развита в произведении его эпическая основа.
Основной событийный сюжет в «Сказании… «— исторический, заимствованный из Евангелия. Особенность его в том, что автор, избирая для изображения кульминационное событие земной жизни Иисуса Христа, свободно контаминирует различные версии этой жизни, сообщенные четырьмя евангелистами. В итоге он подробно излагает историю, в которой участвуют многие люди, придающие смерти Спасителя. Но особый акцент сделан на том, чему ни в одном Евангелии не уделяется так много внимания, — это физическое насилие над Христом и его неимоверные страдания, в изображении которых автор «Сказания.» вполне самостоятелен. Он только отталкивается от фактов, сообщаемых в Евангелии. Однако следует отметить, что автор не домысливает события, а концентрирует в своем произведении подробности, взятые из всех четырех Евангелий. Но если в первоисточнике эти подробности немногословны и о них сообщается сдержанно, то в «Сказании… «постоянна эмоционально-участливая авторская позиция, непременны оценочные характеристики всех участников событий. Обстоятельно излагаются действия, связанные с истязанием Христа:
Злии же вой Иисуса взяху, ужели прекрепко того увязаху.
безмилостивые Иисуса биша Святыя руце прекрепко связаху, Яко злодея связана влечаху.
От воев тамо на землю падеся, лице его в нем о камень претреся.
Нецыи его в ланиту бияху.
Пречисте нозе в клажу заклепаху.
Егда же его в путь вой ведяху, заушаху и зельно бияху.
Воини в народ Христа изведоша и при всех ризы с него совлекоша.
К столпу и злии привязаху и без милости презельно бияху.
Тако и вой проклятии биша, даже и кожу от тела отбиша.
и венец тернов на главу возлагают.
Но от терния ости проницаху, главу до мозгу люто прибиваху.
вземши трость, во главу Христа биша.
Власы кровию главы смочишася лице, все тело очервленишася.
Яко нигде же целу месту быти еже бы крови множества не точити.
и т. д. Стремление к исчерпывающе подробному описанию еще далеко от умения пользоваться выразительными деталями. Здесь видна установка автора на изображение человеческой сущности Христа.
Произведение, созданное в эпоху смуты, в эпоху, когда человеческие судьбы круто менялись под влиянием событий при царском дворе, когда вчерашние фавориты сегодня становились гонимыми, а нередко их казнили (тому много примеров: Никон и Аввакум, Сильвестр Медведев и другие), говорило о силе зла, но в то же время утверждало милосердие, надежду на возмездие. Евангельская традиция бесстрастного, объективного, констатирующего повествования нарушена в «Сказании.». В нем автор негодует, сочувствует. Все действия, поступки излагаются оценочно. Нравственная оценка, которая звучит в повествовании о предательстве Иуды, надругательстве над Христом, о его смерти, сопровождается эмоциональными авторскими восклицаниями:
Ах, каков велий страх бысть несказанный, от бессловесных тварей показанный.
Како же мати, зря сие, терзася, болезненными стрелы пронзася!
Како душа не изступи тела от такового ужасного дела.
О, колико ту ему было страсти, егда господу с крестом бяше пасти!
Непосредственное включение автора в повествование придает произведению лирическую окраску, почти не встречающуюся в стихотворстве XVII в.
Однако при ярко выраженной эмоциональности автор обнаруживает слабое усвоение принципов композиции произведения. Явно несоразмерными оказываются части произведения. Так, приступ состоит из восемнадцати стихов, первая часть основного повествования — из четырехсот двадцати двух стихов, вторая — из ста тридцати двух, третья, заключительная, — из семидесяти двух стихов. Вступление и заключение, небольшие по объему, совпадают по структуре высказывания: носитель речи, проявленный в местоименной форме, появляется только в этих частях произведения. Центральная часть, построенная как эпическое повествование, посвящена предательству Иуды, обвинению и приговору, вынесенному Иисусу Христу, казни и мучительной смерти Спасителя, оплакиванию его Марией. Все эти сюжетные действия предстают во множестве подробностей, которые выступают как равнозначные и формируют композицию последовательно подчиненных частей. Обилие диалогов и монологических высказываний персонажей — свидетельство того, что для Сильвестра Медведева Евангелие является источником его литературных штудий, с которым он обращается свободно. Писатель не создает свой сюжет и своих героев, а заимствует их из общеизвестного источника, придавая героям человеческие, земные черты и лишая их божественного начала. Этот сюжет позволяет автору достичь и политических целей, когда он в заключение молит пресвятую деву Марию о царе Федоре, царице Наталии, царевичах Иоанне, Петре, молит о защите от врагов и т. д. Субъективная проявленность углубляет лирическую окрашенность эпического в своей основе повествования.
«Сказание о страстях господа Бога… «, атрибутированное, как уже отмечалось, А. М. Панченко, Сильвестру Медведеву, поражает своей эмоциональной яркостью и художественностью, что особенно очевидно при сравнении анализируемого нами произведения с другим, принадлежащим Сильвестру Медведеву и близким ему по содержанию, — «Вирша в Великую субботу» (31 марта 1685 года), значительно меньшим по объему (всего сто сорок строк). В самом общем виде «Вирша…» повторяет структуру декламации «Сказания…»: четырехстрочный зачин, сообщение о казни Христа, плач Марии, который дан как ее монолог; затем к оплакиванию Христа присоединяется повествователь, выступающий в форме «мы».
Потщимся убо и мы слезы изливати.
О Христе вселюбезный, раны ти лобызаем [3; 199].
Далее — молитва ко Христу о спасении государей русских, государыни, великих княжен и т. д., и завершается произведение личным авторским пожеланием:
Того светлости вашей аз желаю, а до стоп ножных поклон сотворяю.
Смиренно прося мя выну щадити, иже вам имам раб всеверный бытии [3; 201].
Однако при внешней структурной близости существенными являются различия этих произведений. Во-первых, в «Виршах… «отсутствуют лирическая окрашенность стихотворной речи и эмоциональная оценка того, о чем сообщается. Во-вторых, повествуя о судьбе Христа, в частности, описывая некоторые события последнего дня его земной жизни, в «Виршах… «автор лишь констатирует их, воспринимая как бы со стороны:
Благодетеля на свет молят осудити, а убийцу лютаго свободно пустити.
Вземши убо и вой, тело обнажиша, во многие перемены без пощады биша.
Тече кровь пресвятая, все тело язвися, ты душа правоверна, зряще преслезися! [3; 198].
В-третьих, в «Сказании…» автор и читатели-слушатели молят о заступничестве Пресвятую деву Марию, а в «Виршах…» — Иисуса Христа. В-четвертых, в «Виршах…» субъект речи выступает как в форме «я», так и в форме «мы», однако образ автора, его внутренний мир, проявление чувств в «Сказании…» определеннее, ярче и выразительнее. Есть различие и в стихотворной форме: «Вирши…» написаны тринадцатисложником, «Сказание… «— одиннадцатисложником; в том и другом произведениях — парная рифмовка с женскими окончаниями.
Анализ субъектной структуры стихотворений, созданных в старшую пору развития русской литературы, приводит к следующим выводам.
Стихотворство обладает синкретическими свойствами, оно еще очень далеко от родовой дифференциации.
Создание стихов для творца было привлекательно с формальной стороны. Ритмическая и рифменная организованность, внешняя графика (столбцы, геометрические фигуры, выполненные стихами) формировали искусно и искусственно организованную речь.
Стихотворные произведения XVII в. в субъекте речи (чаще всего, повествователь, или «мы»), в адресате речи (адресат затекстовый, читатель), в объекте изображения (мир вокруг, воспринятый символически или эмпирически) и в предмете изображения (действия, события, Библейская, Евангельская история) близки эпическому литературному роду.
Изменения в сложившейся системе были связаны с единичными фактами обращения к место-именно оформленному субъекту речи в 1-м лице единственного числа («я») и к новому предмету изображения (состояние души, эмоциональные переживания). В стихах Симеона Шаховского и Ев-фимии Смоленской впервые совпали субъект речи и предмет изображения.
В произведениях с личной формой высказывания эмбрионально заявил о себе лирический литературный род на русской почве.
Литературные стихотворные произведения, как правило, имеют жанровое обозначение. Однако в стихотворстве, как и в прозе, по-прежнему жанр выполняет внелитературные функции. На уровне субъектного строя литературная природа жанра себя не обнаруживает вполне ожидаемо.
- 1. Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // Литература Древней Руси: этюды и характеристики. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 235.
- 2. См. об этом: Панченко А. М. Русская стихотворная культура ХЩ века. — Л.: Наука, 1973. — С. 176.
- 3. Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.еков. — Л.: Сов. писатель, 1970.
- 4. Маутхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. — М.: Наука, 1976. — 204 с.
- 5. Виноградов В. В. Очерки по истории русской литературы ХЛШ-Х'УТП веков. — М.: Высш. шк., 1982. — 403 с.
- 6. Панченко А. М. Декламация Сильвестра Медведева на тему страстей Христовых // Рукописное наследие Древней Руси (по материалам Пушкинского Дома). — Л.: Наука, 1972.
- 7. Медведев Сильвестр. Сказания о страстях Господа Бога … и беззаконий наших // Рукописное наследие Древней Руси (по материалам Пушкинского Дома). — Л.: Наука, 1972. — С. 123−135.
[1]Далее стихи Симеона Полоцкого цитируются по этому изданию с указанием страницы в тексте. 108 Вестник Карагандинского университета.