«Арлекино». В. Загороднюк
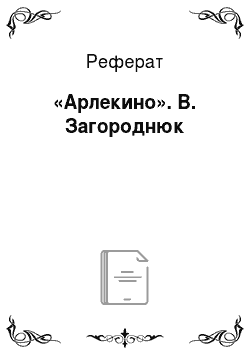
К концу 70-х годов в любом концерте, будь то сборный или целиком посвященный хореографическому жанру, можно было увидеть так называемые «негритянские» танцы. Музыкальным материалом им служили записи популярных ансамблей, хореографический материал черпался из более или менее верных источников — впечатлений от выступлений африканских коллективов в Москве или же полученных во время гастролей наших… Читать ещё >
«Арлекино». В. Загороднюк (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Номер сделан с верным ощущением длительности каждого эпизода (Виноградова обладает этим ценнейшим свойством), с умением максимально обыграть ситуацию, выразив в ней множество психологических оттенков. У Баева и Водопьянова закончена и отработана каждая деталь номера, что создает впечатление легкости, почти импровизационности происходящего. Есть в номере и еще нечто весьма существенное для эстрадного искусства — демонстрация свободного владения оригинальной техникой. В данном случае — сплавом танца, акробатики и актерского мастерства.
Таким же разнообразием технических возможностей и диапазоном актерской выразительности обладает еще один талантливый танцор, сотрудничающий с Виноградовой, Владимир Иванович Загороднюк (1945). Молдаванин по национальности, с весьма типичной внешностью (высокий, темноволосый, кудрявый, со жгучими глазами), он с тринадцати лет участвовал в школьной самодеятельности Кишинева, исполняя молдавские танцы. По совету Марии Биешу (увидевшей его в концерте) поступил в хореографическое училище. Профессиональная работа юноши началась в ансамбле «Жок» (1963;1966). Военную службу он проходил в Ансамбле песни и пляски Одесского военного округа, а с 1968 по 1977 год работал в Ленинградском мюзик-холле, где ему довелось участвовать в постановках многих первоклассных балетмейстеров — И. Вельского, М. Годенко, Г. Вальтер, В. Манохина, В. Катаева. Для Загороднюка это были годы овладения мастерством — знакомства с новыми танцевальными системами и осознания своего стремления самостоятельно выступать на эстраде, ибо Загороднюк из тех актеров, которые неизбежно «выламываются» из коллектива. Его дебют на эстраде состоялся в 1973 году номером «Время борьбы». За исполнение этого номера, созданного Борисом Эйфманом на народную чилийскую музыку, Загороднюк был награжден второй премией Пятого Всероссийского конкурса артистов эстрады.
Трагедия чилийского народа — тема, к которой Эйфман, да и многие балетмейстеры будут возвращаться неоднократно, — во «Времени борьбы» прозвучала очень сильно. Первая же поза танцора (по пояс обнаженного), стоящего на коленях, спиной к зрителям со связанными руками, поражала скульптурной выразительностью. Экспрессия борьбы с сильным, жестоким врагом, преодоление бессилия измученного тела и конечная победа сильного духом человека была воплощена Эйфманом динамичной и сложной танцевальной лексикой, великолепно переданной Загороднюком. Созданный им образ обладал величием и захватывающим драматизмом.
Эта же черта дарования актера подсказала Виноградовой замысел трагического гротеска — «Арлекино» — на музыку и тему известной песни болгарского композитора Э. Димитрова. Образ паяца, скрывающего душевную боль за смеющейся маской, не нов, но каждое время окрашивает его своей интонацией. В песне Димитрова есть такие слова: «Мной лишь заполняют перерыв». Виноградовой также захотелось сделать акцент на равнодушии к человеку. Этот паяц лишен страстного протеста — мы не видим, чтобы его лицо искажалось мукой, — он притерпелся к своему положению. Марионеточные отрывочные движения, всплески вымученного веселья (совпадающие с истерическим хохотом в рефрене песни) говорят о его душевной сломленности. Когда паяц привычным жестом протягивает на ладони свое сердце в зрительный зал и в который раз убеждается, что оно никому не нужно, сердце внезапно возвращается на место (трюк с резинкой), вызывая веселый и в общем-то жестокий смех зрителей. Балетмейстер дает почувствовать непрерывность унизительного лицедейства и безнадежную одинокость персонажа самим композиционным рисунком номера: он начинается с марионеточного выхода паяца из правой кулисы, а завершается таким же уходом в левую.
Со временем Загороднюк переосмыслил концовку номера, придумав «сугубо актерский» финал: «После короткого поклона головой в руках паяца неожиданно возникает огромный букет цветов. Впечатление такое, будто этот букет ему бросили из зала» (Бойко А. Танцует Владимир Загороднюк. — «Сов. эстрада и цирк», 1980, № 9, с. 22.). Трюк эффектный, но нарушающий трагедийную атмосферу номера, вносящий чуждую первоначальному замыслу оптимистическую ноту.
Но Загороднюк одержим совершенствованием своего репертуара, поисками новых идей. Танцор обладает завидной энергией, жаждой деятельности, которые подчас толкают его на ошибки. В частности, Загороднюк не стремится закреплять контакты с балетмейстерами, создавшими для него удачные постановки, он постоянно обращается к новым. «Я люблю работать с теми хореографами, которые дают мне свободу инициативы — ведь я всегда сам придумываю идею номера, а иногда и движения» (Из беседы с В. И. Загороднюком (1980 г.)), — рассказывает Загороднюк. Таким хореографом оказался балетмейстер Хореографической мастерской Москонцерта Давид Плот-кин (1935), с которым Загороднюк сотрудничает чаще, чем с другими. У них есть удачные работы, как, например, «Привет, Бо-ни-М!», но предпринятая ими попытка осовременить «Яблочко» привела к неудаче.
По замыслу предполагалось показать развитие традиции этой классической краснофлотской пляски. Но в постановке Плотки-на — Загороднюка узнаваемой осталась лишь мелодия, да и то в начале номера. Затем она видоизменяется, приобретая ярко выраженные черты стиля диско. Тогда как в пластике этот стиль заявлен сразу же (преобладают подрагивания бедрами и всем корпусом). К тому же танцор облачен в белый атласный костюм, отделанный блестками по клешу брюк и матросскому воротнику (костюм придуман и осуществлен самим Загороднюком), на обратной стороне воротника красуется надпись: «Эх, ма!» -которую зритель видит в конце номера, когда танцор склоняется в поклоне. Создателям номера изменил вкус и — не побоимся ответственного слова — политическое чутье. Ведь «Яблочко» ассоциируется не только с бесшабашной матросской удалью, с ядреными шутками, но в первую очередь — с героическими поступками советских моряков, совершавшимися в гражданскую войну, Отечественную и в наше обманчиво мирное время.
Жаль, что Загороднюк подошел к решению этой темы без должной серьезности — ведь у него все данные для воплощения столь многопланового образа: прекрасная, истинно героическая внешность, широкий актерский диапазон, техническая оснащенность — словом, все, что требуется.
В «Яблочке», по-видимому, сказалась инерция работы над предыдущим номером, завоевавшим танцору и балетмейстеру заслуженный успех, — «Привет, Бони-М!» — забавной пародией на исполнительскую манеру этого гастролировавшего у нас популярного негритянского ансамбля, чьи выступления рассчитаны в равной степени на слуховое и зрительское восприятие.
Нарочитая карнавальность костюмов, в которых преобладает белый атлас и мишурные украшения, причудливые головные уборы на певицах и берет с помпоном на бородатом ударнике декларируют озорство как главный принцип коллектива. Справедливость требует сказать, что ансамбль состоит из хороших музыкантов, неплохих певцов, держащихся на эстраде с завидной раскованностью. В целом выступления «Бони-М» театральны, праздничны, чем и завоевали симпатии молодого зрителя.
Выход Загороднюка чрезвычайно эффектен: под звуки фонограммы выступления «Бони-М», в которой постоянно звучат и аплодисменты публики, провоцируя реакцию зрительного зала, в луче света движется нечто сверкающе-лохматое: высокий головной убор танцора, его плащ покрыты елочным «дождиком». Сбросив их, он остается в белом, атласном, свободно висящем на нем костюме, повторяющем костюм солиста ансамбля. Да и его пластика почти та же: синкопированные, нарочито экстатичные движения, однако же намного более трудные. Загороднюк делает повороты, прыжки, внезапные падения в сложно закрученные позы. При этом все время имитирует пение, забавно обыгрывая микрофон. Солисты «Бони-М» обращались с ним весьма вольно, наклоняя в разные стороны. Загороднюк же «поет» в микрофон почти у самого пола, вращает его вокруг себя, превращает в лошадку, на которой гарцует вдоль рампы, и т. д.
Приходится согласиться с А. Бойко, что «вторая часть номера „Бони-М“ по своим выразительным средствам слабее, чем первая, поэтому в середине номера ощущается некоторый провал, и артисту приходится прилагать большие эмоциональные усилия, чтобы удержать внимание зрительного зала» (Бойко А. Танцует Владимир Загороднюк. — «Сбв. эстрада и цирк», 1980, № 9 с. 22.). Но в финале вновь найден эффектный штрих: танцор подхватывает с пола свой сверкающий плащ и уходит, бесцеремонно волоча по полу микрофон.
С тонким чувством юмора и большой наблюдательностью Загороднюк высмеял развязную манеру поведения на сцене части зарубежных гастролеров, которым, к сожалению, бездумно подражают некоторые наши певцы и танцоры, не принимающие во внимание ни своих индивидуальных данных, ни традиционной для русских артистов своеобразной сдержанности в проявлении эмоций. Сдержанности не от недостатка темперамента, а, скорее, от некой душевной целомудренности, от непривычки излишне обнажать свои чувства.
Наше время — время интенсивных международных контактов и культурных связей. Однако же, общаясь с различными народами, мы стараемся воспринимать у них лишь то, что согласуется со складом нашего национального характера, с нашими традициями. Любая национальная хореография складывалась под влиянием многих обстоятельств: общественно-экономических и климатических условий, а также чисто физиологических свойств народа — характера, темперамента, специфического строения фигур и т. д. Африканцы и жители Латинской Америки чрезвычайно пластичны и чутки к разнообразию ритмического рисунка, который и составляет основу их танцев. Нашими артистами танцы эти, откровенно говоря, усваиваются с трудом и часто в их исполнении приобретают вульгарный характер. Но они нравятся немалой, в основном молодой части публики, поскольку ритм сам по себе обладает огромной силой воздействия, в чем легко убедиться на концертах ВИА, завоевывающих зрителей и слушателей, к сожалению, вне зависимости от того, что и как они исполняют.
К концу 70-х годов в любом концерте, будь то сборный или целиком посвященный хореографическому жанру, можно было увидеть так называемые «негритянские» танцы. Музыкальным материалом им служили записи популярных ансамблей, хореографический материал черпался из более или менее верных источников — впечатлений от выступлений африканских коллективов в Москве или же полученных во время гастролей наших артистов в Африке. И тем не менее ни разу не был создан номер, в котором возникала бы своеобразная и, по-видимому, трудно воспроизводимая для танцора другой расы красота африканских плясок. Да и внешне наши исполнители, как правило, выглядели неприглядно: большинство из них ленилось покрывать тело черной краской, забывая, что сам по себе темный цвет кожи как бы одевает фигуру танцора, а на белой коже при сценическом освещены даже подлинные детали африканских костюмов — все эти юбочки и ножные браслеты из сухой травы — приобретают сероватый оттенок, теряют эффектность.
И все же можно привести примеры удачного воплощения негритянской пластики, которые не столько опровергают, сколько подтверждают сказанное ранее. Первый пример — образ учителя Мако, созданный Игорем Вельским в балете «Тропою грома» Кара Караева на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (1958). Готовясь к этой работе, Вельский имел возможность видеть спектакли негритянской труппы «Эвримен опера» из США и консультироваться с ее актерами, что помогло ему обогатить хореографическую лексику постановщика спектакля Константина Сергеева.
Все роли Вельского — этого выдающегося танцора — всегда отличались неожиданностью и точностью пластического рисунка. И его Мако убеждал не только характеристичностью пластики, но и слиянием яркой формы с психологической сущностью образа — страстного борца за равноправие своего народа. Достигнутый актером высокий художественный результат был тем более значительным, что спектакль «Тропою грома» отвечал актуальнейшей для конца 50-х годов теме — началу неизбежного процесса превращения африканских стран из колониальных в самостоятельные государства.
Второй пример актерской и постановочной удачи создания образа негритянки также связан с событием, всколыхнувшим всю мировую общественность. Балетмейстеры Юджамей Скотт и Юрий Папко посвятили свой номер «Зов Анджелы» героической американке — Анджеле Девис. Многое в номере определило то, что для Ю. Скотт — негритянки по отцу — хореографический материал был близок. Скотт и Папко чутко подошли к выбору исполнительницы роли Анджелы, остановив свой выбор на молодой танцовщице Большого театра Людмиле Буцковой, по удлиненным пропорциям фигуры подходящей для создаваемого образа. Постановщики сумели привить ей и нужную манеру — особенную эластичность походки и страстную выразительность жестов в кульминационные моменты этого танцевально-пантомимического монолога. «Зов Анджелы» был высоко оценен жюри Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета (1972) присуждением постановщикам второй премии. Однако же номер редко исполнялся в концертных программах.
К концу 70-х годов на танцевальной эстраде вспыхнуло увлечение стилем диско. Даже вечера Хореографической мастерской Москонцерта декларативно обрамлялись номерами этого стиля. Помимо музыкальных и хореографических особенностей (однообразия мелодий и вульгарных движений) они отличались вызывающей карнавальностью костюмов, в которых золото становилось не только главным колористическим пятном, но и приобретало значение своеобразного символа золотого тельца. Оно сверкало блестками на лицах исполнителей, на парче и атласе костюмов, которые излишне обнажали фигуры танцовщиц: разрезы юбок поднимались до самой талии, также до талии делались и глубокие вырезы декольте.
Появление подобных номеров («Диско», «Импровизация в современных ритмах» и др.), довольно странных для художественных и идейных критериев советской эстрады, можно объяснить лишь стремлением во что бы то ни стало завоевать успех в соревновании с далеко не лучшими вокально-инструментальными ансамблями. «Стандартизованность и банальность» их репертуара, отличающегося оглушительной монотонностью музыки и предельной функциональностью текста песен, привели, по справедливому утверждению Ал. Колосова, к тому, что в сознании слушателей произошла «некая эстетическая переориентация, затрудняющая подчас восприятие подлинного искусства, выходящего за рамки полупрофессионализма и воинствующей вульгарности» (Колосов Ал. Песня, не ищущая компромиссов. — «Сов. эстрада и цирк», 1980, № 1.1, с. 17.).
То же можно сказать и о воздействии доведенного до абсурда танцевального стиля диско. Хотя сам по себе этот музыкальный стиль не хуже и не лучше тех, что завоевали популярность в 70-х годах. Скорее, он отличался известной ограниченностью выразительных средств: равномерным ритмом, отсутствием конфликтности в тематическом развитии, — поскольку произведение, как правило, строилось всего на одной теме непременно бодрого характера и чрезмерно громком, специфическом звучании электроинструментов.
Но когда обращение балетмейстеров к музыке стиля диско обусловливалось не погоней за модой, а конкретным замыслом, возникал несомненный художественный эффект. Об этом свидетельствуют работы выпускника ГИТИСа Вакиля Александровича Усманова (1949).
Еще в стенах Алма-Атинского хореографического училища он увлекся испанским народным танцем (класс характерного танца вела М. Эхмединова), серьезно изучить который ему помогла (уже в ГИТИСе) Виолетта Гонсалес — педагог и балетмейстер, превосходно знающая хореографию своей родины (она из тех испанских детей, что приехали в Советский Союз в конце 30-х годов, во время гражданской войны в Испании).
В дипломной работе Усманова — «Испанском каприччио» Н. Римского-Корсакова, — поставленном в Таллинском театре оперы и балета «Эстония», можно было увидеть стремление молодого балетмейстера к созданию характеров, к психологической сложности танцевального действия, его умение находить конкретные детали изображаемой среды, а также то, что он свободно владеет испанским танцем как исходным хореографическом материалом. От любви к испанскому танцу в дальнейшем возник интерес Усманова к латиноамериканской тематике, которая легла в основу некоторых его эстрадных номеров.
Освоить жанр концертной миниатюры ему помогла стажировка в Пермском хореографическом училище (там он поставил классическое трио «Жить хорошо!» на музыку К. Баташева и румынский народный танец «Пастухи»). Но особенно много дала ему работа в Государственном училище эстрадного и циркового искусства, где он мог наблюдать творчество мастеров эстрадной режиссуры, в частности С. А. Каштеляна. Перенимая их опыт, Усманов учился создавать драматургическую конструкцию номера, расставлять его динамические и технические кульминации и — что самое важное — находить тему и соответствующие характеры. Как утверждает балетмейстер, его фантазия начинает работать лишь тогда, когда он ясно себе представляет конкретный человеческий образ (Из бесед с В. А. Усмановым (1980 г.)).
Несмотря на то, что в процессе обдумывания номера балетмейстер всегда подробно детализирует сюжет и психологию действующих лиц, эти придуманные реальные ситуации и чувства обретают в его хореографии обобщенно-образное решение.
Герой пластического монолога «Я помню тебя, Орландо», по рассказу Усанова, представлялся ему настолько переполненным ощущением радости и веры в жизнь, что, погибая в застенках чилийской хунты, он смог улыбаться. Столь нешаблонный характер героя был убедительно воплощен учеником Московского хореографического училища Гедеминасом Тарандой, у которого и внешность весьма подходила к задуманному образу — у него открытое, приветливое лицо, крупная, пластичная фигура (На Всесоюзном конкурсе балетмейстеров и артистов балета 1980 г. Усманов получил первую премию за постановку «Я помню тебя, Орландо». Г. Та ранда был отмечен как лучший исполнитель номера на современную тему.),.
" В. Усманов мастерски сливает приемы классики, современного танца, чилийского фольклора в единую, стройную и выразительную пластическую речь… Монолог органически включает сложнейшие танцевальные мизансцены, напряженные психологические ракурсы" (Эльяш Н. Откуда берутся звезды. — «Сов. культура», 1980, 29 февр.).
Музыкальный материал номера представляет симфоджазовую обработку чилийских народных мелодий в стиле биг-бита, а разнообразный хореографический материал объединен ритмом диско, чем балетмейстер и достигает стилистического единства танцевальной лексики.
Первая мизансцена — когда собранная в комок фигура танцора начинает равномерно вздрагивать, — может восприниматься по-разному: и как мучительный процесс мужания человека, но может и создать впечатление пытки под током. Пульсирующий ритм движений пронизывает номер, создавая динамическое напряжение всех его частей (первой — драматической, средней — светлой и последней — трагической) вплоть до заключительных тактов, когда герой уже не мог бороться — он распростерт на земле, и лишь поднятая кисть его руки, сжимаясь и разжимаясь, как бы продолжает посылать сигналы — нас не сломить! Талантливо найденная, запоминающаяся деталь.
Постановки Усманова, созданные для Татьяны Абрамовны Лейбель (1946) и Владимира Юрьевич Никольского (1948) столь же многозначны.
Содружество танцоров возникло во время совместной работы в небольшом коллективе под руководством В. Шубарина, где искались и разрабатывались новые приемы танцевальной лексики «Танцев в современных ритмах» .
Прежде чем попасть в этот коллектив, Никольский получил серьезную профессиональную подготовку — он окончил школу ГАНТа, занимался в студии бальных танцев, работал в разных эстрадных ансамблях, тогда как Лейбель овладевала танцевальным мастерством на практике — она недолго занималась в студии при Львовском театре и начала работать в Симферопольском музыкально-драматическом театре, исполняя игровые и танцевальные роли. Затем перешла в московский эстрадный коллектив «Бригантина». У Лейбель оказались хорошие способности — сценическая внешность, музыкальность, умение схватывать танцевальный текст.
Оба они искренне восхищались Шубариным и разделяли его убеждение, что для развития современной эстрадной хореографии весьма существенно восстановить ее связи с бытовым танцем. Поэтому старались быть в курсе последних течений эстрадной музыки и не упускали возможности узнать и освоить новые, модные танцы. «Даже на вечеринки мы ходили главным образом для того, чтобы вдоволь попрактиковаться» (Из беседы с В. Ю. Никольским (1980 г.)), — вспоминает Никольский.
Итак, отчасти развлекаясь, они наработали технику танца и обрели чувство партнерства — умение мгновенно реагировать на малейшее движение друг друга. Друзья их убеждали, что они будут хорошо смотреться со сцены, поскольку оба среднего роста, одинаковой комплекции (у Лейбель фигура изящнее и пропорциональнее). Но главное, что подтолкнуло их решение вместе работать, — это сходство вкусов и темпераментов; танцуют ли они для себя или выступают перед публикой — всегда с равным наслаждением. В этом, по-видимому, кроется секрет заразительности их танца.
Однако столь ценное свойство артистов проявилось не сразу. В первых их совместных выступлениях еще давала себя знать слабая техника Лейбель и связанная с этим неуверенность, эмоциональная зажатость, которая невольно передавалась Никольскому. По-настоящему они почувствовали себя в форме лишь в «Веселом диксиленде» — первом из номеров Манохина его серии в стиле ретро. Танцоры сумели передать характеры персонажей — своенравной девицы и влюбленного щеголя — с легкой иронией, подчеркнутой «подпрыгивающим» ритмом чарльстона. Время от-времени он прерывается музыкальными и пластическими акцентами — большими батманами девицы, которые воспринимаются как возмущенные возгласы по адресу надоевшего кавалера, для которого Манохин также нашел запоминающийся штрих: в финале он падает к ногам жестокой дамы каким-то очень смешным, винтообразным движением.
Перейдя в 1973 году в Хореографическую мастерскую Москонцерта, где они обрели официальное положение танцевальной пары, Лейбель и Никольский стали активно наращивать репертуар. Постепенно он сложился из номеров двух направлений: продолжающих игровую линию «Веселого диксиленда» и бессюжетных, чисто танцевальных, окрашенных различным эмоциональным состоянием, но и в том и другом случае созданных на основе интерпретации движений бытового танца, бытовых жестов и динамичных ритмов нашего времени. Отступление от этих принципов не приносило танцорам удачи! («Камаринская» в постановке Манохина).
Лейбель и Никольскому безусловно повезло, им не пришлось преодолевать предубеждение к современным формам легкой музыки. Не пришлось бороться за то, чтобы «Танцы в современных ритмах» стали узаконенным жанром — всего этого добился своим талантом и упорством Шубарин. Но, отдавая ему пальму первенства, все же следует признать, что эта пара достойно продолжила начатое им и сумела найти в этом жанре свою тему и свой стиль исполнения.
Однако же было бы неверным представить их творческий путь слишком гладким — признание было завоевано с трудом. На Пятом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады они потерпели поражение. Недостатки их исполнения трехчастного варианта «Танцев в современных ритмах» не выдержали сравнения с мастерством и благородной манерой Шубарина, бывшего тогда в расцвете сил (он же являлся постановщиком их номера). Но неудача не расхолодила артистов, быть может, даже подхлестнула их. Последующие четыре года, отделявшие Пятый от Шестого Всесоюзного конкурса, они целеустремленно и настойчиво работали, исподволь готовясь к новому состязанию. В ту пору им уже не приходилось испытывать недостатка в концертах, они постоянно участвовали в программах нового для Москвы зрелища — ресторанных варьете. Ежедневные контакты с публикой (которая, кстати, оценила танцоров раньше, чем специалисты) помогли обрести уверенность в себе — они стали естественнее держаться на сцене, более непосредственно выражать свою любовь к танцу и радостное восприятие жизни. Их «Лимба» напоминала эпизод веселого карнавального шествия. Оптимистичное настроение господствовало и в новом варианте «Танцев в современных ритмах», созданных на этот раз на основе латиноамериканских мелодий и танцевального фольклора.
