Событие в полиморфном нарративе готической традиции: лингвистические способы поворота винта
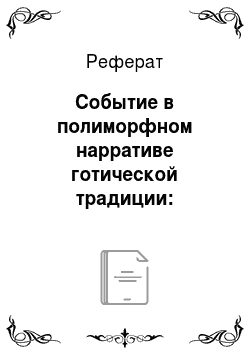
Данное столкновение является первым в ряду происшествий, связанных с событием. В целом событие организовано следующими происшествиями: 1) чтение письма об исключении Майлза; 2) первое видение гувернантки (призрак Квинта на башне); 3) второе видение гувернантки во время прогулки с Флорой; 4) третье видение гувернантки (на лестнице); 5) поведение детей ночью (Флора на подоконнике, Майлз у башни… Читать ещё >
Событие в полиморфном нарративе готической традиции: лингвистические способы поворота винта (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Музыкальная интерпретация создает впечатление первозданного текста.
Она словно знак, предшествующий языку. Путеводная звезда.
П. Киньяр. Тайная жизнь Статья посвящена выявлению языковых средств, реализующих «событие» в готическом нарративе — новелле Г. Джеймса «Поворот винта» и одноименном либретто. Выявить «событие» возможно путем анализа языковых сигналов — «следов». В новелле и либретто заметным «следом» является слово «bad». Как языковой знак слово анализируется с позиций разных персонажей.
Ключевые слова: нарратив, Готическая Традиция, событие, след.
Ігіна З. О. Подія в поліморфному наративі готичної традиції: лінгвістичні способи повороту гвинта (ex libro et libretto). Статтю присвячено виявленню лінгвістичних засобів, що реалізують «подію» в готичному наративі - новелі Г. Джеймса «Поворот гвинта» та однойменному лібрето. Виявити «подію» можливо шляхом аналізу мовних сигналів — «слідів». І в новелі, і в лібрето найбільш помітним «слідом» є слово «bad». Як мовний знак слово «bad» аналізується з позицій різних персонажів.
Ключові слова: наратив, Готичні Традиція, подія, слід.
Ihina Z. A. The event in polymorphous narrative of Gothic Tradition (a case of H. James’s «The Turn of the Screw»: novella and libretto). The article focuses on revealing linguistic means that realise the event in the gothic narrative — H. James’s novella «The Turn of the Screw» and the opera libretto of the same name. In the novella and libretto (though varying in structural peculiarities of the event) the most noticeable trace is expressed by such neutral word as «bad», and every appearance of this word in both texts «turns the screw» tighter. It is a common keyword sustaining the original story flavour. As a linguistic sign the word «bad» is analysed from perspectives of different characters.
Key words: narrative, Gothic Tradition, event, trace.
Постановка проблемы и анализ релевантных ей исследований. Идея сравнения способов языковой реализации события в известном литературном произведении (с одной стороны) и таком нетипичном для лингвистического анализа материале как оперное либретто (с другой) возникла у автора данной статьи на основании существенной, но, как это показалось на первый взгляд, необъяснимой, практически мистической разницы впечатлений, полученных от погружения (в случае оперы) в якобы давно знакомую атмосферу повествования об утрате детской невинности под давлением «неведомого зла». Произошло то же событие (описанное в новелле, экранизированное с разным успехом и даже интерпретированное как балетная постановка), однако произошло как-то иначе — болезненнее, трагичнее, тяжелее. Почему? Только ли в музыке причина; она ли — знак, предшествующий языку? Или все же не менее значимым, знаковым является и текст либретто, ведущий эту музыку и ведомый ею?
Музыка, составляющая «текст» оперы, — это дополнительный нарративный уровень, сквозь который следует воспринимать «послание» и который облегчает доступ к «непроницаемым словам», сплетающим событие [15, 127].
Событие — это многомерный, сложный междисциплинарный понятийный комплекс, ускользающий от четкой артикуляции. Ориентировочно событие может быть определено как глубинное состояние бытия, соприсутствие, становление бытия, совокупность явлений языка, темпорально и локально реализованных в акте речи для интерпретации и описания чего-то, как цельное со-бытие субъекта, объекта и адресата некоторого единого высказывания, последовательность чего-то свершившегося в совокупности происшествий [2, 7−69; 4, 198−205; 5, 320−329; 7, 80, 173; 8, 62−70; 12, 19, 32 -34]. Столь широкий интерес к изучению события подтверждает актуальность рассматриваемой проблематики.
Судьбоносное событие предстает как постепенное развертывание бытия во времени, что позволяет рассматривать его как нарратив. Термин «нарратив» денотирует любое произведение, излагающее некую историю, иллюстрирующую событие. Таким образом, первостепенным свойством нарратива является событийность как необходимость события [9, 13]. Событие — это изменение в ситуации, о которой повествуется, где ситуация — некая совокупность условий, на фоне которых разворачивается история. Событие как изменение ситуации дедуцируется из формулы [3, 223−224]: если ситуация представлена в нарративе как исходное состояние (F) чего-то/кого-то (x) в какой-то момент времени (tj), то эта ситуация может быть изменена, если нечто (H) происходит с x в момент (t2) после tj, в результате чего x меняет свое состояние (F на G) после t2 (в момент t3). Лаконичнее: если x есть F в tp и Н происходит с x в t2, то x — G в t3. Например: «I broke the seal with a great effort — so great a one that I was a long time coming to it; took the unopened missive at last up to my room and only attacked it just before going to bed. I had better have let it wait till morning, for it gave me a second sleepless night» (16, 184) — В приведенной цитате x — некто I (рассказчик) — испытывает серьезное волнение (F) относительно возможного содержания письма в промежуток времени t (когда ломает печать, скрепляющую полученное письмо, и терзается сомнениями до его прочтения перед сном). Чтение (и обретенное новое знание) является происшествием (H), в результате которого (t3) x лишается сна (G).
«Готическая Традиция» (ГТ) охватывает неоднородные (от произведений XVII—XVIII вв. и вплоть до постмодернистских текстов) формы художественного творчества, в разной степени аутентичности воспроизводящие типичные элементы содержания средневековых баллад, фольклора и ренессансной литературы [10, 29−39; 11, 4−10]. Это исторически закрепленная в художественной форме модель мировоззрения, обобщающая идею о невозможности самоидентификации человека в «реальности» как привычной среде обитания, осознание чего вызывает сомнения в познаваемости себя и мира, а значит и признание незащищенности перед неведомыми, вызывающими ужас силами. «Традиционность» идеи может быть аргументирована тем, что, появляясь в произведениях разных жанров и форм, она не требует пояснения, а является (на повседневном уровне) интуитивно понятной в результате взаимосвязи поколений. Произведения ГТ наполнены единым идейным содержанием при формальном многообразии — полиморфности. Событие как встреча «реального» с «неведомым» пронизывает весь нарратив.
Цель данной статьи — выявить средства языковой реализации события как основы нарратива в готической новелле Г. Джеймса «The Turn of the Screw» и ее интерпретации — либретто одноименной камерной оперы. С поставленной целью связаны следующие задания: 1) раскрыть структуру и специфицировать суть «события» в нарративе ГТ; 2) описать структурные особенности «события» в новелле и либретто; 3) выявить систематическую корреляцию структурных особенностей «события» и указывающих на них языковых сигналов. языковой событие новелла либретто Изложение основного материала исследования. Событие как основание ГТ — идеально абстрактно и проявляет себя в конкретных манифестациях, не сливаясь при этом с ними всецело, но сохраняя свою уникальность как основной принцип. Оно является границей, относительно которой определяются позиции всех задействованных в нем (событии) элементов. В манифестациях событие сливается со временем как неким «просветом протяженности» [8, 414−419, 469−476], состоящим из моментов «теперь». Проиллюстрировать данную рефлексию можно с помощью уже упомянутой формулы, где моменты «теперь» указывают на фиксацию смены состояний х. Конкретной манифестацией события является происшествие, обнаружить которое возможно по так называемым «следам».
«След» есть способ соотнесенности происшествия с событием посредством языковых сигналов. Метод поиска следа предлагается называть «трасологией (фр. la trace — след, гр. Xфyoз — слово, учение, причина) нарратива», так как именно нарратив выступает средой, где находятся следы события. След является знаком в динамике [1, 22−23], т. е. он очевиден только тогда, когда его означающее соотносится с другими означающими того же означаемого. След выявляется в необходимости наличного/ предполагаемого различия, иначе он стирает сам себя, из чего необходимо следует, что структурно след как минимум бинарен и полагается как привативная оппозиция, где оба элемента категориально значимы. Формулу следа можно записать как T = (s1 => H1) Л (s2 => H2), где T — след, H12 — происшествия, s — сигналы происшествий; => - импликация, Л — конъюнкция.
Происшествие, следовательно, является неким «узлом», увязывающим состояния до него (происшествия) и после, — точкой, отражающей (лат. punctum refractionis) F с одной стороны и G — с другой, причем F и G осуществляются как со-стояния (т.е. сопричастные событию совокупности наличных в определенный момент «теперь» условий) только через происшествие, только «отразившись» (F H G G; H= F: G). При таком понимании F и G — не просто настроения вовлеченных персонажей, но «пространства претворения» (vestigia habituum (лат. vestigium — точка времени и пространства, место; habitus — состояние, свойства, особенности), со-стоящие при событии. Оппозиция со-стояний (F (vestigium habitus1) vs G (vestigium habitus2)) выражается лингвистическими маркерами, указывающими на смену F и G. Например, в приведенном выше фрагменте (16, 184) пространство1 определяется чрезмерной длительностью, растянутостью; если прибегнуть к музыкальной аналогии — темпом largo (broke the seal with a great effort — so great a one that I was a long time coming to it), где сомнения рассказчицы обнаруживаются прилагательными great (об усилии) и long (о времени), причем первое редуплицировано и интенсифицировано наречием so, а синтаксическая конструкция, обособляющая определение great как so great a one, усложняет это обособление относящимся к нему придаточным предложением. Все это уводит от действия, которого, собственно, и нет. Оно обрушивается внезапно — с глаголом attack (указывающим на желание разрубить Гордиев узел одним решительным движением) и тотчас — раскаянием в поспешности (I had better have let it wait till morning). Молниеносное происшествие отражает «медленность» vestigium1 от vestigium2 — более лаконично, под воздействием происшествия, выраженного синтаксически — it gave a second sleepless night.
Данное столкновение является первым в ряду происшествий, связанных с событием. В целом событие организовано следующими происшествиями: 1) чтение письма об исключении Майлза; 2) первое видение гувернантки (призрак Квинта на башне); 3) второе видение гувернантки во время прогулки с Флорой; 4) третье видение гувернантки (на лестнице); 5) поведение детей ночью (Флора на подоконнике, Майлз у башни); 6) поведение детей во время похода в церковь; 7) пятое видение гувернантки (на озере); 8) шестое видение гувернантки (призрак Квинта у окна); 11) смерть Майлза. Событие встречи с неведомым реализуется как видения, не удостоверенные ничем и никем. Сверх того, происшествие № 7 дает обоснованные контекстом основания полагать, что призрак мисс Джессел показывается избирательно, поскольку Флора и экономка, находящиеся рядом в момент сверхъестественной визитации, в этом смысле слепы, e. g. «She isn’t there, little lady, and nobody’s there (миссис Гроуз); I see nobody. I see nothing. I never have. I think you’re cruel. I don’t like you!» (Флора) (16, 249 -250). — Представленный тип рассказчика известен как ненадежный [15, 126], т. е. ограниченный, имеющий систему ценностей, обусловленную собственной предвзятостью. Гувернантка, младшая дочь бедного деревенского священника, не ставит под сомнение существование призраков, являющихся для нее, разумеется, исчадиями ада, коварно сманивающими с пути добродетели смышленых детей, доставшихся ей в питомцы. Видимо, именно поэтому следы события в цепи перечисленных происшествий указывают на присутствие или, во всяком случае, причастность к чему-либо двух зловещих призраков, имеющих, с точки зрения гувернантки, радикальные намерения развратить детей, толкая их на не названные по существу, но ужасные деяния. Испорченность, растленность и «ужасность» призраков — единственное подтверждение существования «плохого» в поместье, где действуют персонажи. Иначе его было бы не отличить от рая.
Поскольку в раю «плохое» (штучное буквально) связано с воплощением вселенского зла, то и призраки — не просто мелкие самодовольные ничтожества (как может показаться ввиду того, что их прижизненные «нечеловеческие грехи» всего-то и состоят в пьянстве и распущенности), но неописуемая ницшеанская бездна, вглядывающаяся в несчастную гувернантку из викторианского парка.
Примечательным следом, обнаруживающим понимание гувернанткой зла как влияния призраков-искусителей, является такое нейтральное слово, как bad (часто выделяемое в тексте графическими средствами). Каждое его появление в тексте как бы все сильнее «закручивает винт»: нагнетает саспенс, добавляет интерпретациям гувернантки амбивалентности и предполагает какие-то усердно замалчиваемые пороки, e.g. 1. «The child’s dismissed from his school. Is he really BAD?» (16, 184) — Гувернантка шокирована; на степень шока указывают прописные буквы. 2. «And if he was so bad then as that comes to, how is he such an angel now ?» (16, 212) — Гувернантка напугана собственными предположениями, даже запрещает самой себе думать (There are directions in which I must not for the present let myself go). В подобных условиях такая странная экзальтация может с большой вероятностью рассматриваться как психическое отклонение. Призраки, при отсутствии свидетелей, больше похожи на галлюцинации; в таком случае доведение ребенка до смерти приобретает черты преступления, а встреча с неведомым как событие ГТ — трактовку с поправкой на соответствующий диагноз.
В отличие от новеллы, в либретто существование призраков не зависит от восприятия гувернантки, а объективно обусловлено либреттистом, так как они наделяются способностью говорить и общаться друг с другом даже тогда, когда предполагается только их присутствие, что меняет отношение к гувернантке.
Событие разрабатывается либреттистом как серия происшествий («the opera utilises these incidents as its scenic framework»), так называемых «происшествий напряжения» (incidents of tension), что начинаются с предчувствия и завершаются интерпретацией и анализом [15, 131].
Либретто (17, 45−92) содержит четырнадцать происшествий, связанных с событием: 1) «The Letter» (действие 1, сцена 3); 2) «The Tower» (д. 1, с 4.); 3) «The Window» (д. 1, с. 5); 4) «The Lesson» (д. 1, с. 6); 5) «The Lake"^. 1, с. 7); 6) «At Night"^. 1, с. 8); 7) «Colloquy and Solloquy» (д. 2, с. 1); 8) «The Bells» (д. 2, с. 2); 9) «Miss Jessel» (д. 2, с. 3); 10) «The Bedroom» (д. 2, с. 4); 11) «Quint» (д. 2, с. 5); 12) «The Piano» (д. 2, с. 6); 13) «Flora» (д. 2, с. 7); 14) «Miles» (д. 2, с. 8).
Как форма повествования либретто имеет отличие от художественной прозы — собственно нарратив, изложение истории, осуществляется только как речитатив, т. е. репрезентативый стиль, музыкальная декламация, в которой сохраняются интонации и ритм речи [14, 7−8, 48]. Ария — развернутое сольное пение — не имеет качества событийности, поскольку призвана выражать чувства персонажа и временно останавливать оперное действие [14, 47]. В современной опере переход между арией и речитативом менее явственен, но ария по-прежнему «замораживает» время, акцентируя на участнике и являясь «слепком сознания персонажа», статичной музыкально-вербальной иллюстрацией его отношения к происходящему. Следовательно, в либретто моменты «теперь» запечатлены более скульптурно, чем в художественной прозе: происшествие изменяется в глубинных структурных особенностях, и vestigia habituum состоят в оппозиции не как перерождающиеся пространства претворения, но как «портреты вовлеченных сущностей», а точка отражения, т. е. непосредственный момент изменения со-стояний, превращается в момент (уже) измененного восприятия сущности, обретая свойство перфектности, тогда как в художественной прозе она является кульминацией нарратива как континуума внутри происшествия. В оперном либретто речитатив — еще один элемент структуры события, связующее звено между происшествием и ариями как иллюстрациями отношения к нему.
Речитатив может быть выражен как диалог (сцена «Письмо»):
«GOVERNESS: Mrs. Grose! He’s dismissed his school. — MRS. GROSE: Miles? — GOVERNESS: What can it mean — never go back? Never! Oh, but for that he must be bad. — MRS. GROSE: Him had? — GOVERNESS: An injury to his friends. — MRS. GROSE: Him an injury? -1 won’t believe it! — GOVERNESS: Tell me, Mrs. Grose, have you known Miles to be bad? — MRS. GROSE: A boy is no boy for me who’s never wild. But bad, no, no! — GOVERNESS: I cannot think him really bad, not Miles. Never!» (17, 54). — В приведенном фрагменте чтение письма, т. е. происшествие, является точкой отражения пространства1 (реакции женщин относительно его содержания). Миссис Гроуз давно знает Майлза и не верит, что мальчик может быть плохим (Him an injury -1 won’t believe it!), гувернантка же только приехала и по этому письму составляет первое впечатление (Oh, he must be bad). В конечном итоге содержание письма не меняет мнения женщин (пространство2): But bad, no, no.
Пространство1 синтаксически репрезентировано (со стороны миссис Гроуз) как набор взаимосвязанных вопросов риторического характера, выражающих удивление, граничащее с потрясением (Him bad? Him an injury?). На свои вопросы гувернантка также либо вообще не ждет ответов (What can it mean — never go back?), либо ответов положительных, что в данном случае делает вопрос (have you known Miles to be bad?) риторическим. Второе пространство представлено предложениями, выражающими недоверие и возмущение обеих участниц диалога (I won’t believe it! But bad, no, no! I cannot think him really bad).
След события (Квинт появляется на башне в следующей сцене) возникает в либретто, как и в новелле, со словом bad, упомянутым в этой сцене пять раз и трактуемым как an injury to his friends, что не более ясно, чем an injury to the others в новелле, однако и в либретто оно указывает на нечто зловещее. Акцент на нем сделан либреттистом намеренно: для либретто и новеллы оно является общим ключевым словом, поддерживающим атмосферу оригинальной истории [13, 113].
Однако в либретто уделено немного больше внимания тому, что же именно имеется в виду под bad как an injury to the others/friends. Как языковой знак слово bad наиболее полно раскрывается с позиции анализа его десигната, т. е. в случае, когда bad рассматривается как одно и то же означаемое в «субъективном видении» разных интерпретаторов [6, 48]. Интерпретаторы (напр., гувернантка) создают «потенциальный знаковый континуум» для данного слова в каждом происшествии, раскрывая разные признаки того, что им обозначается [Ibid.].
Если гувернантка и миссис Гроуз ничего вразумительного, кроме ужаса, в данное слово не вкладывают, Майлз формирует окончательный вывод о себе как плохом (7ou see, I am bad,.
I am bad, aren’t I? [17, 69]), основываясь на конкретной беседе с Квинтом в сцене «At Night» (происшествие 6). Он воспринимает Квинта как образец для подражания, а его самоопределение — как нечто привлекательное. Его интерес выражается в повторении отдельных слов из обращенных к нему реплик Квинта (выделено далее): «QUINT: I am all things strange and bold,/ The riderless horse Snorting./1 am King Midas with gold in his hand. — MILES: Gold, o yes, gold! — QUINT: I am. In me secrets, and half-formed desires meet. — MILES: Secrets, oh, secrets! (17, 66−67). — Фрагмент подтверждает, что для мальчика Квинт очень интересен — заманчиво воплощать таинственную жизнь, скрытую от хороших, но заурядных людей. Но он понимает, что плохое, представляемое и предлагаемое Квинтом, еще и нечто опасное — то, чему невозможно сопротивляться.
В либретто сомнения и тревога Майлза выражены в песенке (упомянутой в новелле как «incoherent, extravagant song» [16, 243]), где обыгрываются значения латинского слова «malus» (яблоня, плохой, ложный, злосчастный): «Malo, I would rather be/Malo, in an apple-tree,/Malo, than a naughty boy/Malo, in adversity» (17, 62). Майлз поет, что лучше лазал бы по деревьям (как обычные мальчишки), чем был плохим мальчиком в беде (a naughty boy in adversity), т. е. лучше бы не было этого выбора — между Квинтом (плохим) и всем остальным миром хороших. Он так слаб для подобного недетского выбора, так мал. Песенка выполняет функцию арии — служит «слепком сознания». Повторяемый окказионализм malo имеет скрытое, как невидимое присутствие призраков, значение, является своеобразным зовом о помощи, символом потерянной детской невинности [13, 113−114].
Поскольку в конечном итоге Майлз говорит гувернантке, что плохой, то выбор он всетаки намерен сделать в пользу Квинта (сдаться ему), и bad здесь, таким образом, обозначает все, что воплощает Квинт, — strange and bold, etc. — все, пугающее гувернантку и ею замалчиваемое до момента, когда в последней сцене она поет песенку Майлза, держа на руках уже мертвого мальчика, который этой песенкой просил о помощи. Незамысловатое четверостишие подчеркивает ее запоздалое понимание своей ошибки — глупой, но еще более от этого трагической. Мальчик умер не потому, что был плохим, как считала гувернантка, а потому, что стороны метафизического конфликта, эгоистично тянувшие несчастного ребенка каждая к себе, ни на минуту не задумались, что недетский выбор — требование понять в десять лет разницу между добром и злом — убьет его. «Перетягивание» Майлза превратило его в вещь, которую во что бы то ни стало надо присвоить, отвоевав у конкурента. Вещи при таком обращении часто рвутся пополам — у мальчика разорвалось только сердце, но этого, как известно, достаточно.
Оказалось, что bad — обе стороны. Зло существует, но наяву ли, только ли в чьем-то сознании — не так важно; важно — что оно способно опорочить детскую чистоту и даже, казалось бы, искреннюю любовь к ребенку. Добрые намерения гувернантки оказались испорчены ее собственническими чувствами [15, 124].
Выводы и перспективы дальнейших исследований Результаты данного исследования могут быть применены в курсе коммуникативной лингвистики (раздел «Нарративная коммуникация»). Перспективы исследования автор видит в более детальном анализе структуры события в оперных либретто и категоризации «следов», в последовательном выведении критериев дифференциации «следов», свойственных и прозаическим произведениям, и либретто как формам одного и того же нарратива.
Автономова Н. С. Деррида и грамматология. Вступительная статья / Н. С. Автономова // Ж. Деррида. О грамматологии. — М.: Л4 Маг^пеш, 2000. — С. 7−111.
Бахтин М. М. К философии поступка / Михаил Михайлович Бахтин // Собрание сочинений. — М.: Русские словари, 2003. — Т. 1. Философская эстетика 1920;х годов. — С. 7−69.
Данто А. Аналитическая философия истории/ Артур Данто; [пер. с англ. А. Л. Никифорова, О. В. Гавришиной]. — М.: Идея-Пресс, 2002. — 292 с.
Делез Ж. Логика смысла / Жиль Делез; [пер. Я. Свирского ]. — М.: Раритет, 1998. — 480 с.
Демьянков В. З. «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста / Валерий Закиевич Демьянков // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, 1983. — Т. 42. — № 4. — С. 320 — 329.
Моррис Ч. У Основания теории знаков / Чарльз Уильям Моррис; [пер. В. П. Мурат] // Семиотика: Антология [общ. ред. Ю. С. Степанова]. — М.: АкадемПроект, 2001. — C. 45−98.
Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория литературы / Н. Д. Тамарченко// Теория литературы. — М.: Академия, 2004. — Том 1. — 512 с.
Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. — Харьков: Фолио, 2003.