Образы катастрофического в картинах Питера Брейгеля Старшего
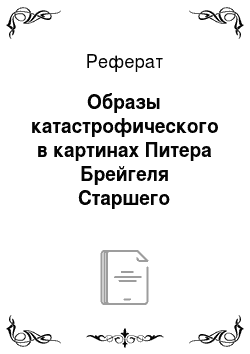
В фатальной катастрофе, свершающейся здесь с безжалостным трагизмом пред лицом безучастной природы, в лице неких слепых бедняг, ставших жертвами несчастного случая, в этом случайном происшествии, что выглядит просто какой-то произвольной данностью, ограниченной и временем, и местом, воплощается та самая судьба, от которой никому не уйти и власти которой все человечество, во всей своей… Читать ещё >
Образы катастрофического в картинах Питера Брейгеля Старшего (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Среди образов и мотивов, представляющих катастрофическое в изобразительном искусстве, можно выделить сцены трагической гибели, образы войны и апокалипсиса, являющиеся архетипичными образами в искусстве. Одним из наиболее частых традиционных образов, представляющих катастрофическое в искусстве, является образ смерти. Видимая атрибутика смерти, ее безобразного облика разнообразна и, одновременно, постоянна — череп, кости, трупы, скелеты, гниющие останки, могилы, виселицы и пр. Каждая культурно-историческая и индивидуальная изобразительная практика обладает своими пристрастиями в их сортировке, окраске, степени расчленения и разложения и выявляет тем самым различные танатологические концепции. Ключевым симптомом визуальной опознаваемости образов macabre и триумфов смерти является конвульсивность поз, фиксирующая ненормальность смертельного танца или праздничного шествия. В Плясках живые выглядят оцепенелыми, а мертвые более естественны в своих движениях. Визуальной приметой жанра являются также мертвые музыканты, играющие, как правило, на волынке, органе, арфе, свирели и иногда бьющие в барабан. Одним из наиболее значительных, обобщающих работ в жанре плясок смерти, первоначально зародившихся в Германии, стал цикл гравюр Ганса Гольбейна Младшего (1526−1538). Одним из наиболее значительных образов триумфа смерти стал образ, созданный Питером Брейгелем Старшим.
Искусство и литература Ренессанса задают новые гуманистические ориентиры, открывают новое антропологическое пространство, но тема artesmoriendi не покидает пределов духовной культуры во времена становления научных методов познания. В XVI в. смерть перестает быть событием мирным и тихим и более не выступает моментом наивысшего морального и психологического сосредоточения личности. В эпоху барокко смерть неотделима от физических страданий и насилия. Одним из самых распространенных сюжетов этого времени является «Святой Себастьян», муки которого ощущаются зрителем почти на физическом уровне. Еще одна вечная тема, сопряженная с образом катастрофы, — одиночество, потерянность, отчуждение человека. Одним из наиболее ярких примеров концепта отчуждения в исcкустве являются произведения Питера Брейгеля Старшего («Вавилонская башня», 1564; «Притча о слепых», 1568; «Гибель Икара», ок. 1558). В картинах Брейгеля катастрофа личности представлена «с точки зрения вечности» -subspecieaeternitatis. Рассмотрим поподробнее картину"Низвержение слепых".
Для начала следует в полной мере проводить различие между значениями, доступными напрямую буквально каждому (слепота и слепцы, падение, плотина, деревня, где дом, а не походят на «наши» в своих очертаниях, деревья, ручей), и тем и образами, что составляют более узкую сферу и точно так же схватываются непосредственно, но уже людьми нашего культурного окружения (церковь, розарий и т.?д Не стоит забывать тем не менее, что для зрителя круга Брейгеля иные вещи были прозрачнее, чем для нас, но самое главное — они могли обладать абсолютно другим эмоциональным значением и характером; их-то и требуется «восстановить». Схватываемое непосредственно образует базовую несущую конструкцию для высших значений картины.
Вначале мы видим цепочку слепых — и обязаны знать, каково было положение слепых в Нидерландах (и не только там), как они выглядели. Из современных Брейгелю представлений о незрячих как калеках нельзя устранять элемент комического. Жесты их вызывали смех подобно неверным движениям конькобежцев или пьяных. Такую реакцию и сегодня можно наблюдать у детей. Известна народная забава: слепым вручалась в руки дубина, и он и должны были попасть ею по выпущенному на «арену» поросенку, который достанется тому, кто забьет его до смерти. Удары, ошибочно достающиеся товарищам по несчастью, боль и злость,"уморительные" телодвижения составляли предмет всеобщей потехи.
Комический привкус, присущий тому времени, когда шутовской эффект мог произвести даже танец смерти, не может быть элиминирован и из изображения падающих слепых, но здесь он не склонен слишком выпирать (у нас будет возможность понять почему). Хотя бы потому, что на таком уровне рассмотрения он проступает не только из предметного мотива, но и из контраста между трактующимся не без юмора ведущим мотивом (даже наряды этих слепых выглядят смехотворными, особенно для придворной или гуманистически образованной публики) И на редкость монументальной композицией, которую можно соотнести с темой «высокого» искусства. Такоепро-тивоположениевовсевременаивновьвэпохусобственноБрейгеля было и остается художественным приемом изобразительной пародии. Когда Брейгель, например, в «Раздачевина в день св.?Мартина» упорядочивает массу стремляющихся к пьянке с помощью «классической» пирамидальной композиции, то в данном случае мы имеем дело с сознательным художественным приемом, который только усиливает гротескность происходящего, достигнутую на предметном уровне.
Слепые — и это то новое, что мы не увидели в них при первом взгляде, — одновременно и паломники, нищие, «бродячий народ», о чем недвусмысленно свидетельствуют их атрибуты. В исполненной Петером ван дер Хайденом гравюре по утраченной картине Иеронимуса Босха дваслепца обозначены как паломники св.?Иакова, и среди брейгелевских слепцов тоже присутствуют паломники. Хотя у их предводителя — лира бедного музыканта. Вероятнее всего, они пришли издалека, по крайней мере они чужаки, деревне не принадлежат. И в любом случае они нищие попрошайки. И потому-то они шествуют не по главной деревенской улице, а пробираются к деревне нехожеными боковыми проулками.
Но среди них есть не только слепцы. По крайней мере двое из них — второй и четвертый в ряду — не слепые, а ослепленные, чьи глаза лишены были света в результате насилия: их или выдавили, или выжгли, или вырвали. В основное звучание изображения, связанное со слепотой и выраженное самим Брейгелем вполне деликатным способом (так в рисунке из Берлина с двумя слепцами и одной женщиной), привносится и дополнительный тон зловещего и чудовищного. На этом первом уровне, относящемся к «вербальному» значению, картина представляет собой «жанровую сцену» из нидерландской повседневности, будучи, несомненно, в высшей степени реалистичной — в соответствии со своими предметами.
Темная болотистая вода и обрывистый край плотины заставляют заключить, что, по крайней мере, два первых слепца, увы, рискуют утонуть. И если даже и Аунер признается, что третий нищий в любой момент может выпустить из рук посох своего переднего товарища (и онтаки выпустит его в следующее мгновение!) — вновь слишком поспешное заключение, — то вполне может быть поздно, чтобы оградить его от падения с дамбы, на которой его нога явно у жене чувствует никакой опоры. А что случится с остальными тремя—кто этом может знать? В любом случае все они—в весьма беспомощной и опасной ситуации, ведь узкаядамбанетолькоизгибаетсяспереди, ноипревращаетсяпозадивскользкий обрыв, устремляясь с обратной по отношению к нам стороны навстречу мрачной воде. И в этом месте упав с дамбы, по такому откосу вновь взобраться крайне затруднительно.
Впрочем, такие аргументация и контраргументация обходят стороной подлинную проблему, и методологически они неприемлемы. О том, что происходит, можно спорить бесконечно и бесплодно. Но значение картины зависит не от исхода подобной дискуссии, а от особого гештальта, которым Брейгель наделил ее, и от тех наглядных характеров, что обрели в картине свои формы. Мы непосредственно видим, как и современники Брейгеля, что незамысловатое действие переносится в такие сферы, где пугающее или совсем близко, или хотя бы ближе, чем забавное. Происходящее по прежнему вызывает смех, но в большей степени пробуждает сочувствие и страх, все признаки трагикомического, — это именно действие трагического. Если бы низвержение подразумевалось лишь безвредным и смешным, то не было бы надобности привлекать регистр"пугающего" (в выражении уродливых лиц) и «фатального» (в композиции картины).
Ведь чтобы комический элемент, который здесь слышится как бы сбоку, сделать преобладающим, Брейгелю было бы достаточно показать, что ров, в котором оказался предводитель, так мелок и узок, что вряд ли в состоянии вместить следующих за вожаком. Именно так повествует о происходящем картина с низвержением слепых Иеронима Босха, дошедшая до нас в гравюре Петера ван дер Хайдена. Поэтому данному низвержению не присуща никакая стремительность, и ухмылки обоих слепцов намеренно подчеркивают безобидность и комичность их неверных шагов.
Однако описание Аунера, вне всяких сомнений, могло бы подойти для картины Бода, дошедшей в литографии1838года. В данном случае «то же самое» происшествие в силу других художественных средств действительно обращается в чисто смехотворное и безвредное, и именно поэтому здесь и происходит нечто совершенно иное. Пятеро слепых спокойно пробираются на ощупь вдоль потока воды. Это комические фигуры, слегка напоминающие персонажей comediadel’arte на фоне сельской местности. Во всех областях картины отчетливо видно, что падение не принесет особой скорби уже хотя бы потому, что собака, которая, собственно говоря, и есть вожак, снова взобралась на берег, что и составляет, конечно, point всего этого остроумия. И именно по причине того, что описание Аунера замечательным образом подходит этой картине, оно не соответствует, несозвучно (stimmt) тому, что наглядно дано в картине Брейгеля.
Слепец, который ведет за собой другого слепца, —популярный exemplum перевернутого мира начиная с XIII века. В списке adynata, «невозможных вещей», перечисляемых в одном фрагменте Carmina burana, как раз на первом месте стоит: «слепцы за слепцами тянутся и в бездну низвергаются». О важности для Брейгеля такого значения и его определяющей для образов (bildbestimmend) роли говорит уже то, что Брейгель сам был великим «оформителем"(Gestalter)перевернутого мира и постоянно работал с топосами-формула миперверсии.
Однако природу перевернутости следует улавливать с большей определенностью. Один слепец ведет другого (или других): это есть exemplu mimpru dentiae, глупости, то есть кардинального греха, — если премудрость, prudentia, есть первая земная добродетель. Доказать со всей возможной надежностью, что подобное значение в низвержении слепых по крайней мере звучит фоном, возможно благодаря тому обстоятельству, что Ян Вирикс свою гравюру, исполненную по работе, прежде приписываемой Брейгелю, изображающей слепца в сопровождении другого слепца, снабдил подписью: «Всегда странствуй со всей возможной осторожностью. Будь верен и не доверяй никому, кроме одного лишь Бога. Ведь если один слепой руководит другим, то—вот увидишь — оба они падут вров».
Хуберт Шраде первым обратил внимание на то, что положение церкви в композиции картины уж слишком бросается в глаза, чтобы смотреть на нее как на чисто формальный элемент или как на нечто случайное. Церковь обязана находиться в некоторой связи с падением слепых. Но что такое слепец с «церковной точки зрения»? У Матфея (XV, 12−14) притча о слепце, ведущем слепца, имеет в виду фарисеев:
Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они —слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
Относительно этого Стридбек указал, что слепота сама по себе в XVI и XVII веках— это символ заблуждения (cecitadellamente), более того, именно религиозного заблуждения. Ослепленный кем-то (Geblendete) — можно, пожалуй, добавить, если брать аллегорически, — это и ослепленный чем-то. При таком понимании падение слепых — этоexemplumпадения (религиозно) ошибающихся, то есть «идущих ложными путями, что ведут в бездну». И вне мнет ничего безобидного. Ибо: «всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится»!
Это второе аллегорическое значение падения слепых является религиозным или религиозно-моралистическим. Слепец, ведущий другого слепца, — это exemplum того, что именуется cecitadellamente, религиозного заблуждения, ложного учения, намекающего на ложных учителей (фарисеев, брахманов). Содержит ли картина «аллюзию» на некоторых определенных носителей суеверия, современников Брейгеля, на каких-нибудь «еретиков», встречавшихсяпосле1568 года тайно в уединенном месте где-нибудь на селе, это установить невозможно, и мне подобное кажется относительно не важным.
В данном контексте можно было бы соотнести с отдельными элементами картины некоторые особые аллегорические значения. Однако такого рода частные значения, даже если они предполагались самим Брейгелем, к достоверному и доминирующему всецелому значению добавляют немного, так что вопрос с чистой совестью оставляем открытым.
По-другому дело обстоит с церковью. Она со всей откровенностью поставлена в совершенно аналогичное, точно такое же семантическое отношение к сцене переднего плана, что и окутанная светом маленькая церковь, стоящая на «твердой почве», на горизонте в венской картин морской бури скитом.
Кит,"что играет сброшенными ему бочками и дает кораблю время скрыться", представляет собой, как показал Людвиг Бурхард, согласно барочному и конологическому пониманию, «образ того, как можно ради ничтожных и суетных вещей пренебрегать подлинным благом». Шраде жена примере «Страшного Суда» Франса Флориса в Венском музее истории искусства доказал, что «героем» картины может быть здание и что малых размеров фигура в глубине способна стать «главным персонажем» изображения. И факт того, что неаполитанское низвержение слепых, в том числе и формально, построено на контрасте переднего и заднего планов, без всяких рассуждений позволяет допустить, что издание церкви на заднем плане расположено на подчеркнутом месте и составляет своего рода антагонистический полюс (Gegenspieler) падению заблуждающихся на переднем плане.
Аунер думает иначе: для Брейгеля,"как для всякого анабаптиста, церковь в любом случае представлялась как начало не столько спасительное, сколько, скорее, склоняющее к порче, даже если он всю жизнь оставался католиком". Все попытки определения религиозной духовности Брейгеля остаются вопросом пререкаемым. Несомненным является, согласно моим наблюдениям, тот факт, что церковное здание и падение слепых связаны друг с другом семантически. Церковь обладает более чем формальной значимостью именно по своему смыслу является оппонентом «заблуждающихся"(кем бы они ни были). И эта пара — „церковь/ложное учение“, — облаченная в реалистические одежды, соответствует старому топосу „экклесия/синагога“, где последняя не редко представляется „склоненной“ или"сломленной».
Церковь связана —и это совершенно невозможно проигнорировать — со столь поразительным образом треть его слепца. Свет его взора сокрыт белесой пленкой, что покрывает, подобно повязке, нижнюю половину глазного яблока. В связи с чем можно вспомнить, что «слепая» Синагога в отличие от Церкви носит на глазах повязку. Взор этого слепца эмфатически устремлен к Небу, а повязка не дает ему видеть почву под ногами и приближающуюся опасность. И будет ли толкование избыточным, если в этом незабываемом персонаже с головой Савонаролы мы усмотрим фиксацию в образе того, что составляет духовную сущность всякого экстатика?
В фатальной катастрофе, свершающейся здесь с безжалостным трагизмом пред лицом безучастной природы, в лице неких слепых бедняг, ставших жертвами несчастного случая, в этом случайном происшествии, что выглядит просто какой-то произвольной данностью, ограниченной и временем, и местом, воплощается та самая судьба, от которой никому не уйти и власти которой все человечество, во всей своей совокупности, слепо покоряется. Вечные и неизменные законы и природы, и силы жизни движутся поверх и прочь жизни единичной—со всей немилостью, и где мы уверены, что ведем, там мы и оказываемся ведомыми сокрытым от нашего взора промыслом, обнаруживая себя подобно всякому незрячему перед бездной. Аунер энергично опротестовал подобное глубинное значение — и в качестве реакции на толкование, слишком окрашенное в современные тона, его протест как оправдан, так и может только приветствоваться.
Однако наглядный характер картины указывает более чем на одно только лишь морализирующее образное содержание. В силу избранных Брейгелем формальных средств в том, что здесь свершается, есть нечто непреодолимое, в силу использованных цветов — нечто ужасающее, что ни в коем случае не позволяет постичь себя рационально именно потому, что покоится в «наглядном характере», которым Брейгель снабдил происходящее: в пронизывающем картину душе раздирающем диссонансе.
Неслучайно приходит на ум сравнение двух сходных средневековых тем. С одной стороны, тема того самого колеса судьбы или счастья, на котором фигуры претерпевают возвышение от устойчивого положения к шаткому, к падению и к низвержению через голову и которое знаменует собой ход непреодолимого рока. А с другой стороны, тема танца смерти; сходство с ним бросается в глаза всякому непредвзятому наблюдателю. Но можно ощутить, как не произвольно всплывают в памяти физиономии тех, кто исключен из освящающей благодати и пребывает в адских зонах соборов, где и обнаруживают себя среди голов проклятых,—лица и слепые, и столь жемонструозные.
Не будем утверждать, что при оформлении в образ падения слепых эти темы Брейгель представлял себе актуально. Хотя в пользу допущения можно привести соображение, согласно ему Брейгель сознательно расширил цепочку слепых ради тематического сходства с танцем мертвых. Достаточно того, что подобное сравнение указывает картине присущие ей наглядные «сферы», которые простираются в области гротескно-зловещего (близость танцу), рокового (близость колесу), «оскверненного» (близость проклятому).
Лишь только мы примем их во внимание, так сразу же определится собственное значение «низвержения слепых». Именно здесь звучит тот тон, что делает музыку. И тон этот и невесел, и не бесхитростен. Скорее, он совпадает с тем, что упомянутый Аунер выделил в качестве"уныния".
К слову, в непосредственной временной близости к неаполитанской картине возникла еще одна картина Брейгеля, где, подобно низвержению слепых, трагическое происшествие, несомненно, сознательно и в полной мере намеренно контрастирует с событием идиллическим: это сохранившееся во многих версиях падение Икара. «Слепой» и безучастный ход будней, ничто не замечающий из трагедии,—этоиестьвнутренниймотивданнойкартины, иподобноеистолкование просто не обсуждается. В неаполитанском падении слепых низвержение перенесено из возвышенности уникального мифологического события с участием известного «героя» в анонимность происшествий, что случаются каждый день и повсюду. И если там низвергается «неумеренный», то здесь —"заблуждающиеся".
Но первая «половина» значения, идиллическая, в обеих картинах идентична: на заднем плане низвержения слепых взирающий на землю пастырь (старые копии и реплики картины продолжают это демонстрировать) гонит свое гусиное стадо, столь же слепой по отношению к событиям переднего плана, как и щиплющая траву корова или пашущий крестьянин, пастух и рыбак — в падении Икара. Вторая половина картины в обоих случаях—падение, в которую падение слепых передвинуто Брейгелем посредством выбранных им изобразительных средств, вызывает сочувствие и пробуждает трепет. Так что в равной мере ее можно воспринимать и трагически — подобно падению Икара, даже еще в большей степени, ведь в низвержении слепых трагическое событие величественно располагается на переднем плане, тогда как в падении Икара доминируют миролюбие и красота. Или же, во всяком случае, трагикомически, с преобладанием трагического, ведь и падение Икара не лишено момента гротескно-трагического: у героя не видать ничего, кроме ноги!
И в завершение всех доказательств необходимо лишь продемонстрировать, что совершенно повседневное, казалось бы, событие у Брейгеля способно принимать значение все общее, так сказать, «мировое». Аргумент не нуждается в долгих поисках обоснования. В том же 1568 году, когда возникли слепые, в своем неаполитанском тондо «Неверность мира» Брейгель являет мир в образе бродяги или попрошайки, отрезающего у священника кошель. Не будь"неверность" вписана им в мировую сферу, увенчанную крестом, то непременно разгорелись бы самые ожесточенные споры о том, может ли вор представлять неверность мира. Тем не менее это не подлежит обсуждению. Но если у Брейгеля один оборванный и кривой персонаж со своими делами может означать неверность всего мира, то почему не имеют права в таком случае шесть слепых обозначать слепоту того же мира, в котором один слепец направляет другого и в котором все вместе шествуют к бездне, где их низвержение — неизбежное последствие подобной ослепленности? Однако же и пастырь на заднем плане в виду покоящейся деревни с церковью воплощает в обеих картинах почти тождественным образом иной род «слепоты»: безучастность вегетативной природы или"повседневности".
Рассмотрим цвета, в данном случае множество серого. Они усиливаются благодаря наглядным характерам форм и предметов первого порядка, усиливая и их со своей стороны, совместно с ними являясь носителями господствующего значения. И они же задействуют его, обнаруживаемое в очередной раз пребывающим тут в сферах зловещего, близкого смерти, макабрического, ущемленной жизни истаявших надежд. Можно пойти и дальше: все в цветах, что наличествуют рядом с доминирующим серым, — например, глухой красный в чулках второго нищего кажется отраженным в мутном, то есть слепом зеркале. Итак, сфера «слепоты» в который раз в чистом виде совпадает с тем, что есть средство проявления цветов.
С этими передними образными сферами практически во всем контрастируют наглядные характеры сферы задней. Там привлечен иной «регистр»: вместо зловещего —сокровенное; не чужеродное, а знакомое; не предательское, а надежное; не раздробленное, не механически раскрошенное, а органически проросшее и растущее; не преходящее, а пребывающее. Созвучны этому и теплые цвета земли—коричневый и зеленый; глубокому винно-красному впереди вторит на заднем плане маленькое пятнышко светлой киновари, единственного яркого цвета в картине.
Однако в двух качествах обе сферы сближаются: в трагическом и идиллическом. Слепы не только слепцы впереди и судьба, которую они воплощают, «слепы» и творения идиллической зоны, пастух и корова на пастбище. Природа позади тоже «молчит», но это не опасная, злая тишина—как у воды впереди, а тихий сон села. Как раз подобное неожиданное «сужение» двух совершенно распростертых рядом друг с другом образных значений, так сказать, в одном топосе, там, где помещено главное значение картины —"слепота" людей и природы, — оно и самое величественное из образных открытий Брейгеля, и в нем совершенно по-особому обоснован глубокий смысл картины, а также ее воздействие.