Легкая комедия и водевиль 1810-1820-х гг.: проблема генезиса жанра и героя
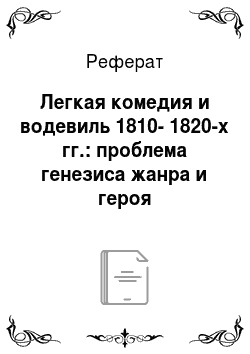
Скриба сформировал бульварный театр, там он научился угадывать вкус и требования публики. Традиции «низового» театра определили поэтику его водевилей — жизнерадостный анекдотический сюжет с колкими злободневными намеками, обращение к приемам внешней трансформации, театральной буффонады и маскарада. По словам одного из исследователей его творчества, «…постоянство публики (к пьесам Скриба — М. С… Читать ещё >
Легкая комедия и водевиль 1810-1820-х гг.: проблема генезиса жанра и героя (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ЛЕГКАЯ КОМЕДИЯ И ВОДЕВИЛЬ 1810−1820-Х ГГ.: ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ЖАНРА И ГЕРОЯ
Русская комедия XVIII — начала XIX веков, как стихотворная, так и прозаическая, по своей основной направленности была сатирической. Призыв А. П. Сумарокова «издевкой править нрав» диктовал комедиографам обращение к сюжетам с открытой сатирико-дидактической направленностью. Такой тип комедии требовал ясной авторской установки, определившей принципы конструирования «доминантного» характера, сочетающего схематизм и дидактику и разрушающего сценизм пьесы. Комедия часто превращалась в цепь собеседований и монологов, где в виде сатирической инвективы или патетической декларации разоблачался порок или утверждалась добродетель. В этом отношении знаменательно, например, восприятие современниками комедии В. В. Капниста «Ябеда» как сатиры.
В создании иной жанровой модели русской комедии значительную роль сыграла французская комедийная традиция. Из многочисленных способов ее усвоения, предложенных П. А. Сумароковым, В. И. Лукиным, Я. Б. Княжниным, И. А. Крыловым, важен драматический опыт Крылова, рекомендовавшего брать сюжетно-композиционную схему французского оригинала и наполнять ее русским содержанием. Русские драматурги, создавая светскую комедию (она же «благородная», «салонная», «легкая»), пошли именно этим путем. Французская салонная комедия, к которой они обратились, обладала ценными качествами для формирования новой комедийной структуры.
Возросшее после 1812 года самосознание русского общества усилило интерес к жанрам, отражавшим жизнь светских людей. Проблематика французской салонной комедии с ее обращенностью в сферу светского быта оказывалась чрезвычайно актуальной для русского комедийного театра первой трети XIX века. Демонстративный отказ от общественно-социальной проблематики в пользу семейно-бытовой придавал светской комедии своеобразную политическую оппозиционность, прекрасно ощущавшуюся радикально настроенной молодежью. С другой стороны, уход от прямого дидактизма и нравоучения позволил «растворить» прямолинейную авторскую установку в легкой иронии и сделать, таким образом, предметом осмеяния забавные человеческие слабости и психологические недостатки. Характеры, резко разведенные в сатирической комедии по принципу «добродетели» и «порока», в салонной комедии сводятся, объединенные мерой жизненной и художественной достоверности. Легкое осмеяние и установка на развлекательность позволили авторам светских комедий сконцентрировать основное внимание на интриге, при которой эффектные сценические положения и случай играют решающую роль. Практически все известные драматурги первой трети XIX века прошли через школу светской комедии. По словам Л. И. Вольперт, «в десятках произведений массовой литературы (здесь имеются в виду именно образцы светской комедии — М. С.) отшлифовывались „завязка“, „развязка“, „кульминация“, совершенствовались пружины комедийного действия, оттачивались приемы занимательности и интриги» [5: 125−165].
Рядом с легкой комедией все большую популярность на русской сцене набирает водевиль — вариант салонной комедии (особенная черта водевиля 1810−1820-х гг. — это его «промежуточность», способность смыкаться с самыми разными жанрами — комической оперой, интермедией, мелодрамой, сатирической и благородной комедией, что обуславливает его самые разные жанровые модификации) [См.: 14: 13, 235−237]. В этой жанровой модификации определяющей является стихия водевильного комизма, замешанного на забавных неожиданностях, необыкновенных происшествиях, житейских парадоксах, комизма легкого и веселого, не отягощенного непосредственно серьезным элементом. Для легкой комедии и близкого к ней водевиля характерны интерес к светской тематике, ориентация на салонные вкусы, а также общие принципы сюжетосложения: легкая, изящная интрига, развитие которой укладывается обычно в одно действие, анекдотичный, неглубокий конфликт, шутливая веселость сценических ситуаций. Первостепенное внимание уделяется языку и стиху, которым авторы стремятся придать, и с успехом, разговорную легкость, непринужденность, благородство светской «болтовни».
Водевили, как и благородные комедии, в своем абсолютном большинстве — переводы и переделки французского источника. А это, несомненно, очень важно: в подобных пьесах воплощена принципиально новая концепция личности, сложившаяся под прямым влиянием идей Французской революции и, уже на русской почве, скорректированная событиями Отечественной войны 1812 года [13: 62−63]. Это человек, не отягощенный грузом сословных предрассудков и общественных условностей. Он не приемлет привычные авторитеты, отношения, освященные вековыми традициями. Его главное оружие — ирония, «самая свободная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над самим собой» [23: 176], над своим окружением. Его ироническое отношение к жизни и к самому себе («постоянное самопародирование») находит естественное продолжение в экстравагантном поведении, постоянно смещающем реальные пропорции и соотношения действительности. Между тем это светский человек — его остроумие выражает дух светскости и светского общения [23: 176.].
Благородная комедия и близкий к ней водевиль вызывали особый энтузиазм в «левом фланге» партера, где традиционно собиралась наиболее радикально настроенная дворянская молодежь, ощущавшая в этих пьесах «неуловимую для цензуры оппозиционность — отход от официальной ортодоксальности, пренебрежение к «матерьям важным» [21: 222].
Комедия и водевиль создают свой «кодекс» поведения светского человека. По словам тогдашнего театрала, театр «был истинною школою для молодого светского человека, школою в отношении к приемам, к обращению, светским манерам и языку самому» [1: 123]. Театр формирует своеобразный тип поведения, рассчитанный и ориентированный на стороннего зрителя. По этому поводу Ю. М. Лотман пишет: «Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей» [13: 47].
Водевиль оказывается созвучен эстетике домашних представлений, балов, маскарадов. Водевили разыгрываются на домашних сценах, где дворяне удовлетворяют свою страсть к актерству, потребность лицедействовать. Стихия веселых дурачеств, розыгрыша, мистификаций захлестывает домашние праздники. Как отмечает исследователь, «маскарады с персонажами Итальянской комедии XVIII столетия снова приобрели популярность в эпоху романтизма и сохраняли ее на всем протяжении XIX века как самые распространенные общественные развлечения» [8: 77]. Примечательно в этом отношении описание трехдневного праздника в Рябове по случаю дня рождения Всеволода Андреевича Всеволожского [15], представляющего собой грандиозный спектакль, открывающийся стихотворным прологом с водевильными куплетами Ф. Глинки «Доброго именинника празднуют три дня». За ним следовали сценически интерпретированные русские и французские загадки, шарады, каламбуры и т. д. Пространство сценической площадки постепенно расширяется, захватывая все имение, определяя взаимоотношения хозяев и гостей по законам сцены. Друг друга сменяют фейерверк, бал, театрализованный завтрак в «ресторане синьорино Каламбурини», разыгранный в фарсово-балаганной манере Никитой Всеволожским и его друзьями; ужин, имитирующий ярмарку, представленную различными народностями и национальностями и завершившуюся арлекинадами с итальянскими масками, в которые были вовлечены гости. Закончилось представление «деревенским праздником», где «бары, барыни и барышни» смешались с «развеселившимися простолюдинами» и «веселились без соблюдения чинов и разного рода китайских церемоний» [10: 203].
В стремлении не только написать или перевести пьесу (и, прежде всего, легкую комедию, водевиль), но и сыграть ее на театральных подмостках, в жизни, угадывается желание человека выйти за границы своей биографии, попытка примерить на себя чужую личину, судьбу и, оставаясь всегда самим собою, остро ощутить в разных видах свою пробудившуюся резвую индивидуальность.
Одновременно при переводах-переделках используются сюжеты, легко перекладывающиеся на русские нравы. На сцене зритель узнавал себя, своих знакомых, слышал современный язык дворянского салона. Установка же на зрелищность, на стремительное комедийное действие, полное комических qui pro quo, делало процесс «узнавания себя» особенно занимательным.
Помимо благородной комедии за комедией-водевилем конца 20-х годов стоит традиция русской комической оперы типа «Любовной почты» А. А. Шаховского (1806) с ее ориентацией на современный городской или помещичий быт и городской слой песенно-танцевальной музыки [16: 154.]. Огромна также роль скрибовской школы водевиля, повлиявшей как на благородную комедию, так и на водевильные переводы-переделки.
Уже во второй половине 1810-х годов, сразу после парижских премьер, на русской сцене появляются ранние водевили Э. Скриба. Их переводят и переделывают А. А. Шаховской, А. И. Писарев, П. Н. Арапов, Н. И. Хмельницкий, Н. В. Всеволожский, Я. Н. Толстой и др.
Скриба сформировал бульварный театр, там он научился угадывать вкус и требования публики. Традиции «низового» театра определили поэтику его водевилей — жизнерадостный анекдотический сюжет с колкими злободневными намеками, обращение к приемам внешней трансформации, театральной буффонады и маскарада. По словам одного из исследователей его творчества, «…постоянство публики (к пьесам Скриба — М. С.) выходило из тонкого понимания, которым автор как бы угадывал, что именно может нравиться зрителям… Никто не обладал таким даром драматической способности в отыскании театральных положений, захватывающих эффектов» [6: 3]. жанровый комедия водевиль сценизм герой Скриб начал писать водевили, когда традиции пасторальной комической оперы были еще весьма актуальны для музыкально-драматического театра. Он отказался от идиллической тематики и языка комической пасторали. Драматург вывел на сцену людей современного ему общества, научил их говорить живым разговорным языком. Одновременно он опирался на водевиль бульварного театра, который в начале XIX века представлял короткую пьесу обычно в одном акте, в прозаической форме, с куплетами. По большей части она была написана на сюжет, представляющий интерес современности, и создавалась к известному случаю [7: 408−409].
Грубость и несвязанность сюжета бульварного водевиля сменяются у Скриба стройностью и точной выверенностью сюжетной интриги, опирающейся вместе с тем на тот же механизм воздействия на публику, что и в бульварных (а ранее — и в ярмарочных) спектаклях; роль куплетов постепенно уменьшается, к веселости и эксцентричности примешивается — там, где это необходимо — модная и достаточно поверхностная чувствительность; большая доза оптимизма определяет общий колорит пьесы.
Скриб поднимает бульварный водевиль до уровня просвещенной публики. Его театр Gimnasi, учрежденный в 1820 году, привлекает не только богатых негоциантов, но и аристократов, в частности, герцогиню Беррийскую, именем которой чуть позже стал называться театр. Тематика света и полусвета вливается в скрибовский водевиль, сближая его с традицией французской благородной комедии.
Таким образом, во многом благодаря Скрибу водевиль стал расцениваться современниками-драматургами как пьеса, близкая к благородной комедии. Целый ряд водевилей Скриба при переводе и переделке на русский язык «вливался» в изящные формы благородной комедии. В качестве примера можно привести стихотворную комедию А. И. Писарева «Наследница» (1822). Драматург увидел в водевиле Скриба возможность его трансформации в благородную комедию и реализовал ее. Эта возможность заложена в особенностях структуры водевильной пьесы, которая, по словам драматурга, представляет собою «комедию в одном действии, состоящую из трех лиц и без переодевания"[17: 29].
Вместе с тем водевильный характер фабулы благородных комедий Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» и «Говорун» послужил поводом некоторым исследователям назвать эти пьесы водевилями [4: 86−87; 9: 338.]. Но это именно благородные комедии, а не водевили. И дело не только в том, что в этих пьесах отсутствует основной признак водевиля — куплет. Здесь важнейшую роль играет генезис этих жанров легкой комедии и водевлия, определяющий разный характер сценичности.
Благородная комедия первой трети XIX века, используя современный светский материал, обнаруживает между тем существенную связь с поэтикой «высокой» комедии классицизма. В полемике, развернувшейся в 1817—1818 гг. на страницах журналов «Северный наблюдатель» и «Сын Отечества» вокруг комедий Шаховского и благородной комедии, критики оценивают последнюю в русле высокой традиции. Рецензент «Сына Отечества» пишет о «Воздушных замках»: «…стихи легкие, чистые, приятные. Она (комедия — М. С.) изобилует чертами истинно комическими, свойственными не фарсам, а комедии благородной». Оценивая благородную комедию, критика обращает, прежде всего, внимание на язык, в котором должен фокусироваться «слог общественного, благородного обращения», и вместе с тем достаточно глубоко ощущается литературность этого языка. Автор рецензии на «Притворную неверность» пишет: «Смело можем рекомендовать перевод сей любителям поэзии… Известно, сколь трудно переводить с разговорного французского языка на книжный русский. Тем более чести победителям» (выделено автором рецензии) [Цит. по: 14: 77].
Итак, благородная комедия — это не только факт театральный, но и, в не меньшей степени, литературный. В благородной комедии, как в «высоком», «литературном» жанре, комизм положений уступает место комизму словесному, «интеллектуальному»; диалог преобладает над внешним действием, на первый план выдвигается психологическая характеристика персонажей, внешние театральные эффекты обычно отпадают.
Водевилист не стремится к тщательной литературной отделке своей пьесы — например, куплеты водевилей Н. И. Хмельницкого в сравнении со стихами его благородных комедий весьма шероховаты. Суфлерские экземпляры водевильных пьес испещрены послойной стилистической правкой; часто стиль водевиля «доводится», корректируется уже самими актерами на спектакле в процессе импровизации (включение «отсебятины»). Водевиль, имеющий «низовое», «площадное» происхождение [14: 16−40], существует почти исключительно в русле театральной жизни, отсюда особое отношение к этому жанру, часто достаточно неуважительное.
Принципиальные отличия благородной комедии от близкого к ней водевиля легко выявить, сравнивая комедию «Воздушные замки» (1818) с водевилем «Суженого конем не объедешь, или Нет худа без добра» (1821) Хмельницкого, в основу которых положен сюжетный ход пятиактной комедии французского драматурга Д’Арлевиля «Воздушные замки»: у проезжего офицера ломается коляска; пока ее чинят, он попадает в замок (или барский дом), где молодая женщина ждет своего незнакомого ей жениха; офицера принимают за этого последнего, и он, не разуверяя хозяйки, более или менее удачно разыгрывает эту роль (в основе многих благородных комедий и водевилей не только Н. И. Хмельницкого, но и А. А. Шаховского, А. И. Писарева, А. С. Грибоедова, П. А. Вяземского, лежит общая фабула, используется один и тот же сценический ход).
Экспозиции пьес совпадают — из традиционного письма выясняется, что в доме (замке) должен появиться незнакомый хозяйке (дочери хозяина замка) жених. В «Воздушных замках» письмо от тетушки получает хозяйка дома, молодая вдова Аглаева. Она читает послание своей «наперснице» — горничной Саше: «молодой, знатный и любезный» граф Лестов влюбился в нее заочно, увидев ее портрет у тетушки. Теперь он едет к ней в деревню под чужим именам. Чтобы познакомиться с Аглаевой, Лестов притворится, что у него сломалась коляска, и если, пишет тетушка, «ты ему покажешься так же мила, как прекрасна, то он, конечно, будет искать руки твоей… я, правда, и обещала графу свято сохранить тайну нашу, но я женщина…» [19: 310].
Такое начало настраивает Аглаеву на романтический лад, она видит в этом «перст судьбы». «…я верю страх судьбе: Как романтически она играет нами!» [19: 319], — говорит она Саше. Аглаева «моделирует» своего героя по тому же романтическому (литературному) канону: «…ах граф! как мил он должен быть собою! Лицом он Ловелас, душой Малек-Адель». Саша иронически «дописывает»: (в сторону) Ну, что б ему за нас да выйти на дуэль.
Так вот бы и роман, а мы их начитались [19: 314].
Пьеса «завязывается» с появлением мичмана Альнаскарова в доме Аглаевой, где его принимают за графа Лестова. Альнаскаров сродни Аглаевой — его восприятие жизни столь же книжно и романтически отвлеченно. Характерна первая фраза, которую он произносит, появляясь на сцене: «Итак, кто знает, что случится? Таинственность судьбы человека чудеснее всего!» [19: 321].
Комизм внешней сценической ситуации («одного принимают за другого») служит исходным моментом для развития забавной психологической ситуации. Внешнее действие (сюжетные перипетии) завязывается и замирает; сценическая интрига развивается далее на уровне «дискуссии» между персонажами и монологами, в которых герои излагают свои планы и мечты.
Главный объект комического осмеяния — мичман Альнаскаров. Взгляд на жизнь сквозь призму авантюрного романа («анекдот прекрасный»), помноженный на чрезвычайно высокую самооценку, стирает у Альнаснарова грань между действительным и желаемым. Альнаскаров в разговорах с Аглаевой, слугой Виктором, наедине с собой разворачивает проекты, один грандиознее другого: то он открывает неведомые страны, то видит себя царем дикого племени и вершит «народные дела» и т. п. Аглаева воспринимает эти «прожекты» как шутливую игру светского шалуна. Себя она в свою очередь уже видит графиней, принятой ко двору и восхищающей вместе с мужем «приемом, роскошью весь город».
Авторская ирония распространяется на всех персонажей комедии. На судьбу уповают не только Аглаева и Альнаскаров, но и их слуги — Саша и Виктор. Все они строят «воздушные замки», у каждого персонажа есть развернутый монолог — «мечтанье» (у Альнаскарова несколько подобных монологов), в котором герой «живо» видит себя достигнувшим вершин счастья и благополучия. Слова Альнаскарова — «…я в прелестях мечтанья Блаженствовал! мои свершилися желанья…» [19: 322] - применимы в равной мере ко всем. Игра судьбы получает в пьесе ироническую развязку: слуга Ипат (персонаж, выполняющий в пьесе чисто служебную функцию «вестника»), который знает графа Лестова в лицо, рассеивает заблуждение Аглаевой относительно Альнаскарова. Рушатся «воздушные замки» — Аглаева в досаде сухо и холодно прощается с мичманом; рассержена на Виктора Саша: «И мичмана слуга на мне хотел жениться!» [19: 339], — с возмущением восклицает она. «Кругом банкрутом» оказывается Виктор: от него не только отказывается Саша, но и лотерея, на которую он купил билет в надежде на стотысячный выигрыш, как выясняется, уже «давно разыграна». Не унывает один Альнаскаров. После крушения очередной мечты он уже захвачен другой. «Утешься! Индия осталася за нами» [19: 843], — говорит он с комическим пафосом своему слуге в финале пьесы.
В отличие от «Воздушных замков», в водевиле «Суженого конем не объедешь» доминирует внешне волевое действие со всеми его атрибутами. Тип сценического действия в этой пьесе, как и в «Воздушных замках», находится в глубоком соответствии с характером главного героя. Обильные перипетии внешнедейственного сюжета водевиля обусловлены эксцентрическим поведением гусара Эрнеста. Он попадает вместе с денщиком Брантом в замок барона Дорсана случайно — так же, как и мичман Альнаскаров в дом Аглаевой. Не встретив со стороны управляющего и его жены сочувствия (они пытаются выставить Эрнеста), он захватывает замок по всем правилам военного искусства, назначает себя генерал-губернатором, Бранта — комендантом замка, а всех «здешних жителей» объявляет военнопленными. Центральные сцены водевиля — «бой» с прислугой замка — выдержаны в фарсово-пародийных тонах. Слуги, вооруженные предметами своего ремесла, во главе с управляющим наступают на гусаров, они поют воинственные куплеты «Дружина храбрая, вперед!» Выстрел Эрнеста повергает всех на землю, управляющий Гримардо решает, что он убит. Госпожа Гримардо, подобно героине из трагедии, «с распущенными волосами» изображает безутешную вдову. Эрнест сажает управляющего под арест на чердак, а его супругу приказывает запереть на голубятне.
Ситуация «одного принимают за другого» возникает ближе к развязке (ХVII явление), когда гусар Эрнест успевает уже изрядно «нашалить». В «захваченном» замке появляются Лора, дочь барона Дорсана, и госпожа Валькур, его сестра. Они принимают Эрнеста за жениха Лоры, который «нарочно нашалил здесь, чтоб веселей начать знакомство» [20: 341]. «Живой и превеселой» Лоре понравился эксцентрический жених. Приезд барона Дорсана рассеивает недоразумение, но он одобряет выбор дочери — Эрнест оказывается воспитанником барона, которого считали погибшим.
Следует отметить, что и в водевиле, и в комедии жизнь предстает под знаком всеобщей игры судьбы, власти случая. Прихотливо-изменчивые и неожиданные стечения обстоятельств завязывают интригу, определяют характер конфликта-«казуса», влияют на развязку сценического действия. Но если в благородной комедии «Воздушные замки» игра случая явилась для драматурга поводом к психологическому исследованию и легкому комедийному осмеянию такого человеческого недостатка, как беспочвенная мечтательность (всеобщие ожидания и надежды в комедии под конец сменяются всеобщим разочарованием; «романтическая» игра судьбы завершилась иронической насмешкой над героями), то в водевиле игра судьбы завязывает внешнее действие с обильными перипетиями, воспроизводящее эксцентрическое поведение человека, связанное с игрой, полное свободного и радостного самовыражения. Она обуславливает целый каскад веселых недоразумений, фарсовых сценок, забавных стычек между персонажами, постоянно оживлениями, инициативными. Здесь воля случая предстает как сила благая, дарующая людям полноту жизни и счастье [22: 111].
Традиция «низового» театра ощущается в водевиле — «варианте благородной комедии» и в присутствии «демократического фона». Это именно фон — в пьесе его обычно представляют такие персонажи, которые в списке действующих лиц обозначены как «крестьяне» и «крестьянки». Подобные персонажи, несмотря на достаточную условность, придают происходящему на сцене достоверность, сообщают «национальный» колорит, исполняя, например, заключительный дивертисмент — разновидность «деревенского балета» комической пасторальной оперы («Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (1824) А. С. Грибоедова и П. А. Вяземского, «Суженого конем не объедешь», «Карантин» (1820) Н. И. Хмельницкого и др.). Часто герои такого плана участвуют в массовых сценах: хор крестьян в сцене «суда» в опере-водевиле «Новый Парис» (1829) Хмельницкого, хор крестьян, поздравляющих молодых, в водевиле «Хлопотун» (1824) А. И. Писарева, фарсовые сцены «сражений» с участием крестьян и слуг в водевилях «Суженого конем не объедешь» и «Новая шалость, или Театральное сражение» (1822) Хмельницкого.
Благородная комедия, ограниченная рамками светской гостиной, не впускает в свой мир «низких» персонажей; исключение составляют слуги-«наперсники» и слуги-«вестники». Иное дело водевиль. Локальность и анекдотичность конфликта не мешают водевилистам расширять сценическое пространство пьесы за счет ввода массовых сцен. Даже в тех случаях, когда главным героем водевиля является светский «шалун», чаще всего гусар, драматург стремится воспроизвести не традиционное окружение благородной комедии, но прозаическую обстановку корчмы, трактира, почтовой станции (опера-водевиль «Удача от неудачи, или Приключение в жидовской корчме» (1817) П. Н. Семенова, водевиль «Мнимые разбойники, или Суматоха в трактире» (1819) Я. Н. Толстого, опера-водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» А. С. Грибоедова и П. А. Вяземского). В каждом из этих случаев «жанровая оформленность поступков (в том числе речевых) становится как бы привязанной к локусу, с учетом его общественных функций, а также социальных и национальных акцентов, присущих данному локальному жанру. С этим жанром связано также приличествующее ему слово…» [24: 73].
В авторской трактовке светского шалуна в благородной комедии обычно ощущается легкая назидательность или ирония. Это веселый, добросердечный молодой человек, которого подводит легкомыслие (Изборский в «Романе на большой дороге» (1819), Рославлев в «Добром малом» (1820) М. Н. Загоскина, Лидин в Сплетнях" (1820) П. А. Катенина, Пальмов в «Двух говорящих картинах» (1820) Н. В. Всеволожского, Вспышкин в «Нетерпеливом» (1821) Я. Н. Толстого и др.). А потому неизбежно возникает мотив раскаяния, исправления, жизненного урока. Характерны в этом отношении заключительные слова Штурмова, обращенные к его племяннику Пальмову: «Я тобой доволен, племянник. Ты молод, ветрен, заблуждался, — но хорошо себя вел — и нынешнее происшествие послужит тебе уроком» (выделено — М. С) [цит. по: 11: 183]. Такой персонаж, попадая в сферу комедийного осмеяния, легко переходит из разряда «положительных» в разряд «отрицательных», как это случилось, например, с героем Шаховского Зарницкиным.
Пушкин почувствовал возможность смещения оценки светского повесы: легкомыслие и ветреность героя неосуществленной поэтом комедии «Скажи, какой судьбой друг другу мы попались?» (1821) заводят его так далеко, что он вразрез с принципами человеколюбия, проигрывает своего «дядьку» [Там же]. У Загоскина, прямо выступавшего против апологии в литературе такого героя [См. об этом: 2: 124.], бесчестный и подлый насмешник Вельский (комедия «Добрый малый») творит свои безнравственные дела, прикрываясь философией наслаждения жизнью (философией светского повесы), и слывет в обществе «добрым малым».
В благородных комедиях Хмельницкого трех персонажей безусловно можно отнести к разряду светских повес: это граф Звонов («Говорун»), офицер Эраст («Шалости влюбленных»), Столицын («Светский случай»). Из них два персонажа — Звонов и Столицын — «отрицательные», осмеиваемые, выступающие в амплуа «шутовских любовников». В комедиях им противопоставлены скромные и благородные Модестов («Говорун») и Рамирский («Светский случай»). Показательны в этом отношении оценка горничной Лизы Модестова: «Он первый для меня из ваших женихов: Так скромен, мил, умен и молодец собою», а также слова Столицына о Рамирском: «Когда б он был шалун, какими окружен, Он хлопотать меня никак бы не заставил; Но я ручаюсь вам, что он отменных правил…». — (выделено — М. С.) [19: 277, 375].
По-иному трактуется светский повеса, шалун в водевиле. С ним связана стихия беззаботного веселья, праздника, игры. Он как ураган вторгается в мирную размеренность жизни, опрокидывая все вверх дном и вовлекая всех в свои веселые дурачества [18: 284]. Он — победитель, в его руках нить интриги, которую он сам завязывает и направляет в нужную для него сторону (в «Светском случае» этот принцип построения совета спародирован — повеса Столицын, мнящий себя главным действующим лицом разыгрываемой им «комедии», одурачивает сам себя).
Водевильный шалун — апостол воинствующего оптимизма. Его шумному и экстравагантному веселью, основанному на произвольном и нарочитом опрокидывании привычных отношений и пропорций, водевилист стремится придать значительность жизненной программы [18: 283]. Смех раскрывает относительность устоявшихся норм, позволяет осознать их несоответствие истинной свободе человека; по словам А. Р. Кугеля, «есть смех — значит рождается свободный человек» [12: 163].
Через дурачества и веселье «шалуна» застывший мир всеобщей нормы превращается на время в свободно играющую стихию, алогизмы и странности которой воспринимались зрителями как естественное состояние живого, динамичного бытия. Соответствующим образом перестраивается механизм комедийного действия: если в благородной комедии «странности» повесничающего героя являются поводом к психологическому исследованию и легкому комедийному осмеянию, что обуславливает преобладание словесного комизма над комизмом положений, то в водевиле эксцентричность «шалуна» в целом не подвергается комическому снижению — его веселая инициативность завязывает внешнедейственную интригу с обильными сценическими перипетиями. Этот принцип конструирования образа шалуна-повесы, определяющий структуру водевильной пьесы, имеет типологическое значение: таковы водевильные шалуны у Хмельницкого (Эраст в «Суженого конем не объедешь», Стрельской в «Карантине», шесть мальчиков-кадетов в «Новой шалости», Флорвиль и Жеркур в «Бабушкиных попугаях», Алин в «Новом Парисе»), у Шаховского (Алеша в «Двух учителях», Хрустилин в «Пурсоньяке», Элымирин в «Игнаше-дурачке», Родриго в «Адвокате»), у Я. Н. Толстого (Гремский в «Мнимых разбойниках, или Суматохе в трактире» (1819), у Баркова (Дюпре в «Малабарской вдове» (1828), Лафлер в «Горбунах в модной лавке» (1825) и т. д. И если у Хмельницкого, Шаховского, Толстого, Всеволожского водевильный шалун — светский молодой человек, дворянин, то у Баркова этот водевильный персонаж выступает в своем первоначальном, «демократическом естестве» — как инициативный и предприимчивый деятель третьего сословия, всегда готовый на авантюру для достижения своих, чисто практических целей. Водевиль словно возвращается к истокам, обнажая свою демократическую природу, «объясняя» происхождение образа водевильного шалуна, восходящего к образу веселого и жизнерадостного буффона, площадный смех которого носит универсальный и всеобъемлющий характер.
Итак, комедия-водевиль конца 10-х — начала 20-х годов XIX века, усваивая ряд существенных признаков благородной комедии, отнюдь не становится одной из ее жанровых модификаций — обозначение такой пьесы «вариантом салонной комедии» достаточно условно и справедливо лишь до известной степени. Традиции «низового», зрелищного театра определяют жанровую специфику комедии-водевиля, характер ее сценичности, тип интриги, основные принципы сюжетосложения, в то время как благородная комедия — это «высокий», «литературный» жанр, где сценическая интрига подчинена психологическим коллизиям и, соответственно, словесный комизм чаще всего является определяющим по отношению к комизму положений.
Принципиальное различие благородной комедии и водевиля лежит на уровне хронотопа, который в данном случае «имеет существенное жанровое значение» [3: 235]. Мир благородной комедии — это мир светской гостиной, куда не допускаются «низкие» персонажи, в то время как сценическое пространство водевиля постоянно обнаруживает связь со стихией праздничной площади за счет присутствия в пьесе «демократического фона», ввода массовых сцен, воспроизводящих «деревенские праздники», обрядовые игры, травестированные в балаганной манере битвы и т. д.
И, наконец, благородная комедия и комедия-водевиль воплощают равные речевые стихии, стихии стиха и прозы. При всей установке в обоих жанрах на язык салона, стихотворный язык благородной комедии предлагает иную, более высокую, нежели в прозаическом водевиле, меру условности, за которой стоит складывающаяся в течение столетия высокоразвитая культура стихотворной речи. Прозаический, весьма шероховатый язык водевиля контрастирует стихотворной эпохе первой трети XIX века своей «заземленностью», «просторечностью», подчеркнутой обращенностью к сфере быта.
- 1. Аладьин Е. Воспоминания о Н. И. Хмельницком // Репертуар и пантеон. — 1846. — Т. 13. — - № I. — С. 116 — 139.
- 2. Базанов В. Г. Ученая республика. — М.; Л.: Наука, 1964. — 463 с.
- 3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. — М.: Художественная литература, 1975. — С. 234−407.
- 4. Варнеке В. В. История русского театра: XIX век. — Казань, 1910. — Т. 2. — Ч. 2. — 432 с.
- 5. Вольперт Л. И. Французская комедия XVIII века // Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе: К проблеме русско-французских литературных связей. — Таллин, 1980. — С. 125−165.
- 6. Дави. Евгений Скриб // Вестник лучших драматических произведений французских писателей. — 1902. — № 10. — С. 3−5.
- 7. Думик Р. Романтический театр // Пти-де-Жюльвиль Л. Иллюстрированная история французской литературы в XIX веке. — М., 1907. — Гл. VIII. — С.377−429.
- 8. Завьялова А. Е. Офорты Даниэля Ходовецкого как художественный источник «маскарадов» Константина Сомова // Маска и маскарад в русской культуре XVIII—XX вв.еков. — М.: Гос. ин-т искусствознания, 2000. — С.71−79.
- 9. История русского драматического театра: в 7-ми томах: 1801 — 1825. М.: Искусство, 1977. — Т. 2. — 555 с.
- 10. Касьянов К. Боярский пир в начале XIX столетия // Касьянов К. Наши чудодеи: Летопись чудачеств и эксцентричностей всякаго рода. — СПб., 1875. — С. 162−215.
- 11. Королева Н. Декабристы и театр. — Л.: Искусство, 1975. — 264 с.
- 12. Кугель А. Р. Право смеха (Козьма Прутков) // Кугель А. Р. Русские драматурги: Очерки театрального критика. — М.: Мир, 1933. — С. 163−168.
- 13. Лотман Ю. М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. — Тарту, 1973. — Вып. 2.
- 14. Мещеряков В. П., Сербул М. Н. Герменевтический комментарий к произведениям мировой культуры и биографиям. Т. I: Герменевтический комментарий к русской комедиографии 1-й трети XIX века. — Шуя, изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. — 239 с.
- 15. Описание праздника, данного родными и друзьями Его Превосходительству Всеволоду Андреевичу Всеволожскому в Рябове 25 октября 1822 года. — СПб., 1823. — 73 с.
- 16. Очерки по истории русской музыки: 1790 — 1825 гг. / под ред. Н. Друскина и Ю. Келдыша. — Л.: Госмузиздат, 1956. — 458 с.
- 17. Писарев А. И. Анти-Телеграф, или отражение несправедливых нападений г-на Полевого. — М., 1826. — 34 с.
- 18. Сербул М. Н. «Горе от ума» А. С. Грибоедова: пути преодоления риторического слова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. — Краснодар: КубГАУ, 2012. — № 07(81). С. 281 — 293.
- 19. Стихотворная комедия конца 18 — начала 19 веков / сост., вст. ст., прим. М. О. Янковского. — М.-Л.: Советский писатель, 1964. — 966 с.
- 20. Театр Николая Хмельницкого. — СПб., 1830. — Ч. 2. — 463 с.
- 21. Фомичев С. А. Драматургия начала XIX в. Творчество А. С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» // История русской литературы: в 4 т. — Л.: Наука, 1981. — Т.2 — С. 204−234.
- 22. Хализев В. Драма как явление искусства. — М.: Искусство, 1978. — 240 с.
- 23. Шлегель Ф. Фрагменты // Литературная теория немецкого романтизма. — Л.: ОГИЗ, 1934. — С. 169−210.
- 24. Щукин В. Г. Социокультурное пространство и проблема жанра // Вопросы философии. — 1997. — № 6. — С. 69−79.