Ностальгия.
Изгнание.
Венецианские стихи И. Бродского
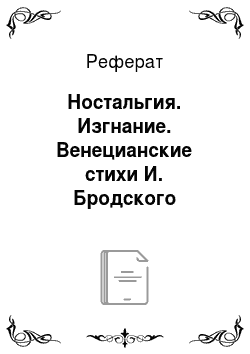
А. М. Ранчин отмечает связь «Лагуны» с венецианским стихотворением Ходасевича «Брента», лирический герой которого, такой же одинокий, тоже носит плащ: «да на согнутых плечах / плащ из мокрого брезента». Это стихотворение о поездке в Венецию в 1911 году было, однако, написано в 1923 году, то есть в годы эмиграции. Так, «человек в плаще» и связь этого образа с мотивом ностальгии прослеживается… Читать ещё >
Ностальгия. Изгнание. Венецианские стихи И. Бродского (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мотив изгнания особенно часто возникает в творчестве Бродского начиная с 1972 года, после его высылки из Советского Союза. Мотив этот неразрывно связан с биографией поэта и играет в ней переломную роль; с другой стороны, он зиждется на многовековой традиции описания поэтического изгнания (у Данте, Овидия, Пушкина и других). Из многочисленных работ по этому вопросу отметим монографию Д. Бетеа, который рассматривает разработку Бродским мотива изгнания (физического и духовного) в сравнении с повлиявшими на него английскими поэтами-метафизиками, Мандельштамом, Цветаевой, Пастернаком и др. С. Турома в работе «Поэт как одинокий турист» говорит о Бродском после 1972 года именно как об изгнаннике, противопоставляя эту позицию роли туриста.
Как уже было отмечено, мысль о схожести Венеции и Петербурга зародилась с самого основания последнего и приобрела популярность среди русской публики еще на рубеже XIX — XX веков. Для Бродского Венеция стала не только образцом эстетического идеала, но и напоминанием о родном городе, который он сначала не мог, а затем отказывался посетить. Сам поэт назвал Венецию Петербургом, «перемещенн[ым] в места с лучшей историей, не говоря уже о широте».
Мотив изгнания у Бродского тесно переплетен с мотивами одиночества, ностальгии, смерти и другими и пронизывает все его венецианские стихотворения. Уже в «Лагуне» появляется фигура постояльца, отождествляемая с лирическим героем. При первом же упоминании этого человека мы узнаем, что он лишен не только родины, но и исторического прошлого:
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще. (I, 343)
А. М. Ранчин отмечает связь «Лагуны» с венецианским стихотворением Ходасевича «Брента», лирический герой которого, такой же одинокий, тоже носит плащ: «да на согнутых плечах / плащ из мокрого брезента». Это стихотворение о поездке в Венецию в 1911 году было, однако, написано в 1923 году, то есть в годы эмиграции. Так, «человек в плаще» и связь этого образа с мотивом ностальгии прослеживается не только у Бродского, но и у Ходасевича. А. М. Ранчин отводит целую главу своей монографии «На пиру Мнемозины. Интертексты Иосифа Бродского» исследованию интертекстуальных связей поэзии Ходасевича и Бродского. Он отмечает, что в другом стихотворении, «Швея», Ходасевич отождествляет земную женщину с паркой, что присутствует и в «Лагуне»: «Три старухи с вязаньем в глубоких креслах». Много внимания исследователь уделяет как раз вышеупомянутому образу «человека в плаще/пальто», который у Бродского принадлежит паломнику или изгнаннику, подчеркивает безликость и анонимность носителя, а также является атрибутом лирического героя, человека вообще:
Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего (I, 344)
Тень, насыщающаяся от света,
радуется при виде снимаемого с гвоздя
пальто совершенно по-христиански (II, 48)
Где они все теперь — эти маски, полишинели,
перевертни, плащи? (II, 63)
Здесь же будет интересно отметить связь образа «человека в плаще» с тем, как сама Венеция изображена в стихотворении «Venezia la bella» А. Григорьева:
Но сих-то бездн душа моя алкала!
Пришлец из дальней северной страны,
Хотел сорвать я жадно покрывало
С закутанной в плащ бархатный жены…
У траурных гондол дознаться смысла
«Плащ бархатный» здесь предстает своеобразным покровом над бездной, скрывающим тайны бытия.
Возвратимся к «Лагуне». Далее по ходу стихотворения, в строфах VI — IX, происходит резкая смена темы, и не без отсылки к политической ситуации поэт намекает на произошедшую годом ранее высылку. Вначале автор сухо отмечает, как чуждо и непривычно ему праздновать рождество в новой стране:
Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле; (I, 344)
Затем крылатый лев святого Марка сравнивается со статуями сфинксов на Банковском мосту северной Венеции:
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!» (там же)
Здесь проводится параллель между Венецией и Петербургом (первая из многочисленных в венециане Бродского), что делает уместной смену темы, которая происходит в строфах VIII-IX. Вместо Венеции автор начинает говорить о собственной судьбе и собственной стране:
Звук отрицает себя, слова и
слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту. (там же)
Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе, — и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна. (там же)
Делает он это с помощью отсылок к стихотворению Одена «Испания», названию романа Сологуба «Мелкий бес» и персонажам Гоголя. Применительно к последним М. Крепс замечает: «Черт и Солоха — гоголевские герои из повести „Ночь перед Рождеством“, находившиеся в интимных отношениях, отсюда ясно, что черт мог показать своей возлюбленной, хотя у Гоголя такой сцены и нет».
В «Сан-Пьетро» мотив ностальгии по родному городу поэта вводится в том числе и через образ тумана, спустившегося на «захолустный городок». Туман, характерный как для Петербурга, так и для петербургского текста, так описывается в «Набережной Неисцелимых»:
Но одного раза достаточно, особенно зимой, когда местный туман, знаменитая Nebbia, превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражения, но и все имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи. Пароходное сообщение прервано, самолеты неделями не садятся, не взлетают, магазины не работают, почта не приходит.
Обезличивающий Венецию туман вызывает в памяти отрывок из романа Достоевского «Подросток»:
«А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»
Петербургские туманы описываются также в таких знаковых текстах русской литературы, как «Невский проспект» Гоголя, «Петербург» Белого или «Петербургские строфы» Мандельштама. А. М. Ранчин отмечает, что в некоторых петербургских стихотворениях поэта говорится о «не-существовании, не-бытии» Петербурга («Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…», «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки»).
Данное в «Сан-Пьетро» описание создает аналогичное впечатление — город утрачивает связь с реальностью; теперь он находится вне времени и может с равным успехом быть как Венецией, так и Петербургом. Описанная здесь «чугунная кобыла Виктора-Эммануила», т. е. памятник первому королю объединенной Италии, вызывает в памяти знаменитого «Медного Всадника». Конная статуя упоминается (уже более неуловимо) в «Венецианских строфах (1)»:
Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну. (II, 62)
Интересно и то, что среди многочисленных достопримечательностей Венеции Бродский выбирает именно открытый в 1887 году памятник. Изображенный Бродским памятник символизирует новую, единую Италию, к которой старая и независимая Венецианская республика не имеет отношения. Вообще, по утверждению А. М. Ранчина, «венецианское пространство плотно заселено городскими артефактами: «пансион «Аккадемиа», площадь/собор Сан-Марко, лев Св. Марка на площади, кладбище Сан-Микеле, где похоронен Дягилев». С этим наблюдением нельзя не согласиться, но заметим, что вопреки традиции венецианского текста эти места не названы Бродским прямо. Так, кладбище Сан-Микеле названо местом, «где глубоким сном спит гражданин Перми», лев на площади Сан-Марко — «сфинксов северных южный брат, / знающий грамоте лев крылатый». Другие — названные — локусы, не считаются знаковыми для Венеции, а скорее важны для лирического «я» автора (Пансион «Аккадемия» в «Лагуне», дворец Минелли и «бар на углу» в «С натуры», и т. д.).
В описанной в «Сан-Пьетро» нетуристической части Венеции угадывается Ленинград: об этом говорит как название, так и отсылки к стихотворению Умберто Сабы «В глубине Адриатики дикой» (рассказывающему о городе детства) и «Ленинграду» Осипа Мандельштама («и пахнущего, как в детстве, йодом» Бродского отсылает к «до прожилок, до детских припухлых желез» старшего поэта). Так, с введением в стихотворение города детства развивается тема ностальгии, поданная в связке с морской образностью:
Так, дохнув на стекло, выводят инициалы
тех, с чьим отсутствием не смириться;
и подтек превращает заветный вензель
в хвост морского конька. (II, 50).
Развитию темы ностальгии по Петербургу способствует и «заветный вензель», отсылающий к сцене из «Евгения Онегина», где влюбленная Татьяна рисует на стекле инициалы Евгения. «Заветным вензелем» может быть и девиз рода Шереметевых на фасаде Фонтанного дома («Бог сохраняет все»), который Бродский цитирует в стихотворении памяти Ахматовой. Превращение вензеля в холодное морское животное символизирует несбыточность надежд лирического героя на воссоединение с теми, «с чьим отсутствием не смириться».
«Сан-Пьетро» — стихотворение об окраинах; здесь стоит провести параллель с ленинградским стихотворением 1962 года «От окраины к центру». Вот что говорит сам поэт о своем понимании эстетики городских окраин в беседе с Соломоном Волковым:
Ведь в той, ленинградской топографии — это все-таки очень сильный развод, колоссальная разница между центром и окраиной. И вдруг я понял, что окраина — это начало мира, а не его конец. Это конец привычного мира, но это начало непривычного мира, который, конечно, гораздо больше, огромней, да? И идея была в принципе такая: уходя на окраину, ты отдаляешься от всего на свете и выходишь в настоящий мир.
Наконец, само название района, полученное от имени святого Петра, отсылает к названию русского города. Здесь же отметим, что в черновике стихотворение называлось «Nebbia», и, возможно, его переименование в «Сан-Пьетро» является очередной попыткой указать на связь изображаемого города с Петербургом.
Разбирая стихотворение «В Италии», мы уже отмечали, как в ведуту итальянского города словно вписано описание города на Неве:
И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.
Теперь там садится солнце, кариатид слепя.
Но тех, кто любил меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принюхиваются к объедкам (II, 106).
В. П. Полухина замечает схожесть этого произведения со стихотворением «Развивая Платона», где на фоне мотива изгнания дано описание идеального города. «В Италии», таким образом, также создает атмосферу ностальгии, тоски по прошлому или, по выражению исследователя, «сиротства». Исследовательница указывает на интертекстуальные связи стихотворения с «Поэмой без героя» Анны Ахматовой: в «бесконечной набережной» угадываются строки из поэмы «А по набережной легендарной / Приближался не календарный — / Настоящий Двадцатый Век», тогда как «семиперсонификация статуй напоминает «Где статуи помнят меня молодой» «. И в этом стихотворении введение панорамы Ленинграда вызывает к жизни мотивы ностальгии и одиночества.