Тема больной совести в рассказах А. П. Чехова
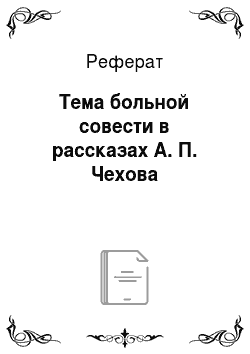
Чудаков, наблюдается интересное и новое для Чехова «явление сближения внутреннего монолога — прямой речи и внутреннего монолога — несобственно-прямой речи… Найти черту, за которой речь повествователя, насыщенная словом героя, сменяется речью самого героя, чрезвычайно трудно». (9,64). В любом случае, читателю понятно: идиллический образ абстрактной падшей женщины, существующий исключительно… Читать ещё >
Тема больной совести в рассказах А. П. Чехова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- 1. Нравственные принципы А. П. Чехова как предпосылки обращения писателя к теме больной совести
- 1. 1. Антимещанский кодекс Чехова
- 1. 2. Теория малых дел
- 2. Совесть как нравственная «шкала ценностей» в рассказах Чехова
- 2. 1. Отсутствие совести — признак нравственного застоя или бесчеловечности
- 2. 2. Совесть как продукт работы мысли
- 2. 3. Пробуждение совести под влиянием внезапного внешнего воздействия
- 2. 4. Больная совесть как изначальное состояние ранимой души
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Пессимистические и фаталистические идеи доктора Рагина, — пишет Бялый, — корнями своими уходят в философию древних, они ведут к Марку Аврелию, например, но в них есть все признаки модных философских течений, доказывающих невозможность и ненужность возмущаться подлостью и насилием, надеяться на изменение жизни». (3,28).
Но рассмотрим некоторые ступени «падения» Рагина по социальной лестнице. Беседуя со своим пациентом — бывшим судебным приставом Иванов Дмитриевичем Громовым, страдающим манией преследования, Рагин день ото дня все больше интересуется личностью Громова. Они начинают спорить и обсуждать самые различные аспекты бытия, затрагивают философские концепции… В какой-то момент Рагин говорит: «Мы с вами мыслим, мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными». Именно после этих слов, подслушанных Хоботовым и фельдшером, между главным героем рассказа и «всем остальным миром» образуется стремительно расширяющаяся трещина.
Люди, на самом деле НЕ СПОСБНЫЕ рассуждать и мыслить — теми высокими абстракциями, до которых поднимаются Рагин и Громов — по житейски деловито, почти на животном уровне начинают отторгать доктора из своей среды. Дочка смотрителя Маша и почтмейстер Михаил Аверьянович, доктор Хоботов и, наконец, городской голова с «уполномоченными лицами» ощущают в Рагине чужака, инакомыслящего. И здесь Рагин совершает свою последнюю (с точки зрения «всего остального мира») ошибку. Вместо того, чтобы как все сетовать на скуку уездного городка (ни театра, ни музыки, ни подходящего количества дам на танцевальном вечере в клубе), доктор «медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят… пользоваться наслаждениями, какие дает ум». Этот монолог в стиле Чацкого, лишь с поправкой на время и место, приводит к тому же финалу: главного героя признают безумным.
Готов ли Рагин отстаивать свою правоту? Бороться с общественным мнением? Протестовать? До тех пор, пока он еще не оказался в палате № 6 и не осознал всего того унижения, которым подвергаются заключенные там пациенты, он не сопротивляется. В случившемся с ним несчастье он видит заколдованный круг, причем оценивает этот круг весьма точно. Он поплыл против течения окружающей его жизни, он поступал не как все, он прозрел (хотя это еще не окончательное прозрение), и болезнь его только в том, что за двадцать лет он «нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший». Парадокс в том, что именно это движение наперекор общепризнанному, «когда люди вдруг обратят на вас внимание» и затягивает человека «в заколдованный круг, из которого уже не выйти».
Но совесть Андрея Ефимыча еще молчит. Для ее пробуждения нужно понять чужое страдание, чужую боль. Это происходит в тот момент, когда доктор сталкивается с распорядком дня палаты № 6. Физическая расправа — вот то «непредвиденное обстоятельство», то внешнее воздействие, после которого в душе Рагина просыпается «совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита». Момент истины ужасен. «Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках… и вдруг в голове его… ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди… Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого?». Это духовное прозрение наносит Андрею Ефимычу смертельную рану.
И если гробовщик Яков умирает от внутреннего разлада, он непонимания того, что наделала с ним пробудившаяся совесть, то доктор Рагин — от накопленной десятилетиями чужой боли, которую сумел воспринять, как свою собственную. «Истинным же победителем, — считает Г. Бялый, — оказывается человек, в ненормальности своей увидевший безумие жизни, к которой все привыкли"(3,28).
2.4 Больная совесть как изначальное состояние ранимой души
Последний, четвертый тип чеховского героя, чья совесть не дремлет в ожидании внешнего импульса, но болит, не переставая, при виде чужого страдания и унижения, представлен студентом Васильевым из рассказа «Припадок». Рассказ посвящен памяти писателя В. М. Гаршина, человека с обостренным восприятием и болезненно ранимой душой, покончившего с собой в возрасте 33 лет. По одной из версий причиной обострения психического состояния Гаршина стала увиденная им сцена казни революционера.
Припадок героя рассказа Васильева вызван совсем иными обстоятельствами: столкновением с грубым и постыдным миром московских публичных домов, по которым его уговорили «пройтись» приятели-студенты. Чехов, сам не раз бывавший в подобных заведениях, с первых же строк начинает беззлобно подшучивать над наивностью своего героя, а, возможно, и над самим собой в ранней молодости. Однако чем далее продвигается Васильев «в мир порока и лжи», тем более драматичными становятся и описания происходящего, и, особенно, внутренние монологи. В рассказах этого периода, отмечает А.
Чудаков, наблюдается интересное и новое для Чехова «явление сближения внутреннего монолога — прямой речи и внутреннего монолога — несобственно-прямой речи… Найти черту, за которой речь повествователя, насыщенная словом героя, сменяется речью самого героя, чрезвычайно трудно». (9,64). В любом случае, читателю понятно: идиллический образ абстрактной падшей женщины, существующий исключительно в воображении героя, очень скоро придет в грубое столкновение с реальностью. Так и происходит. Покоробленный многочисленными мелкими деталями, смущенный пошлой тупостью происходящего, Васильев начинает ДУМАТЬ. Мысли его трудно назвать оригинальными. То, что «покупка живого человека за рубль» есть «страшный грех», осознавали, наверное, многие сотни и тысячи посетителей публичных домов.
Сам студент отдает себе отчет, что место и время для подобных размышлений выбрано крайне неудачно. «Впрочем… не надо думать!» — одергивает он сам себя. Но мы уже понимаем, что одергивает он свою пробуждающуюся совесть.
Не думать не получается. Так уж устроен этот особый герой Чехова, что мысли, а вслед за ними и больная совесть, буквально фонтаном прорываются сквозь тонкую оболочку, отделяющую для него обыденную, «вещную» жизнь от жизни духовной. Васильев в буквальном смысле засыпает вопросами то самого себя, то друзей-приятелей, то снова себя.
Вслед за ними начинаются размышления, перемежающиеся фантазиями и экзальтацией. «То, что переживал Васильев,… было очень похоже на вдохновение. Он плакал, смеялся, говорил вслух те слова, какие он скажет завтра, чувствовал горячую любовь к тем людям, которые послушаются его и станут рядом с ним на углу переулка, чтобы проповедовать…». Перед нами уже не столько чеховский персонаж, сколько персонаж Достоевского.
Но и Раскольников, и Карамазов, и князь Мышкин как представители конкретных идей Достоевского так или иначе получали ответы на мучавшие их вопросы. Или, если быть точным, на них отвечал сам писатель. Чехов, сузив масштаб постановки вопроса до уровня конкретного персонажа, как будто загоняет своих героев в тупик. Это отмечает А. Чудаков: «Для мира Чехова чрезвычайно характерна идея, не разрешенная и не разрешимая в рамках произведения» (9,248). По мнению Чудакова, и в «Скрипке Ротшильда», и в рассказах «Страх», «Именины» и, конечно же, в «Припадке» персонажи с разным нравственным и философским багажом" оказываются не в состоянии решить проблемы такого плана. «
Суть в принципиальной невозможности решения подобных вопросов в сфере чистого умозрения, в невозможности дать догматически-исчерпывающее завершение идеи, — пишет Чудаков. — Это очень отчетливо было осознано Чеховым и теоретически". (9,249).
В какой-то момент Васильев тоже осознает тщетность мозговых усилий. Внутри него срабатывает некий предохранительный клапан, который однажды не сработал у Гаршина. «Скорее спасайте меня!» — кричит он очень вовремя подоспевшим приятелям. — «
Я убью себя!" А дальше происходит процесс, обратный тому, что происходил в «Палате № 6» между Рагиным и «всем остальным миром». Понимая, что утонет в своих эмоциях и сойдет с ума, Васильев перестает «плыть против течения» и подставляет свою страдающую совесть психиатру примерно с таким же чувством, с каким подставил бы нестерпимо ноющий зуб дантисту. И неожиданно оказывается, что банальные, будничные расспросы доктора способны прекрасно снять стресс. То есть унять больную совесть, прервав безудержный поток мыслей. Диалог между Васильевым и Михаилом Сергеевичем выдержан в стиле старого анекдота о русском менталитете: «Посмотришь вокруг: Господи, Боже ты мой!» А потом подумаешь: «Да и Бог с ним!». «Скажите только одно, — спрашивает Васильев. — проституция зло или нет?» И получает успокоительный ответ: «Голубчик, кто ж спорит?»
И тонкой иронией звучит финальная авторская ремарка: «Когда он выходил от доктора, ему уже было совестно… в руках у него было два рецепта: на одном было бромистый калий, на другом морфий… Все это принимал он и раньше!» Рецепт от какой совести получил студент? От той, большой и страшной, за которой и чужое страдание, и чужая неустроенность. От Человеческой, с большой буквы, совести. Кто-то из его приятелей отмечал в Васильеве этот человеческий талант — «отражать в своей душе чужую боль». А какая же совесть пробудилась в нем при выходе от доктора? Та самая, «обывательская», уже знакомая нам по рассказу «Неприятность». Доктору Овчинникову было стыдно впускать «в свой личный вопрос» посторонних людей. Студенту Васильеву совестно перед приятелями и Михаилом Сергеевичем за проявленные откровенные мысли и чувства. Совесть, вполне приемлемая в той обывательской среде, где мирно и без припадков уживаются и студенты, и проститутки, и фельдшеры, и врачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ее раз сформулируем основные причины пробуждения совести чеховских персонажей, включив сюда же и крайние проявления абсолютной совестливости и бессовестности. А также предложим своего рода типизацию героев рассказов Чехова, исходя из этих же проявлений. В качестве «крайних полюсов» будут взяты характеры Аксиньи («В овраге) и Васильева («Припадок»).
Отсутствие совести у Аксиньи — следствие ее нечеловеческой натуры. На это прямо указывает портрет — сравнение с гадюкой — и название рассказа. Именно в оврагах и водятся на Руси ядовитые змеи, там же скрываются и более крупные хищники. «На дне» у Горького живут люди, доведенные обществом почти до скотского состояния. «В овраге» у Чехова отвоевывает себе территорию животное, принявшее людскую личину. Категория совести отсутствует у животных. Но при определенных обстоятельствах советь может пробудиться и в самой очерствелом человеческом сердце.
На самом низшем, но человеческом уровне «зачаточной совести» пребывают у Чехова те, кого намертво засосало болото обыденности и пошлости (охотники из рассказа «29 июня»). Болото, в котором совесть как «рулевой человеческой свободы» бессильна из-за духовного застоя.
Вывести человека из этого застоя способно внезапное, часто критическое внешнее воздействие: немотивированное избиение подчиненного («Неприятность»), гибель ребенка («Именины»), смерть близкого человека («Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда»), в единичном случае — более сложное сплетение собственной судьбы с судьбами заключенных в сумасшедшем дома («Палата № 6»).
Вторым важнейшим способом является напряженная работа мысли («Огни»). Иногда обе причины действуют параллельно, чаще последовательно: сначала всплеск эмоции, затем попытка ума обуздать эти эмоции, затем — окончательное пробуждение (или усыпление) совести.
Пример сверхобостренной совести (Васильев в рассказе «Припадок») также рисуется на фоне мыслительной работы, но уже в обратном порядке: от более или менее хладнокровной оценки происходящего, через нарастающую экзальтацию к вынужденному эмоциональному отступлению под воздействием все того же разума, борющегося уже за собственную безопасность. По предложенной шкале Васильев занимает по отношению к Аксинье прямо противоположное место. Аксинья — еще не человек, Васильев в минуты экзальтации поднимается над обычным человеком, он близок к святому.
И все же Чехову интересней исследовать характеры тех, чья душа борется со сном, чья совесть «налегает на руль», чтобы перебороть однообразное течение жизни. Нравственная категория, «позволяющая безошибочно отличить дурное от доброго» для доктора Рагина, для инженера Ананьева, даже для гробовщика Якова не есть интуитивный позыв. Им нужно переосмыслить ситуацию или, как минимум, обозначить для самих себя пределы вопросов, возникших как следствие пробуждения совести. А. Чудаков считает, что писатель преднамеренно ставил перед своими героями неразрешимые философские вопросы, прекрасно сознавая «принципиальную невозможность решения подобных вопросов в сфере чистого умозрения» (9, 40). Г. Бялый также отмечает, что «искусство… в глазах Чехова, было ценно не столько ответами, сколько вопросами». Возможно, непременным условием воздействия совести на душу и поступки у чеховских героев как раз и является неразрешенность некоторых важнейших вопросов. Пока вопрос не поставлен, пищи для совести нет.
С момента его постановки начинается работа разума, включающего совесть в активное сотрудничество. Но если ответ найден (Ананьев находит свою «болевую точку» и возвращается к Кисоньке, Васильев, спасая рассудок и саму жизнь, сдается психиатру) — совесть успокаивается. И дальнейшее становится неинтересным. Утомленный Ананьев сквозь сон ищет фотографии детишек (разумеется, не от Кисочки), и наутро занят делами стройки. Опустошенный Васильев «лениво плетется к университету».
И уж совсем жалким кажется нам безымянный «приятель» Чехова («Страх»), у которого не хватило ни времени, ни мужества на нечто большее, чем просто воскликнуть: «Зачем я это сделал?..».
Таким образом, допустив, что императив совести в произведениях Чехова имеет количественную и качественную степень, можно сделать вывод о том, что «количество» совести у героев чеховских рассказов прямо пропорционально их человечности. А «качество» совести — проделанной мыслительной работе.
1. Бердников Г. П. Чехов. Жизнь замечательных людей.
М.: Молодая гвардия, 1974. — 512 с.
2. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии // Берковский Н. Я.
Литература
и театр: Статьи разных лет.
— М.: Искусство, 1969. — С. 48−182.
3. Бялый Г. А. Чехов и русский реализм: Очерки. — Л.: Сов. писатель., 1981.—400 с.
4. Ермилов В. Чехов.М.: Молодая гвардия, 1946.- 445 с.
5. Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М.: Независимая газета, 2005. — 864 с.
6. Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 381−403.
7. Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М. Государственное издательство художественной литературы, 1964.— 235 с.
8. Толстая Е. Поэтика раздражения. М.: РГГУ. — 366 с.
9. Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. — 291 с.
10. Чуковский К. И. О Чехове. Человек и мастер. М.: Русский путь, 2008. 208 с.
Список литературы
- Бердников Г. П. Чехов. Жизнь замечательных людей.- М.: Молодая гвардия, 1974. -- 512 с.
- Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии // Берковский Н. Я. и театр: Статьи разных лет. — М.: Искусство, 1969. — С. 48−182.
- Бялый Г. А. Чехов и русский реализм: Очерки. — Л.: Сов. писатель., 1981.--400 с.
- Ермилов В. Чехов.М.: Молодая гвардия, 1946.- 445 с.
- Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М.: Независимая газета, 2005. — 864 с.
- Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.- С. 381−403.
- Толстая Е. Поэтика раздражения. М.: РГГУ. — 366 с.
- Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971. — 291 с.
- Чуковский К.И. О Чехове. Человек и мастер. М.: Русский путь, 2008.- 208 с.