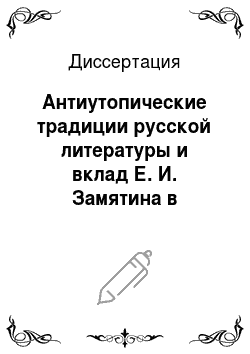XX век — век широкого распространения антиутопии. «Новой трилогией», образующей контрапункт с группой классических позитивных утопий, назвал Эрих Фромм романы «Мы» Евгения Замятина, «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. В этом списке антиутопистов-классиков Замятин не случайно занимает первое место. Его роман был написан в 1920 году, намного раньше других антиутопий, получивших впоследствии широкую известность, и своим появлением установил определенные каноны жанра. «Он породил целую мощную традицию, — пишет Олег Михайлов, — представление о которой дает простое перечисление имен и названий. Но главное для нас, что Замятин был первым» [52, 20 ]. Среди антиутопистов, творивших после Замятина, помимо уже упоминавшихся, можно выделить Владимира Набокова («Приглашение на казнь»), Рэя Брэдбери («451° по Фаренгейту»), Курта Воннегута («Утопия-14»), Энтони Берджеса («1985»), Владимира Войновича («Москва-2042»), Все они в большей или меньшей степени развивают те или иные мотивы замятинского романа.
Гораздо менее, чем о последователях Замятина в жанре антиутопии, прояснен вопрос о его предшественниках. С XX веком связывается только расцвет литературной антиутопии, но не ее появление. По замечанию философа Э. Я. Баталова, на фоне полного единодушия относительно классиков антиутопии — вопрос о ее первородстве остается открытым: «Историки литературы до сих пор не могут окончательно решить, когда именно появилась первая литературная антиутопия и кто из писателей был первым антиутопистом» [ 10, 274 ]. Не менее важен и вопрос о зарождении антиутопизма как явления: «Сама идея антиутопии значительно старше, — считает философ, — и я не уверен, рискнет ли кто-нибудь сейчас сказать, кто был первым ее выразителем» [ 10, 267 ]. Ситуация, когда писатель, не будучи родоначальником антиутопического жанра, в силу каких-то причин становится его первым классиком. анализируется в настоящей работе. Делается попытка рассмотрения романа «Мы» в русле единой многовековой утопической традиции, включающей как позитивную, так и негативную утопию, целостного и всестороннего подхода к истокам замятинского антиутопизма. В этом состоит отличие данной работы от тех современных критических статей, в которых анализ романа также не замыкается на тексте, но произведение вводится в иной историко-литературный контекст, где «Мы» является точкой отсчета, а не этапом большого пути. Роман Замятина в сопоставлении с соответствующими произведениями западной литературы рассматривается А. Зверевым, П. Палиевским,.
В. Недошивиным, Э. Баталовым, Е. Панаско, В.Евсюковым. О таком контексте М. Павлова-Сильванская пишет: «В аккорде Замятин-Хаксли-Оруэлл особенно мощно и грозно прозвучали мотивы тоталитаризма и технократической угрозы. Они несколько приглушили собственные неповторимые темы Замятина, которые и сегодня для нас, соотечественников писателя, не менее важны, чем в 20-е гг.» [116, 260 ].
Внимание современной критики сосредотачивается, в основном, на непосредственных истоках антиутопии Замятина: его полемике с футуризмом и пролеткультом (Л.Долгополов, И. Доронченков), некоторых чертах российской послеоктябрьской действительности, давших пищу для романа «Мы» (В.Лакшин), пребывании Замятина в поразившей его и изменившей его творческий почерк Англии (О.Михайлов, И. Шайтанов, Т. Давыдова). Значительно меньше внимания уделяется тому обстоятельству, что русский писатель строит свое общество по образцу, задуманному классиками утопической мысли, доводит до логического завершения принципы, лежащие в основании устройства наиболее известных государств, спроектированных утопистами. На то, что спор с пролеткультом на самом деле является лишь частным проявлением полемики глобального масштаба с давным-давно зародившимися идеями, пунктирно указывают в своих работах М. Павлова-Сильванская,.
Э.Баталов, В.Чаликова. Так же, не очень подробно останавливаясь на этом вопросе, исследователи отмечают смысловую перекличку романа «Мы» с общим идейным пафосом творчества Ф. М. Достоевского, подготовившего почву для появления русской литературной антиутопии (О.Михайлов, Э. Баталов, В. Туниманов, американец Г. Морсон). Этим объясняется актуальность и научная новизна настоящей работы: от анализа отдельных проблем, связанных с появлением у Евгения Замятина замысла романа-антиутопии и его реализацией, совершается переход к обоснованию цельной концепции формирования антиутопической жанровой системы и определению места, занимаемого в ней романом «Мы" — исследуются предпосылки появления и широкого распространения антиутопических произведений, а также мировоззренческие особенности, присущие их создателям, обуславливающие возможность обращения к жанру антиутопии.
Цель работы: выяснить, насколько правомерно говорить о наличии антиутопических традиций в русской и мировой литературе до появления романа «Мы», определить, почему именно его появление ознаменовало собой новый этап в развитии антиутопизма, а его автор был признан первым классиком жанранайти не непосредственные, а глубинные истоки замятинского антиутопизма.
Задачи: исследовать феномен утопического сознания как фактора, порождающего в конечном счете позитивную утопию, опирающуюся на идею государственностиразграничить такие понятия, как «утопия» и «тоталитаризм», при этом продемонстрировать, что пересечение их в итоге неизбежнодать свой ответ на вопросы о появлении антиутопизма как явления и о месте и времени рождения первой литературной антиутопиирассмотреть качественно новый вид антиутопизма, реализовавшийся в творчестве Ф. М. Достоевского, показать преемственность между идеями, заложенными в роман «Мы» и общим пафосом творчества Достоевскоговвести понятие метажанра, соединяющего воедино утопию и антиутопию, и рассмотреть «Сон смешного человека» как модель метаутопииразграничить сатиру и антиутопиюподчеркнуть существенные особенности антирационализма Е. И. Замятина и понимания им «утопического" — выяснить, в какой мере творческая манера Замятина толкнула его на создание антиутопиипоказать сложную структуру замятинского антиутопизма, вырастающего из неприятия писателем состояния энтропиипродемонстрировать несовместимость классического антиутопизма с верой в окончание исторического процесса и в наличие цели мирового развитияфилософски обосновать приемлемость антиутопизма как мировоззрения и несовместимость утопизма и истинного гуманизма.
Подходом, при котором произведение, являющееся нитью, связывающей в единое целое отдельные части работы, вводится в широкий историко-литературный контекст, обусловлена методология исследования: сочетание историко-литературного и структурно-типологического принципов анализа.
Практическое значение: результаты диссертации могут быть использованы при составлении вузовского лекционного курса истории русской литературы 2-ой половины XIX века и XX века, спецкурсов и спецсеминаров по творчеству Ф. М. Достоевского и Е. И. Замятина, а также по истории русской и мировой утопической (как негативной, так и позитивной) традиции.
Отправной точкой предлагаемого исследования является проблема жанра. Что следует считать утопией и почему против нее в определенный момент вдруг приходится бунтовать? Почему в массовом сознании утопизм ассоциируется с маниловщиной? По каким причинам утопия и регламентированное бытие становятся почти синонимами? Что вызывает к жизни ориентацию одного человека или группы людей в своем мышлении и поведении на факторы, которые в реальном, современном им бытии не содержатся? Для ответа на эти вопросы и объяснения феномена утопического сознания, то есть такого, которое не находится в соответствии с окружающим его бытием, необходимо ввести такую категорию, как «счастье», более относящуюся к ведению этики и психологии, нежели литературоведения. Стремление к обретению счастья есть неотъемлемое свойство человеческой натуры. Аристотель, рассуждая о том, что такое «высшее благо», пришел к следующему выводу, при наличии у человека нескольких целей искомым благом будет самая совершенная из них: «Цель, которую преследуют саму по себе, мы считаем более совершенной, чем та, к которой стремятся как к средству для другого., а безусловно совершенной называем цель, избираемую всегда саму по себе и никогда как средство. Принято считать, что прежде всего такой целью является счастье. Ведь его мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого, в то время как почет, удовольствие, ум и всякая добродетель избираются как ради них самих., так и ради счастья, ибо они представляются нам средствами к достижению счастья. Счастье же никто не избирает ни ради этих благ, ни ради чего-то другого. Итак, счастье как цель действий — это, очевидно, нечто совершенное, полное, конечное и самодостаточное» [ 6, 62−63 ]. Для Аристотеля не существует учения о счастье индивида отдельно от учения о благе государства, поэтому между человеческим счастьем и тем, как должно строиться человеческое объединение, он устанавливает тесную связь. На первых страницах «Никомаховой этики» философ прямо указывает, что вопрос о счастье находится в ведении науки о государстве: «Надо, видимо, признать, что оно высшее благо относится к ведению важнейшей науки, т. е. науки, которая главным образом управляет. А такой представляется наука о государстве, или политика» [ 6, 55 ]. Декларируя возможность достижения людьми «высшего блага» (счастья) исключительно при помощи государства, Аристотель развивает одну из основных мыслей своего учителя — Платона. По Платону, совершенство человека достигается через истинное знание о сущем и добродетельное поведениепервое постигается при помощи философии, второе — при помощи практического искусства, «выправляющего деяния и направляющего души к счастью» [ 72, 52 ], т. е. политики. Философия и политика в их единстве дают и искомое знание, и искомое поведение. По этой причине должно существовать некое идеальное человеческое объединение, которого нет в действительности, но к которому нужно стремиться в идеале: «Должен возникнуть иной град, не такой как эти (существующие) города. В нем и в подобных ему будет существовать истинная справедливость и только истинное добро» [ 72, 52 ]. Социально-политическая философия Платона являет собой первую по времени из дошедших до нас апологий утопизма, порожденного индивидуальным сознанием. Только такой вид утопизма ведет, на наш взгляд, к созданию целостной утопии, а впоследствии способствует и появлению антиутопии.
За рамками нашего исследования остаются проекты, связанные с народным утопическим сознанием, рождающим предания об идеальном жизнеустройстве. Академик В. П. Волгин, изучавший генезис социально-утопических идей и историю зарождения легенд о «золотом веке», пришел к выводу: «По-видимому, идея некоего блаженного состояния в прошлом возникает в известный момент общественного развития у всех народов. Она явным образом связана с возникновением общественных классов, с первыми шагами общественной дифференциации. Страдания, которые осознаются как результат чего-то нового, вторгшегося в общественную жизнь и разрушающего исконный старый порядок, в первую очередь вызывают идеализацию этого порядка» [ 156, 16 ]. Кроме преданий о «золотом веке» К. В. Чистов в книге «Русские народные социально-утопические легенды» выделяет еще два типа социально-утопических легенд: о «далеких землях» и об «избавителях». В легендах о «далеких землях» социально-утопические идеи проецируются за географические пределы известного мира, а в легендах об «избавителях» социально-утопический идеал еще не воплощен в действительность, однако сила, которой предназначено реализовать это воплощение -«избавитель» — уже существует.
Все эти проекты мы выносим за рамки утопического жанра. Более всего не соответствуют его канонам легенды об «избавителях», ибо утопия предназначена описывать близкое к идеальному общество, а не рассказывать о той или иной личности, которая только собирается изменить существующий жизненный уклад. Предания о «золотом веке» и рассказы о «далеких землях» рисуют вольную, сытую, благополучную жизнь людей, и все-таки причислены к утопиям быть не могут. Дело в том, что подобные представления имеют не столько социальный, сколько бытовой и экономический характер. Так, «золотой век» рисовался временем изобилия прежде всего потому, что природа была щедрее к человеку. Отсюда — предания о невероятных богатствах земли в прошлом. Такими же в общих чертах предстают в народных социально-утопических легендах и «далекие земли». Они либо являются местом сплошного отдыха, как страна Кокейн, созданная воображением народов Западной Европы, либо «мужицким раем», местом, где отсутствует всякая государственная организация и над равными тружениками никакой власти нет, как широко известное в России Беловодье. «Именно тяжкий труд, — по мнению В. Чаликовой, — с древних времен породил мечту о блаженном безделье, и люди готовы были умереть за эту мечту (и убивать тоже!)» [ 146, 11 ]. Но для нас обязательной применительно к утопии представляется идея государственности, отсутствующая в подобных легендах. По этой причине мы выносим за рамки жанра все, что связано с народным утопическим сознанием, в том числе и восходящие к нему проекты, имеющие конкретных авторов.
Однако, необходимо отметить влияние, которое народное утопическое сознание оказало на проекты известнейших утопистов. Хотя они и являются продуктами теоретического утопического сознания, относящегося, по словам М. Золотоносова, к систематизированному знанию, но тем не менее заимствуют либо идею преданий о «золотом веке», который авторы по своему усмотрению помещают или в прошлое, или в будущее, либо идею легенд о «далеких землях». Не случайно в утопических проектах идеальное государство зачастую расположено на острове или отделено от окружающего мира искусственно созданной преградой. «Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, — пишет Чистов, — свойственен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлениям об острове, на который переселяются души умерших предков, либо первоначально — к представлению о параллельном существовании двух, трех и более миров, которые эпизодически сообщаются друг с другом. В дальнейшем своем развитии представление об острове-другом мире в ряде случаев дает материал для поэтического оформления социально-утопических учений» [ 156, 256 ]. Строить государство по некоему образцу, ничего общего с современным автору жизненным укладом не имеющему, удобнее в изолированном от внешнего мира месте, выключенном из сферы действия дурных социальных закономерностей. В частности, Платон не только обосновал предпочтительность островной модели идеального государства, но и трижды отправлялся на Сицилию к тирану Дионисию в надежде реализовать свои утопические идеи. Все эти поездки были сопряжены с риском для жизни и заканчивались для греческого философа плачевно, тем не менее он все равно пытался воплотить в жизнь свой план переустройства общества именно на острове. Моровский же Утоп, основатель страны Утопии, «распорядился прорыть пятнадцать миль, на протяжении которых страна прилегала к материку, и провел море вокруг земли» [ 144, 78 ], превратив таким образом полуостров в остров.
Расшифровка термина «утопия» существует двоякая: либо «место, которого нет» от греческого «и» — нет и «topos» — место, либо совершенное место, страна совершенства" от греческого «ей» -совершенный, лучший и «topos». Если совместить оба эти значения, то получится, что жанр утопии предполагает описание наилучшего места, которого на самом деле не существует. У нас в стране закрепилось понимание утопии как неосуществимого мечтания, чему способствовало следующее определение, данное Лениным: «Утопия в политике есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии, — пожелание, которое не опирается на общественные силы и которое никак не подкрепляется ростом, развитием политических, классовых сил» [ 144, 5 ]. Однако, вряд ли кто-либо из утопистов согласился с тем, что практическая реализация его проекта невозможна. Неосуществимость утопии — вовсе не определяющая ее черта. Проект идеального общества совсем не предполагает недостижимость описываемого государственного устройства.
Обратимся к толкованию, данному понятию «утопизм» русским философом Г. Флоровским: «Под этим именем мы разумеем всякую веру в возможность последних слов, в возможность имманентной исторической удачи, окончательной и предельной, хотя бы и только частичной, но такой, которая не требовала и не допускала дальнейших перемен в лучшую сторону. Безразлично, куда во времени относится действительное осуществление этого беспорочного общественного строя, — в невозвратное прошлое, в отдаленное или уже надвинувшееся будущее, или оно признается уже достигнутым в современности. Решающее значение принадлежит здесь самой формальной вере в осуществимость земного града, в эмпирическую достижимость совершенства в социальном строительстве» [ 148, 25 ]. В соответствии с таким пониманием проблемы мы принимаем за основу следующее определение утопии, данное американским специалистом Л. Сарджентом: «Утопияэто подробное и последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и пространстве общества, построенного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы и организованного — как на уровне институтов, так и человеческих отношений — совершеннее, чем-то общество, в котором живет автор» [ 146, 8 ]. Сарджент несколько раздвигает границы жанра, относя к утопии системные описания обществ, не только идеальных с точки зрения их создателей, но еще и близких к идеалу, в том случае, если они кардинально отличаются от обществ, существующих в действительности в момент проектирования утопии. Таким образом, представляется возможность выделения разных видов антиутопизма, в зависимости от объекта, подвергаемого критическому рассмотрению. Объектами полемики могут быть как ориентация на достижение идеала в социальном строительстве, так и попытка создания кардинально отличающегося от современных автору проекта государства, близкого к положительному абсолюту.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Среди наших соотечественников одним из последователей Замятина в жанре антиутопии стал Владимир Набоков. Ни в коей мере не ориентируясь на замятинское творчество, заявив в одном из интервью, что роман «Мы» его не интересует, Набоков тем не менее в своих русскоязычных произведениях постоянно обращается к одному из его основных мотивов. Его интересует проблема равенства, понимаемого как тождество друг другу усредненных индивидуумов.
Герой романа «Отчаянье» Герман верит в грядущее единообразие граждан и пытается подтвердить возможность существования двух одинаковых людей, которая должна послужить прообразом будущей всеобщей идентичности, при помощи эксперимента. В первый раз увидев в предместье Праги спящего Феликса, Герман отметил: этот человек «особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо: у нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности» [105, 341]. «Это разительное физическое подобие, — записывает герой, — вероятно казалось мне (подсознательно) залогом того идеального подобия, которое соединит людей в будущем бесклассовом обществе. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, как Герман и Феликс, -мир Геликсов и Ферманов, — мир, где рабочего, павшего у станка, заменит тотчас, с невозмутимой социальной улыбкой, его совершенный двойник» [105, 428−429]. Свои идеи герой излагает в книге, которую планирует послать в СССР, поскольку надеется, «что коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов» [ 105, 344 ], а он в своем трактате «выразил иные мысли, которые вполне соответствуют диалектическим требованиям текущего момента» [105, 428].
Герман убивает похожего на себя человека не потому, что хочет кардинально переменить свою жизнь, просто, как он утверждает, «жизнь только портила мне двойника» [105, 341]. Здесь внешнее сходство не только двигатель сюжета и средство для закручивания интриги. Возможность тождества индивидуумов — основная проблема романа. Цель автора — продемонстрировать несостоятельность взглядов Германа, поэтому и раскрывается его преступление с такой легкостью, и сходство убитого и убийцы никого не вводит в заблуждение.
В романе Набокова «Подвиг» герои — Мартын и Соня — выдумывают страну, куда вход простым смертным запрещен. Это страна не счастья и благополучия, а воплотившегося в жизнь тоталитаризма. Поводом к ее придумыванию послужило воспоминание о членах тайного союза, нелегально пробиравшихся в Россию для борьбы с большевизмом. В Зоорландии (так называется эта страна) существует равенство головвсем жителям надо бриться наголоветер там признан благой силой, ибо ратуя за равенство, он не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. «Искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно» [104, 256]. Вновь антиутопический по своей сути мотив идентификации граждан, растительности, архитектуры, ландшафта связывается с размышлениями о новой России, являющейся прообразом отгородившейся от внешнего мира Зоорландии. Антиутопизм Набокова явно тяготеет к российской тематике. Новая Россия для него — страна реализовавшейся утопии, несовместимой с гуманизмом.
Наиболее точно вписывается в рамки антиутопии роман Набокова «Приглашение на казнь», в котором одинаковость граждан законодательно оформленная норма, отступление от которой жестоко карается. В нем Набоков использует еще один мотив романа «Мы» -прозрачности-непрозрачности, связанный с возможностью контроля за умами и поведением граждан.
У Замятина люди живут в прозрачных домах, поскольку в Едином Государстве не должно существовать ничего, что бы его граждане имели право скрывать друг от другак тому же это облегчает труд Хранителей. У Набокова непрозрачность — физический недостаток Цинцината. Человек не открыт для всех, его непроницаемость в контексте романа выступает показателем духовной глубины личности. Поскольку Цинцината довольно трудно измерить и исчислить, он должен быть истреблен. Девизом общества, описанного в романе, можно считать слова, которые герой прочитал на стене в тюремной камере: «Смерьте до смерти, — потом будет поздно» [106, 14]. Смысл их, как выясняется позже, в том, что государство должно проникнуть в душу каждого, даже приговоренного к казни. Палач мсье Пьер, встречавшийся с Цинцинатом под видом арестанта, заявляет: «Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцината так же известно мне, как и строение его шеи» [106, 101].
Некоторые точки соприкосновения с романом «Мы» отмечают, в частности, А. Урбан и А. Зверев в «Чевенгуре» Андрея Платонова. В школьной практике в последние годы довольно широкое распространение получило сопоставительное изучение данных произведений. Это, наверное, справедливо, поскольку для беседы о романе «Мы» трудно найти более удобное время. Однако необходимо помнить, что в романе Платонова нет однозначного негативного изображения утопического мира, характерного для Замятина, поэтому жанровая структура «Чевенгура» по сравнению с «Мы» сложнее. Это скорее метаутопия, считает Г. Морсон, нежели антиутопия. К тому же, если Замятин пародирует утопические мотивы, базирующиеся на идее государственности, то «Чевенгур» обнаруживает целый ряд черт, напоминающих широко известные со времен Античности представления о счастливом первобытном состоянии человечества, о «золотом веке». Они возникают, в частности, в стихах: «Буржуя нету, так будет трудопять у мужика гужа на шее. Долой земные бедные труды, земля задаром даст нам пропитанье» [122, 137]. Если у Замятина труднеизбежная обязанность каждого гражданина, то в «Чевенгуре» отмена труда обосновывается тем, что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению. Степень обобщений у двух авторов тоже совершенно разная: если роман «Мы» символичен, то у Платонова повествование держится сугубо на реалиях послереволюционной России. Замятинской абстрактности и механистичности противостоит хаотический чевенгурский коммунизм, враждебный науке и технике, своего рода примитивное первобытное состояние, лишенное идиллических черт «золотого века».
Наиболее же видными последователями Замятина были Олдос Хаксли с антиутопией «О дивный, новый мир» и Джордж Оруэлл со своим «1984». Произведение Хаксли не является чем-то уж очень оригинальным — слишком сильно в нем многие вещи похожи на замятинские. И с трудом верится в истинность слов Хаксли, заявившего в 1962;м году, что он познакомился с романом Замятина лишь 3−4 года назадскорее создается впечатление, что именно у Замятина он позаимствовал свои главные темы. Нового он придумал лишь деление всех людей на касты — эпсилоны, дельты и альфы, — которое ведется с детских лет за счет выработки у детей разных каст соответствующих рефлексов.
В масштабе глобального противостояния утопии и антиутопии это очередной ответ Платону, видевшему высшую справедливость в том, что каждому гражданину государства отводится особое занятие и положение в соответствии с его наклонностями и природными задатками: одни рождены править, другие — защищать государство, третьи — снабжать граждан продуктами. Переходы из одной социальной группы в другую Платоном практически не допускаются. Хаксли основное свое внимание сосредотачивает на угрозе технократии, но и это развивает один из мотивов романа «Мы», поскольку тейлоризм со своим обезличивающим конвейерным производством для Замятина такой же объект отрицания, как и тоталитарное государство. Остальное — Девятилетняя война, бездумные удовольствия, заповедник для дикарей, Бог Форд (или Фрейд, как его иногда называют), пренебрежение по отношению к человеческой личности, существование должности Хранителя, спор
Главноуправляющего Мустафы Монда с Дикарем — имеет совершенно явные аналогии с антиутопией Замятина. Некоторые цитаты, скажем, Директора: «Убийство означает гибель особи — а, собственно, что для нас одна особь. Мы с величайшей легкостью можем сотворить сколько угодно новых. Нарушение же принятых норм ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какой-то особи, — наносит удар всему Обществу» [55, 269−270], — или Главноуправляющего: «.люди так сформированы, что попросту не могут иначе поступать, чем от них требуется"[55, 334] - явно перекликаются с рассуждениями 0−503 и Благодетеля. А Дикарь — это та же самая 1−330, только другого пола. Он тоже не знает удержу в своем стремлении быть свободным и отстаивать право «быть несчастным., право на старость, уродство, бессилиеправо на сифилис и ракправо на недоеданиеправо на вшивость и тифправо жить в вечном страхе перед завтрашним днем» [55, 336].
В негативной же утопии Джорджа Оруэлла картины жизни отличаются особым ужасом, потому что образу сытого раба Оруэлл противопоставил более естественный образ — раба голодного. «1984″ -классический образец дистопии. Естественно, Джорджу Оруэллу было намного легче создавать свой проект, чем Замятину: во-первых, он был знаком с романом „Мы“, этого факта, в отличие от Хаксли, не скрывал, и даже написал на него рецензиюво-вторых, он знал не только о коммунистическом терроре, но и видел фашизм и решил, что тех, кто жил при одном из двух этих страшных режимов, общество, спроектированное Замятиным, вряд ли испугает. Поэтому и произведение его по сравнению с „Мы“ получилось острее, злее. Оруэлл, взяв кое-что у Замятина, довел напряжение до высшей точки. Контроль за умами увенчан наличием в каждом доме следящего за хозяином телеэкранаОкеания постоянно воюет — то с Евразией, то с Остазиейокна повсюду залатаны картоном, везде дыры от бомбежекв кино крутят лишь военные фильмырегулярно проводятся пятиминутки ненавистипринципиально по-новому решен сексуальный вопрос — партия не стремится к тому, чтобы потомство жителей было здоровым, а если, не дай Бог, будущие супруги подходят друг другу, в разрешении на брак им отказываетсяпартия стремится, если уж нельзя искоренить инстинкт влечения, то хотя бы запачкать егополиция мыслей раскрывает случаи двоемыслиялюди арестовываются по ночам, исчезают, распыляются, и никто о них не вспоминаетспециальное место отводится описанию новояза-языка-урода, на котором разговаривают жители Океании, призванного убрать любую коннотацию, полного противных словечек типа „яйцевать“, „хвостистски“, „убежденец“. Одним из ключевых мест книги является монолог О’Брайена, отвечающего на свой же вопрос: „Зачем партия держится за власть?“ Главное в том, что ОБрайен не витийствует, как Благодетель или Мустафа Монд, не пускается в философские рассуждения о роли тех, кто на кресте и кто под крестом, о счастье, свободе и насилии, а отвечает в лоб, с партийной прямотой: „Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть, чистая власть. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Власть не средствоона — цель. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть“ [113, 206]. Думается, что эти слова могут служить логическим завершением тех принципов государственного устройства, о которых поведали нам классики утопической мысли. Действительно, в государстве Оруэлла имеются и платоновская слежка, и контроль за умами, и моровские войны, и отсутствие материальной заинтересованности в труде, и несменяемость верховного правления, и платоновско-кампанелловское детоводство. Почему же Оруэлл убедительнее, и верится, что такие принципы государственного устройства скорее приведут к описанному у него голодному бесправию, чем к утопическому изобилию материальных благ и расцвету личности? Дело в том, что антиутописты не ограничиваются теоретическими построениями, а, показывая жизнь общества через жизнь конкретного человека, гораздо глубже подходят к вопросу влияния государственного устройства на личность. По словам Р. Гальцевой и И. Роднянской, у Оруэлла и Замятина утопический мир разоблачается „изнутри“, через чувства его единичного обитателя, претерпевающего на себе его законы и поставленного перед нами в качестве ближнего» [31, 198].
Утопия социоцентрична, как следствие — множество несообразностей в проектах Мора и Кампанеллы. Изобилие материальных благ на основе простого физического труда, к тому же ограниченного у Мора шестью часами, а у Кампанеллы — всего четырьмя часами в сутки, — вещь крайне сомнительная. Еще более сомнительной она становится оттого, что труд никак не оплачивается, и изобилие является просто результатом соревнования в работе.
Принцип распределения продуктов у Мора крайне наивен: все свозится на общественные рынки, откуда главы семейств разбирают все необходимое для своих родственников без денег. Отец семейства уносит с рынка все, что ни попросит. «Да и зачем ему отказывать в чем-либо? -спрашивает Мор. — Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка?» [144, 89] Вот так все просто разрешается на бумаге, хотя, если вдуматься, то нетрудно заметить, что человеческую природу Мор совершенно не учитывает, отсюда и мнимая легкость распределения, при котором все всего получают поровну, но никто ничего сверх этого не желает.
В командном порядке люди в Утопии перемещаются из семьи в семью, из города в город, но никаких трений и разногласий, как это ни странно, никогда не возникает. Желая быть добросовестным, Мор сам выдвигает ряд суждений, направленных против государственного устройства Утопии, чтобы затем убедительно их опровергнуть. «Никогда нельзя жить богато там, где все общее, — говорит повествователь путешественнику Рафаилу Гитлодею, в уста которого вложен рассказ об Утопии. — Каким образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на личную прибыль, а, с другой стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? А когда людей будет подстрекать недостаток в продуктах и никакой закон не сможет охранять как личную собственность приобретенное каждым, то не будут ли тогда люди по необходимости страдать от постоянных кровопролитий и беспорядков?» [144, 75] Но как раз опровергнуть эти свои утверждения и ответить на собой же поставленные вопросы Мору не удается: вместо контраргументов следуют лишь декларативные заявления, что все дела обстоят не так, а иначе.
Антиутопия же антропоцентрична, и в этом ее несомненное преимущество, в том числе и с точки зрения художественных достоинств.
С.Кьеркегор вообще не относил утопию к сфере искусства, считая, что с эстетической точки зрения нет концепции более скучной и бесцветной, чем вечное блаженство. Это очередное подтверждение тезиса, что все лучшее в утопической литературе создано в жанре дистопии и антиутопии.
Подведем некоторые итоги нашего исследования. Антиутопия существовала до романа «Мы» не только на Западе, но и в России, однако развенчивала она лишь вполне конкретные утопические представления. С другой стороны, атака на утопическую установку вообще, на саму идею достижения совершенства в социальном строительстве, предпринятая Ф. М. Достоевским, К. Н. Леонтьевым, П. Н. Новгородцевым, так и не вылилась в создание литературной антиутопии. Замятин первым не просто философски выступил против утопизма, но сделал это в рамках антиутопического произведения, соединив тем самым литературную антиутопию с представлениями об ущербности любого общественного идеала. Это обстоятельство наряду с моментом создания романа «Мы» сделало Замятина первым антиутопистом-классиком.
Замятин пришел к социальной фантастике через ломку своей творческой манеры, через поиск новых путей в литературе. Переход от реализма к синтетизму во многом способствовал рождению антиутопии. Современники писателя в большинстве своем не приняли ее не только по идейно-политическим соображениям. Новая техника художественной прозы осталась непонятой даже кое-кем из слушателей литературной студии Дома Искусств, посещавших лекции Замятина. Один из «серапионовых братьев», К. Федин, написал впоследствии о своем учителе: «Он убедил себя и убеждал других, что вынужден молчать, потому что ему не позволено быть Свифтом, или Анатолем Франсом, или Аристофаном. А он был превосходным бытовиком, его пристрастие к сатире было запущенной болезнью, и, если бы он дал волю тому, чем его щедро наделила родная Тамбовская Лебедянь, и сдержал бы то, что благоприобрел от далекого Лондона, он поборол бы и другую свою болезнь — формальную изысканность, таящую в себе угрозу бесплодия. Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивает сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском экране. Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему недоставало, может быть, только простоты» [147, 77−78].
Удивительно, что подобную характеристику замятинского таланта О. Михайлов называет «тонкой», «точной», «доброжелательной» и «объективной». Реально в ней творчество писателя предстает выхолощенным и приземленным, а его главная составляющая стремление «от быта к бытию» — выступает чуждой характеру замятинских произведений английской болезнью, испортившей русского художника. Именно синтетический творческий метод помог антиэнтропийному мировоззрению писателя вылиться в антиутопический, а не просто сатирический роман. Рождению этого метода сильно поспособствовали английские впечатления Замятина, привнесшие в его творчество «европеизм», против чего выступили Горький и Федин, принимавшие лишь те произведения писателя, которые были выдержаны в лесковско-ремизовских традициях. Напротив, сам Замятин, готовивший в 1928;м году материал для «Собрания сочинений», больше всего изменений сделал как раз в дореволюционных «русских» повестях «На куличиках» и «Алатырь» («в „Алатыре“, например, все поля были изукрашены знаками от перестановки слов») [54, 547], а также в «Блохе» -«опыте воссоздания русской народной комедии» [54, 401]. В письме Сталину Замятин вообще был категоричен: «Если обстоятельствами я буду приведен к невозможности (надеюсь временной) быть русским писателем — может быть мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более, что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть „Островитяне“ и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски») [54, 626].
Несмотря на то, что некоторые проявления российской действительности нашли в антиутопии Замятина свое отражение, его роман полемичен прежде всего по отношению к утопической классике. Единое Государство восходит теми или иными сторонами своего устройства к представлениям Платона, Мора и прочих утопистов об общественном идеале. М. С. Восленский ссуммировал основные черты таких представлений: «Это прежде всего, конечно же, „разумное“ и „справедливое“, но непременно твердое управление обществом с жесткой регламентацией всей его жизни. Это, далее, обобществление, а то и прямое огосударствление всех имеющихся в обществе богатств — или же просто производимый администрацией их раздел между членами общества. Это, наконец, возможно более полный коллективизм в обществесюда относятся все идеи о совместном жилище, общности жен, общественном воспитании детей и т. п. В целом же человек рассматривается не как неповторимая индивидуальность со своей собственной судьбой, а как человеко-единица, в соответствии с регламентом работающая, веселящаяся, негодующая и производящая потомство — все это под бдительным присмотром властей предержащих» [30,577−572]. Заслуга Замятина и других антиутопистов в том, что подобные представления были рассмотрены ими именно с точки зрения человеко-единиц, а не некой элиты, которая причисляет себя к их правителям и регламентаторам, «человеческое же поголовье созерцает деловитым оком животновода» [30, 572]. Утопические стремления к максимальному раскрепощению духовной жизни граждан неизбежно ведут к образованию номенклатурного слоя — тех самых «ста тысяч страдальцев, взявших на себя бремя познания добра и зла» [ 47, 236 ], но если утопистам подобная ситуация кажется вполне нормальной, то антиутопистам она представляется просто чудовищной.
Итак, несмотря на то, что утопические мечты о всеобщем благоденствии и счастье есть неотъемлемое свойство человеческой натуры, в итоге они ведут к тоталитаризму, и в этом вина не отдельных утопистов, а самого духа социального утопизма. Он, в отличие от христианства, видит возможность осуществления мечты о справедливости и счастье не в потустороннем, а в здешнем мире, связывая достижение рая на земле с кардинальными общественными преобразованиями. Однако после ряда социальных потрясений, повлекших за собой разочарование в коллективном разуме и социально-историческом прогрессе, в обществе наступает понимание того, что стремление к осуществлению утопий во имя достижения совершенства чревато варварством и насилием. «Конечно, — отмечает Э. Я. Баталов, -научно-технический прогресс был одним из тех факторов, которые способствовали кристаллизации антиутопии. Но он был опосредован радикальными социальными, политическими и в итоге циви-лизационными изменениями, которые произошли в первой половине XX века и были в первую очередь „ответственны“ за антиутопический бум в литературе» [10, 266]. В работе «Об общественном идеале» П. Н. Новгородцев написал: «Надо отказаться от мысли найти такое разрешительное слово, которое откроет абсолютную форму жизни и укажет средства осуществления земного рая. Надо отказаться от надежды в близком или отдаленном будущем достигнуть такой блаженной поры, которая могла бы явиться счастливым эпилогом пережитой ранее драмы, последней стадией и заключительным периодом истории.
Опыты XIX столетия подорвали веру в чудодейственную силу политических перемен, в их способность приносить с собой райское царство правды и добра" [109, 33].
Впрочем, общественные катаклизмы, подрывающие веру в возможность альтернативного мироустройства, в основание которого положены разум и справедливость, способствуют только расцвету антиутопической литературы. «Практический опыт подсказывает мне, -пишет Баталов, — что антиутопия рождается не только из духа кризиса, то есть имеет не только социально-политические, но и психологические корни» [10, 270]. В основе замятинского антиутопизма лежит именно психологическое неприятие совершенного мира: в нем нет страданий, мук и ошибок, при отсутствии которых человек становится человеко-единицей. Эту идею Замятин облек в законченную художественную форму и таким образом установил определенные каноны антиутопического жанра.
Во многом благодаря воздействию канонизированной Евгением Замятиным литературной традиции во второй половине XX века наметилась тенденция к деабсолютизации утопического идеала. В это время появляются такие термины, как «практопия», «умеренная утопия», относящиеся к произведениям, в которых идет речь не о совершенном обществе, а об отдельных улучшениях существующего. Утопия, ориентированная не на слом, а на реформирование, перестает быть утопией в строгом смысле этого термина. Если использовать классификацию Карла Поппера, то такой процесс можно охарактеризовать как постепенное вытеснение утопической социальной инженерии, требующей сначала определить конечную политическую цель или идеальное государство и лишь потом совершать практические действия, поэтапной социальной инженерией, не ищущей величайшее конечное благо, а разрабатывающей методы борьбы с наиболее тяжелыми социальными бедами. «Такие проекты, — отмечает философ, — содержат меньший риск и поэтому вызывают меньше лпоров. Поэтому прийти к разумному соглашению относительносуществующих зол и средств борьбы с ними легче, чем определить — бесспорное идеальное благо и приемлемые для всех пути его достижения» -[4−2^-, 201]. Метод все новых и новых общественных экспериментов, позволяющих выяснить, как вписать одни социальные институты в рамки, задаваемые другими социальными институтами, подтверждает тезис Замятина о неизбежности непрерывного обновления старых структур и возможности такого обновления без тяжелых последствий и насилия. Таким образом, опасность утопизма, отмеченная русскими художниками и мыслителями, со временем была осознана и многими представителями остального мира, что и сказалось на трансформации утопического жанра.