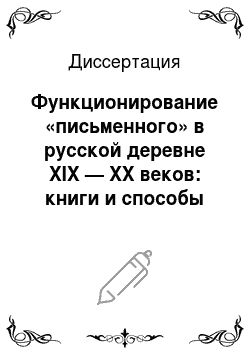Актуальность темы
исследования.
О книгах написаны сотни тысяч работ, о письменных текстах — так много, что страшно называть даже приблизительную цифру. Даже если не принимать во внимание сугубо историко-литературоведческие и филологические работы, связанные с исследованием текстов как таковых, для которых форма фиксации не имеет значения1, даже тогда мы останемся на берегу бескрайнего моря научной литературы. Целый круг наук и академических направлений (археография, социология чтения, история книги, антропология грамотности, этнография чтения и письма) декларируют в качестве своих главных задач исследование роли письменного текста в обществе, способов чтения, письма и отношения к ним, зависимости между использованием письменных текстов и существующими социальными институтами и практиками.
Подходы, сложившиеся в рамках этих направлений, являются различными векторами в изучении «письменного», зачастую не пересекающимися и развивающимися параллельно друг другу. Мой выбор подходов, и методов также в значительной степени определяется академической традицией — ориентацией на антропологические исследования, и субъективными факторами: доступностью литературы и сферой общения. Сама тема работы с неизбежностью требовала обращения к очень разным областям научного знания. В этом смысле исследования по антропологии грамотности оказали на меня не меньше влияния, чем работы по истории памяти и прагматике фольклора.
В центре внимания в этой работе находятся «воображаемые книги». Используя это выражение, я хочу одновременно и уберечь читателей от напрасных ожиданий анализа прагматики чтения и письма, и подчеркнуть главную особенность того явления, о котором пойдет речь ниже. «Воображаемая книга» — это книга, о которой нам известно только из фольклора. Она существует только за счет акта вербализации, и мы не сможем найти ее в каталогах библиотек. Функции «воображаемой книги» в сообществе определяются не ее предметными характеристи.
1 По сути дела, ассоциация литературоведения с науками, группирующимися вокруг исследования «письменного», основана на случайности. Ссылаясь на работу Р. Стаддарда, Р. Шартье подчеркивал существенное различие между изучением литературы и книг: «Авторы не пишут книги. Скорее, они пишут тексты, которые копируются, переписываются от руки, гравируются, печатаются или набираются на компьютере» (СЬаПюг 2002: 51). ками, включая материальные свойства и содержание, а самими целями воображения. Она является одним из инструментов конструирования социальной реальности: делает возможной концептуализацию границ группы, оказывается способом демонстрации авторитета в сообществе, позволяет интерпретировать те или иные процессы и явления. Средства и способы ее воображения2 напрямую зависят от средств, которые есть в арсенале культуры. «Воображаемая книга» — продукт коллективного воображения. Она существует постольку, поскольку сообщество считает ее существующей и в том виде, какой сообщество ей приписывает.
Естественно задаться вопросом о том, какие книги являются воображаемыми, а какие нет. Мой вариант ответа: все книги, которые оказываются предметом коллективного обсуждения, являются воображаемыми. Хотя это утверждение выглядит как банальный постмодернистский выпад, я исхожу далеко не из принципов новой литературной критики.
Представим человека, купившего в магазине книгу Н. Гоголя «Мертвые души». Представим, что этому человеку около 25 лет, он живет в Санкт-Петербурге, окончил здесь среднюю общеобразовательную школу № 55, затем поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, окончил его, и сейчас является аспирантом кафедры новейших вычислительных технологий. Представим, что этот молодой человек никогда не читал «Мертвые души» Н. Гоголя. Насколько это вероятно? Это очень вероятно, особенно с учетом того, что поэма входит в обязательную школьную программу по литературе. Значительная часть «классических» произведений, предназначенных для чтения на уроках литературы, не читается школьниками, или читается только частями. Поскольку наш молодой человек увлечен техническими науками, мы вполне можем допустить, что поэму «Мертвые души» он не читал. Теперь представим, что он ничего никогда о ней не слышал. Насколько это вероятно? Это совершенно невероятно. Человек, родившийся в СССР в 1980 г. и проживший в Санкт-Петербурге всю свою жизнь, не мог ничего не слышать о «Мертвых душах». Уже в детстве он, наверняка, видел театральные афиши с этим названием, и возможно спрашивал родителей о том, что значат эти слова. Может быть, он и сам видел.
2 В словосочетание «способы воображения» я вкладываю тот смысл, который обычно передается в английском языке выражением «the uses of». В русскоязычном тексте я, тем не менее, не могу написать «использование книги» или «способы использования книги», потому что этот оборот с неизбежностью вызывает ассоциации с прагматикой книги как материального предмета. В данном же случае речь идет о выдуманной и, с определенной точки зрения, не существующей книге. один из спектаклей или кинофильмов. Даже если он не читал поэму, она обсуждалась на школьных занятиях. Наконец, выражение «мертвые души» стало метафорой, нередко используемой в средствах массовой информации и в личном общении. Знание того, что такое «Мертвые души» Н. Гоголя, составляет часть обязательного знания современного образованного россиянина. Показательно, что вопрос о «чтении» здесь нерелевантен. Я помню, что меня спрашивали, читала ли я Апдайка, Буковски, даже Фаулза. Но меня никто и никогда не спрашивал, читала ли я Гоголя или Пушкина.
Представим другого молодого человека. Допустим, он закончил исторический факультет того же Санкт-Петебургского государственного университета и поступил на факультет этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Он закончил его и продолжает активную научную жизнь, общаясь с представителями академического сообщества. Обязательным знанием для него будут К. Леви-Стросс и Ю. М. Лотман, Б. Малиновский и К. Гирц. Если он считает себя образованным «антропологом» он должен реагировать на имена М. Мид и Р. Бенедикт, Л. Леви-Брюля и Э. Эванс-Притчарда3. Если он хочет представить себя как более тонкого и эрудированного исследователя, придерживающегося широких взглядов, он должен знать, что такое П. Бурдье и Ж. Деррида, Т. Адорно и А. Шюц. И т. д. и т. п. Но сколько людей из тех, кто оперирует этими именами, реально использует их в своей работе? Сколько из них читали исследования этих авторов? Совершенно очевидно, что далеко не все. Знание этих имен конвенционально, так же как знание о содержании книг, их применении, их оценке представителями тех или иных научных направлений и школ. Это знание приобретается человеком в процессе социализации вместе с другими практическими знаниями и навыками. Приобретенное из внешних (по отношению к самой книге) источников это знание очень часто предшествует самому акту чтения, а иногда заменяет его.
Представим третьего молодого человека. Он зашел в книжный магазин и бродит вдоль стеллажей в поисках чего-нибудь нового. Он берет книгу, имя автора и название которой никогда не слышал. Он покупает книгу и отправляется домой. Он читает ее вечерами в течение месяца, затем ставит на полку или забывает на работе. Возможно, эта книга показалась молодому человеку очень интересной и.
3 Прошу прощения за опущенные имена Моргана и Тайлора, Боаса и Клакхона, Кребера и Дюркгейма и многих многих других. при встрече со своим приятелем, он рассказывает о ней. Как он будет рассказывать? Ему придется воспользоваться теми способами рассказа о книгах, которые известны ему и его приятелю. Ему придется использовать ряд клише, может быть, сослаться на другие произведения, чтобы включить прочитанную книгу в какой-то уже известный собеседникам ряд, и объяснить, чем именно эта книга показалась ему интересной. Способ говорения о книгах также конвенционален и обусловлен существующими в сообществе моделями. Возможно этот приятель также прочитает книгу и расскажет о ней кому-то еще, и так далее, и так далее, пока не окажется, что приятели жили в XIX веке, а книга была сборником стихов А. С. Пушкина.
Но, возможно, первый читатель забудет о книге, или просто его приятель будет в отъезде. Возможно, читатель никогда и никому не расскажет о прочитанном. Может быть, в том сообществе, к которому принадлежит наш молодой человек, вообще не принято обсуждать книги. Тогда, вполне вероятно, содержание прочитанного забудется. Здесь мы очень близко подходим к вопросу об аналогиях между восприятием письменного текста и воспоминанием. Чтение во многом аналогично «событию» как части жизненного опыта человека. Более того, чтение можно рассматривать как проживаемое событие. В этом смысле результат чтения — восприятие текста — зависит от существующих в обществе конвенций воспоминания. Мы помним то, что принято помнить и так, как принято вспоминать. Здесь можно было бы сослаться на классические в области изучения памяти работы М. Хальбвакса, Ф. Бартлетта и П. Нора. Но едва ли эта ссылка будет корректной. Для них книги — это один из источников той информации, которая определяет социальную, культурную, историческую память. Для меня наоборот — социальная память определяет то, что вычитывается из книг. М. Хальбвакс пишет:
Например, я знаю, потому что мне об этом сказали и, если подумать, мне представляется несомненным, что был день, когда я впервые пошел в лицей. Однако у меня нет никаких личных и непосредственных воспоминаний об этом событии. Так, проучившись по очереди в нескольких школах и каждый год поступая в новый класс, я сохранил общее воспоминание обо всех этих возобновлениях занятий, включающее тот день, когда я впервые пошел в лицей. Таким образом, я не могу сказать, что помню этот день, но не могу сказать и то, что не помню его. К тому же историческое представление о моем поступлении в лицей не является абстрактным. Во-первых, с тех пор я прочел некоторое количество достоверных и вымышленных рассказов, в которых описываются впечатления ребенка, впервые приходящего в новый класс. Очень может быть, что, когда я их читал, мое личное воспоминание о схожих впечатлениях слилось с описанием в книге. Я помню эти описания, и, может быть, именно в них сохранилось все, что осталось от моего преобразованного таким образом впечатления, и именно по ним я его восстанавливаю, сам того не осознавая (Хальбвакс 2005: 18).
Говоря о восприятии текста, как об акте воспоминания, я предлагаю перевернуть логику Хальбвакса вверх ногами: пе только личное воспоминание о схожих впечатлениях сливается с описанием в книге, но и описанное в книгах воспринимается через призму личных и коллективных воспоминаний.
Так же как и любое другое «событие», прочитанное произведение может стать или не стать предметом воспоминаний (ср.: Kenny 1999). Мы помним только то, для чего в обществе существует язык памяти и предусмотрен контекст воспоминания. Только в этом случае события становятся «событиями» личных биографий, а прочитанное — частью «обязательного» знания в сообществе.
Я не вижу причин отличать читаемый текст от любого другого воспринимаемого текста — услышанного или увиденного. Если перефразировать знаменитое утверждение М. Хальбвакса, то оно может быть применимо и к области чтения: «Восприятие текста в весьма значительной мере является реконструкцией произведения при помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину"4. Точно так же как благодаря существованию коллективной памяти, человек может «помнить» события, в которых никогда не участвовал, он может знать и книги, которые никогда не читал. Точно так же как принято «проверять» собственную память о прошлом, принято «проверять» собственное воспоминание о прочитанном.
Еще один аспект, связанный с «воспоминаиием» и касающийся чтения — это т. наз. «сообщества памяти». Согласие группы в отношении определенных воспо.
4 В оригинале: «Воспоминание в весьма значительной мере является реконструкцией прошлого при помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину» (Хальбвакс 2005: 17) минаний отчасти затрагивается и в работе М. Хальбвакса, но основное развитие эта идея получает в исследованиях П. Нора. Воспоминания о тех или иных событиях являются частью коллективной памяти группы, а ритуалы памяти {commemoration rituals) позволяют группе «вспоминать» эти события. Память о тех или иных событиях становится маркером идентичности представителей группы. Но сообщество объединяет не только сам набор вспоминаемых событий, но и представление об их смысле. «Текстуальные сообщества», впервые описанные Б. Стоком (Stock 1983), являются наиболее яркими примерами групп, где представление о содержании и смысле читаемого текста является главным маркером группой идентичности и основным механизмом формирования самого сообщества. Но это явление наблюдается далеко не только в сектах вальдензианцев, о которых пишет Б. Сток. Отождествление себя с представителями той или иной группы очень часто предполагает разделение принятого в этой группе представления о смысле определенных текстов.
Память о прочитанном, язык и контекст воспоминания прочитанного, способы использования прочитанного и согласие группы в отношении смысла прочитанного — все это аспекты одного явления — социального восприятия текста. Понятие памяти, которое я использовала выше, возможно, не самое удачное в данном случае. Заимствованное из исследований по психологии, оно, несмотря на достаточно долгую жизнь в истории и антропологии, до сих пор остается только зыбкой метафорой. В исследованиях социальной памяти значительную роль играют такие понятия как государство, идеология и национализм, в непосредственном взаимодействии с которыми и формируется коллективная память. Для меня они оказываются на втором плане, хотя безусловно, что восприятие книжного текста также находится в зависимости от властных институций и системы авторитетов, сложившейся в обществе. Но властные отношения далеко не всегда связаны с государством. Контроль над интерпретацией текста может устанавливать церковь или лидеры общины. Тем не менее, механизмы адаптации письменного текста сообществом, которые мы можем увидеть через обращение к метафоре памяти, представляются мне очень важными.
Если мы допускаем, что знание содержания книг является социально обусловленным, то становится более понятной возможность такого различия общественных конвенций, при котором книги, существующие с точки зрения представителей одной группы, являются несуществующими с точки зрения членов другой. Такая перспектива позволяет нам обойтись без неизбежного в случае других подходов сведения различных фольклорных репрезентаций «книги» к особенностям крестьянского мифологического мировоззрения, противопоставленного современному и научному. Иными словами, убеждение в существовании «черной книги» с этой точки зрения ни чем не отличается от убеждения в существовании «Анны Карениной» Л. Н. Толстого. Их различия связаны с тем контекстом, в котором эти книги обсуждаются, вербальными средствами, которые используются для их описания, и теми социальными явлениями, институтами и практиками, которые определяют этот контекст и средства.
Если рассматривать книги как предметы социального воображения, то окажется, что мы далеко не всегда можем отождествить их с конкретными единицами в книгохранилищах. С одной стороны, далеко не все книги оказываются в центре коллективного обсуждения и становятся частью «коллективной памяти» или общего коллективного знания. С другой, даже сами названия книг, становясь частью коллективного знания, могут очень сильно отличаться от «официальных».
Если книга является предметом воображения сообщества, это означает, что она известна всем членам группы, и представление о ее значении, характеристиках и содержании разделяют все члены этой группы, независимо от того, читали они книгу, или нет.
Цель данной работы заключается в исследовании способов воображения книг крестьянами России Х1Х-ХХ веков. Ее задачами являются выявление традиционных способов описания книг в крестьянской традиции и анализ социальных институтов, практик и убеждений, которые определили их формирование и распространение. Под традиционными способами обращения к книгам я имею в виду такие способы описания книг, которые, обладают устойчивой формой реализации, представлены в нескольких вариантах.
Источники.
Источники, которые используются в работе, можно разделить на три группы. Это, во-первых, современные полевые записи. Здесь нужно отметить Архив факультета этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, где хранятся записи и расшифровки материалов экспедиций 1997;2004 годов, проводившихся на территории Хвойнинского, Шимского, Батецкого, Мошенского районов Новгородской областифольклорный архив академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете, включающий значительный круг материалов по Новгородской, Псковской областямархив филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где также проводятся экспедиции в Северо-Западном регионе и архив полевого центра Российского государственного гуманитарного университета (Москва), на протяжении последних лет постоянно работающего в Архангельской области.
Вторая группа материалов представлена фольклористическими и этнографическими записями последней трети XIX — XX веков. В большинстве случаев речь идет о материалах, опубликованных в таких изданиях как «Этнографическое обозрение», «Живая старина», «Журнал Министерства народного просвещения» и др.
Третью группу источников составляют материалы этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева, которые хранятся сейчас в архиве Российского этнографического музея (Ф. 7. оп.1).
Первичными источниками в данном случае могут считаться только современные фольклористические записи. Хотя и здесь мы должны делать скидку на методику опроса, коммуникативный контекст интервью и т. д., эти материалы, тем не менее, фиксируют слова конкретных людей. Учитывать все обстоятельства, связанные с произнесением этих слов, мы должны для их адекватной интерпретации. Само же произнесение остается несомненным. Архивные материалы Тенишевско-го бюро, так же как фольклорные или этнографические публикации Х1Х-ХХ веков в силу существовавшей традиции фиксации данных, требуют критического подхода даже к самому факту вербализации представленных сюжетов. В некоторых случаях мы имеем дело, скорее, со стереотипами и личными убеждениями собирателя, чем крестьянским фольклором. Эти материалы представляют не меньшую ценность для исследователя, чем современные записи, но требуют тщательного критического анализа.
Поиск материалов для исследования изначально был ограничен территорией Северо-Запада и Русского Севера, включающих в современном административном делении территорию Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской и Архангельской областей.
Этот регион принято считать относительно целостным в этнокультурном плане и относительно стабильным — в демографическом (Панчепко 1998: 13−14). Крестьянское население Северо-Запада России и Русского Севера является более или менее единым в конфессиональном и лингвистическом отношении. С начала 1990;х годов на территории этого региона проводилось значительное число полевых исследований, в результате которых мы располлагаем значительным объемом записей из этой местности. Немаловажным фактором был и мой собственный полевой опыт. Начиная с 1997 г. я регулярно участвовала в фольклорно-этнографических экспедициях на территории Новгородской, Псковской и Ленинградской областей. Значительная часть использованных в работе материалов была записана при моем участии.
Тем не менее, в ходе работы над темой стало ясно, что данные по Северо-Западу России и Русскому Северу не позволяют раскрыть многие аспекты исследуемого явления и потребовалось привлечение дополнительных материалов по другим регионам. Многие опубликованные материалы, имеющие существенное значение для понимания механизмов социального воображения книги, не атрибутированы и далеко не всегда поддаются точной локализации.
Работа, таким образом, сохранила свою основную ориентацию на СевероЗападный регион и Русский Север — вторая, третья и четвертая главы базируются, прежде всего, на анализе материалов по этой территории. Но в ряде случаев речь идет, скорее, о более широком регионе Европейской России. Это относится, в частности, к первой и второй главам диссертации, посвященным бытованию сюжета об исправлении книг и практикам «отчитывания бесноватых».
Проблемы изучения роли «письменного» в обществе: история вопроса.
Отношение к письменному, механизмы его использования и адаптации не только неоднократно привлекали к себе внимание ученых, но стали формообразующими для нескольких научных направлений. Это — антропология грамотности, представленная в основном западными исследованиями, а также история и социология чтения, известные как на Западе, так и в России. Было бы странно не упомяпуть здесь и археографию, которая «имеет объектом изучения не только реализованную в памятнике письменности или печати духовную жизнь общества, но и другие формы выражения духовной и материальной культуры и социально-экономические и конкретно-исторические явления, ее определяющие» (Поздеева 1982: 4). Но, несмотря на декларируемую задачу комплексного исследования функционирования письменных текстов, археографические работы, в большинстве случаев, оказываются скрупулезнейшими описаниями самих книжных памятников5.
Центральным для этих направлений оказывается именно понятие письменного, обобщающее все случаи реализации письменного языка. Таким образом, в это понятие включаются и многостраничные литературные произведения, и любовные письма, и надписи на упаковках, и средневековые манускрипты, и записки, приклеенные на холодильник, и петроглифы, и «абракадабра», и все, где мы находим реализацию графической системы языка. Понятие письменного остается глухо к вопросу о восприятии знаков: проявления письменного остаются таковыми, независимо от того, читает их кто-нибудь или нет. Так же как сам язык, согласно концепции Ф. де Соссюра — это система знаков, форма, а не субстанция, письмо — это система графических знаков, каждый раз заново реализуемая в письменной речи.
Лингвистическую парадигму в определении письма можно считать наиболее ярким схематическим изображением той модели, которая долгое время господствовала в гуманитарных исследованиях, затрагивающих те или иные вопросы, связанные с письменными текстами. С лингвистической точки зрения, различные письменные тексты могут быть объединены в одну феноменологическую группу, поскольку являются лишь разными проявлениями одной системы — письменного языка. Та же самая процедура производится и в культурологическом контексте: народные заговоры, «Мертвые души» Гоголя, молитвенники, «Санкт-Петербургский листок» и т. д. воспринимаются как частные проявления одного феномена — письменного. Иными словами, письмо или письменное приобретает такой же системный смысл в культурологической перспективе, как и в лингвистической. Другой стороной этого подхода стала объективация письменного/письма,.
5 Безусловно, существуют исключения. Стоит отметить хотя бы работы Н. Н. Покровского, И. В. Поздеевой и С. Е. Никитиной, которые далеко выходят за рамки сугубо описательных. Но одновременно с этим они перестают быть и собственно археографическими, становясь примерами культурологических, исторических и этнологических исследований. возможность говорить о нем, как о реально существующем феномене, рассматривать его роль и значение в развитии и функционировании обществ и культур.
Убеждение в объективном существовании письменного, а значит, возможности эмпирического изучения его свойств и признаков, вдохновляло многих исследователей. О «священном характере письма» писал уже И. Е. Гельб, один из первых историков письменного языка (1982: 219−223). Также рассуждают и многие современные специалисты. В работе, посвященной лубочным надписям, читаем: «Надпись в течение столетий воспринималась в неграмотной среде как нечто безусловно ценное» (Соколов 1995: 55). В исследовании, посвященном чтению в России второй половины XIX века, делается вывод о том, что «использование чужого языка способствовало, с одной стороны, „сакрализации“ христианских текстов, — противопоставляло их бытовой сфере, с другой — формированию отношения к письменности и чтению как к явлениям чужим, инокультурным» (Рейтблат 1991: 130). Или: «В этом обычае [зашивать написанные на бумаге молитвы в ладанкуЕ. М.] нашли выражение поверья, связанные с магией слова и средневековым восприятием букв как персонифицированных одушевленных символов. Сам факт начертания знаков, несущих определенную символику, имел в средневековье сакральное значение» (Тульцева 1978:36).
В данном случае вопрос даже не в том, насколько подобные выводы соответствуют средневековой ситуации6. Хотя и в разных контекстах, приведенные типы аргументации используют один и тот же логический ход: конкретные способы обращения с теми или иными типами текстов авторы объясняют, исходя из свойств письменного как такового. Точно так же человек, у которого по весне заедает входная дверь на даче, объясняет это общим свойством дерева к разбуханию под воздействием влаги.
Лингвистическая концепция письма является только аналогом существующей культурологической модели, ее типологической параллелью, ставшей в то же время дополнительным подтверждением последней. Сложившиеся взгляды на феноменологию письменного, конечно, имеют более глубокие корни, чем лингвистические теории середины XX века.
Также рассуждали античные философы. В диалоге «Федр» Платон предлагает два варианта отношения к письменности. Надо сказать, что они оба до сих пор
6 См. исторические свидетельства обратного в: Franklin 2002: 274. остаются актуальны в науке. Первый вариант излагается от лица бога Тевта, принесшего дары Египтувторой вкладывается в уста самого царя Египта:
Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости» <.> Царь Египта ему сказал на это: «В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общенияони станут мнимомудрыми вместо мудрых (274d, e-275a, b).
Рассуждения Платона также, вероятно, являются лишь воспроизведением уже существовавшей к тому времени метафоры письма, корни которой находятся гораздо глубже.
Понятие письменного сыграло существенную роль в ранней антропологии. А. Бастиан, Э. Тайлор, Дж. Мак-Леннан рассматривали наличие/отсутствие письменности в качестве критерия для различения цивилизованных и примитивных обществ. Для JI. Леви-Брюля письменность ассоциировалась безусловно с цивилизованным, логическим типом мышления. Позднее этот же тезис использовался Э. Дюркгеймом и М. Моссом, Э. Кассирером, К. Леви-Строссом7.
В монументальной монографии «Антропология: введение в науку о человеке и цивилизации» Эдвард Тайлор пишет: «Наконец, можно принять, что цивилизованная жизнь начинается с появлением искусства писать, которое, закрепляя историю, законы, знания и религию на пользу грядущих веков, связывает прошедшее и будущее в одну непрерывную цепь умственного и нравственного прогресса» (Тайлор 1898: 29).
Новый этап в жизни метафоры письма открыли исследования Дж. Гуди и И. Уотта. Судьба их концепции достаточна типична для науки: высказанные идеи были настолько вдохновляющими, что вызвали бурю новых проектов в этой об.
7 См. подробней: Collins&BIot 2003: 9−11- Olson 1994: 20−44- Besnier 1995. ласти. В результате этих исследований практически все тезисы Гуди и Уотта были опровергнуты, а сам подход — подвергнут резкой критике. Тем не менее, именно этим ученым антропология обязана возникновением нового направления в исследовании грамотности, в рамках которого к настоящему моменту написаны уже тысячи работ.
Подход Гуди и Уотта стал серьезным шагом в развитии знаний о природе письменного. Более того, для многих специалистов, косвенно затрагивающих проблемы использования письма, теория Гуди-Уотта и сейчас остается наиболее авторитетной в этой области. Подробно разбирать ее здесь не имеет смысла. Существует несколько десятков специальных критических обзоров, посвященных их концепции. В данном случае я попытаюсь кратко изложить суть их подхода, отсылая о читателя за более скрупулезным анализом к другим авторам, и, конечно, исследованиям самих Гуди и Уотта (Goody, Watt 1963; Goody 1968, 1987).
Главным толчком к развитию этой концепции послужила идея Э. А. Хэйв-лока, рассматривавшего древнегреческую традицию, и пришедшего к заключению, что изменение философской традиции во времена Платона было непосредственно связано с широким распространением письменности (Havelock 1963). Джэк Гудикембриджский антрополог, специалист по Африке и Ближнему Востоку, обобщает значительный круг материалов по истории и культуре Востока, Греции, Египта и Европы и превращает идею Хэйвлока в универсальный принцип общественного развития.
Классической работой, с которой началось шествие исследований грамотности, стала статья Дж. Гуди и И. Уотта «Последствия грамотности» (Consequences of Literacy), опубликованная в 1963 г. в журнале «Comparative Studies in Society and History». Главная идея авторов заключается в том, что «изобретение письменности кардинально меняет всю структуру культурной традиции общества. В устных сообществах {oral societies) культурная традиция передается почти исключительно из уст в уста, от человека к человекулюбые изменения в отношениях между участниками коммуникации приводят к забыванию или трансформации тех частей традиции, которые перестают быть важными или релевантными. Напротив, письменные сообщества {literate societies) не могут также опустить, оставить или изме.
8 Наиболее всесторонний разбор концепции Гуди-Уотта можно найти в одной из последних работ Дж. Коллинза и Благга (Collins&BIot 2003). нить прошлое. Вместо этого, члены этих обществ всегда находятся лицом к лицу с записанными версиями прошлого и своих обычаеви поскольку прошлое, таким образом, отделяется от настоящего, становится возможным историческое исследование" (Goody, Watt 1963: 344).
Гуди и Уот полагают, что к подобным последствиям может привести только алфавитная грамотность, т. е. навыки владения алфавитным письмом. Это утверждение основано на том, что письмо других типов гораздо сложнее алфавитного, а, значит, сфера его распространения в конкретном сообществе никогда не сможет быть достаточна велика, чтобы привести к серьезным социальным изменениям. Уже эта ремарка позволяет увидеть главный недостаток предлагаемой модели. Представление о достаточной/недостаточной сфере распространения грамотности предполагает неизбежное сопоставление того или иного общества с определенным идеалом и меркой — схема, которая по сути воспроизводит известные эволюционистские построения. Небезосновательность этой аналогии подкрепляется и тем, что мерилом сообществ оказывается Древняя Греция, где, по мнению Гуди и Уотта, потенциал грамотности реализовался в наиболее полном виде. Большинство других обществ авторы объединяют в группу сообществ с ограниченной грамотностью (.
Основные последствия грамотности, происходящие в обществах с полноценной (в противопоставлении «отсутствующей» и «ограниченной», в оригинале это противопоставление выражено словами «full» — «illiterate «- «restricted») и алфавитной грамотностью, проявляются, по мнению ученых, в кардинальной трансформации природы знания и культурной традиции. К таким последствиям, в частности, относятся различение мифа и историимнения и истиныпоявление скептицизма по отношению к приобретенной традиции.
В самом общем виде концепцию, предложенную Дж. Гуди и Й. Уоттом, можно свести к трем основным положениям:
— Распространение фонетического письма и алфавитной грамотности (.
— Различение грамотных и не-грамотных сообществ (literate / non-literate societies) по принципу используемого в них в качестве основного устного или письменного типа коммуникации и основанное на том факте, «что письменность представляет иной тип связи между словом и его референтом, связи более общей и абстрактной, менее зависимой от особенностей человека, места и времени, чем это предполагается в устной коммуникации» (Goody, Watt 1963: 321).
— Выделение сообществ с ограниченной грамотностью (restricted literacy), где использование письмениости принципиально отлично от ее использования в современных обществах Западного типа.
Некоторые тезисы Гуди-Уотта были впоследствии подхвачены и развернуты другими исследователями. К их числу относится идея особенного типа мышления, приобретаемого благодаря навыкам владения алфавитным письмом. В рамках концепции Гуди-Уотта представление об исключительном потенциале алфавитной грамотности было связано, прежде всего, со сферой распространения последней. Беря за основу саму идею, Дэвид Олсон придает ей другой смысл (Olson 1977, 1994). Использование алфавитного письма, эксплицирующего звуковую структуру языка, приводит, согласно доводам Олсона, к появлению у человека рефлексии по поводу свойств самого языка, в частности его формы и коммуникативных функций. Кроме того, читатель начинает осознавать различие между буквальным и контекстуальным значением высказываний.
Олсон, в отличие от Гуди, полагает, что письменное мышление (literate thought) приобретается человеком в процессе обучения и социализации и связано с другими социальными явлениями. Более того, письменное мышление не обязательно связано с использованием навыков чтения и письма. «Письменное мышление может составлять, и, на самом деле, в определенной степени составляет, часть устного дискурса письменного (literate) сообщества» (Olson 1994: 281). Но с исторической точки зрения появление письменного мышления, согласно Олсону, было вызвано именно распространением письменности. Несмотря на существенные отличия концепции Олсона от модели Гуди-Уотга, их конечные выводы оказываются необыкновенно близкими. Письменное сознание, по мнению Олсона, связано с современным научным мышлением, в то время как устное — с мышлением, предшествующим современному и научному.
Подход Олсона представляет собой одну из модификаций т. наз. «теории большого разрыва» {great divide theory), представленную, прежде всего, в работах антропологов конца XIX — начала XX века и опирающуюся на фундаментальное различение современного и «другого» типов обществ, культур и мышления. Метафора «устный vs. письменный» оказалась необыкновенно привлекательным инструментом для интерпретации различных культур, и до сих пор еще нередко используется исследователями.
Возвращаясь к общему ходу моих рассуждений, нужно заметить, что хотя взгляды Гуди и Уотга во многом наследуют традициям ранней антропологии, увлеченной примитивными обществами и построением универсальных классификаций, в них содержится и одно существенное новшество: Дж. Гуди вводит в широкий научный оборот понятие «грамотности», заменяя им более распространенный до того термин «письмо» {writing). Необходимость нового понятия авторы не объясняют и на страницах собственных работ используют оба термина как синонимы. «Грамотность» для Гуди оказывается тем же, что было «письмо» для Тайлора: монолитным феноменом, способным вызвать фундаментальные изменения в обществах, культурах и личностях. Однако новое слово придает совершенно иное звучание старому понятию. «Грамотность» выглядит куда более эмпирически осязаемым явлением, чем «письменность».
Замена одного термина другим во многом определила появление и нового взгляда на проблему. Грамотность приобретается: кем-то, где-то, с определенными целямиграмотности обучают: кто-то, кого-то, где-то, с определенными целями. Все эти ассоциации очень скоро были обращены в научные вопросы. Желание ответить на них, а также стремление проверить выводы Гуди на конкретном материале привели к необыкновенному всплеску новых исследований в области изучения грамотности и увенчались кардинальным изменением господствующей парадигмы.
Благодаря специальным этнографическим исследованиям стало ясно, что классификация Гуди-Уотга не работает. Развитие историографической традиции, абстраютюго мышления и научного знания далеко не всегда наблюдается в сообществах, где распространена алфавитная грамотность, и далеко не всегда отсутствует в «сообществах с ограниченной грамотностью» в терминологии Гуди (Collins&Blot 2003). С другой стороны, исторические работы показали, что противопоставление устного и письменного обществ, культур и типов мышления значительно упрощает ситуацию. В античности и средневековье «чтение» было в большинстве культур Европы и Азии публичным действием и предполагало произнесение текста вслух, поэтому и сам письменный текст оказывался между «устной» и «письменной» сферами бытования. Только с началом Просвещения в Европе начинается постепенный переход к уединенному «чтению» про себя для собственного удовольствия (см. Coleman 1996, Howe 1993, Long 1993, Boyarin 1993, 1).
Широкий резонанс, вызванный работами Гуди, общее изменение гуманитарной парадигмы, связанное с повышением интереса к повседневности и возникновением рефлексии исследователей по поводу функционирования «своей культуры» — стали причиной того, что не замечаемая раньше тенденция к объе1сгивации письменного, в случае с «грамотностью» получила широкое обсуждение. Саму теорию Гуди и его последователей Брайан Стрит впоследствии называет «автономной моделью грамотности», подчеркивая именно эту ее сторону. Новые исследования грамотности (New Literacy Studies), возникшие в середине 1990;х, опираются на принципы контекстуального изучения практик использования грамотности, рассматривая их как культурно и ситуативно обусловленные явления, тесно связанные с другими аспектами социальной жизни в конкретных сообществах (Street 1984, 1993; Barton, Hamilton, Ivani6 2000, Besnier 1991).
Подобно тому, как в конце XX века на смену Истории с большой буквы приходят истории — с маленькойтермины «прошлое» и «память» начинают употребляться во множественном числепонятие «грамотность» также заменяется в работах множественными «грамотностями"9. Вопрос об общесоциальных, культурных и когнитивных последствиях распространения грамотности довольно скоро уходит на второй план, и постепенно совсем исчезает из числа актуальных.
Предметами исследования становятся различные сферы использования грамотности (Barton, Hamilton, Ivanic 2000), связь грамотности с различными соци.
9 Ср. название одной из статей Дж. Коллинза, а потом и отдельной монографии Дж. Коллинза и Р. Блота -«Грамотность и грамотности» (Collins 1995, Collins&Blot 2003). альными институтами, и, в первую очередь, образованием (Barton et al. 2000, Heath 1983) — коммуникативные контексты чтения и письма (Basso 1974, Boyarin 1993, 2, Frase 1981) — связь между политикой грамотности и процессами национального строительства (Андерсон 2001, Freebody&Welch 1993, Collins&Blot 2003), распространением грамотности и групповой идентичностью (Street 1993) — зависимость интерпретации письменного текста от практик чтения (Besnier 1991, Kulick&Stroud 1990, Cohen 1993) и др. Релятивистский подход использовался в исследованиях по антропологии коммуникации (Heath 1983, Scribner&Cole 1981), фольклору (Finnegan 1988), риторике (Pattison 1982) и в исторических исследованиях (Bauml 1980, Graff 1972, 1995, Biller&Hudson 1994, Gawthrop&Strauss 1984, Lerner 1992, Stephens 1990, Stock 1983, 1986, 1990, Гинзбург 2000).
Российская наука оказалась на удивление глуха к развитию нового направления на Западе. По понятным причинам работы Гуди и Уотга, так же как и другие западпые исследования того времени не могли быть широко известны в Советском Союзе. Но и после того, как границы были «открыты» и обращение к международному научному опыту стало хорошим тоном в России, исследования, посвященные антропологии грамотности и чтения/письма остались у нас невостребованными. Можно найти несколько объяснений отсутствию в России интереса к таким проектам.
Во-первых, исследования грамотности, начинавшиеся как относительно далекие от социальных запросов своего времени академические штудии, очень скоро были инкорпорированы в область педагогики, социологии и психологии образования, достаточно активно развивавшихся в то время на Западе. В 1960;е годы на юге Соединенных Штатов открылись общие школы для детей из разных этнических групп, что привело к широкому обсуждению проблем межкультурного взаимодействия и обучения детей с разным культурным и языковым опытом. Значительная доля антропологических исследований имела вполне понятную практическую цель: сделать обучение максимально эффективным для детей из разных этнических групп, социальных слоев и с разным опытом воспитания. Именно эту цель, например, преследовала Ш. Б. Хит, чей проект длился 9 лет (1969;1978 гг.) и увенчался широко известной монографией «Ways with Words» (Heath 1983). Кроме того, с началом деятельности ЮНЕСКО одним из постоянно обсуждаемых вопросов на Западе становится «общемировой кризис грамотности» и образования (Coombs 1985), а в середине 1960;х ЮНЕСКО объявляет о начале реализации программ т. наз. «функциональной грамотности», что также приводит к увеличению числа исследований в области антропологии чтения и письма (Limage 1993).
Как в Советском Союзе, так и в России вопросы образования никогда не получали такого широкого научного обсуждения, как на Западе. Сфера педагогики вплоть до последних лет развивалась у нас независимо от гуманитарных и социальных дисциплин, и лишь недавно появились работы, рассматривающие проблемы школьного и университетского образования в антропологических терминах (см. Лярская 2003 (1, 2) — Панова 2006).
Другую причину того, что западные исследования по антропологии грамотности остались невостребованными в России, стоит, видимо, искать в самой конфигурации гуманитарного знания на русскоязычном пространстве. Наиболее сильные культурологические импульсы советская наука получала со стороны филологии и лингвистики. В 1960;1970;е годы, когда стали возможны относительно независимые от сталинской историографии академические исследования, культурология развивалась в основном на базе филологических наук и была представлена, прежде всего, московско-тартусской школой семиотики. Отсюда приходили наиболее яркие идеи, не терявшие своего значения, даже если позже опровергались и оставлялись в стороне10. Лингвистика оказала существенное влияние и па развитие социальных наук на Западе, но влияние это было другого рода. В отношении западных наук принято говорить о «лингвистическом повороте» — изменении ракурса исследований в области истории, антропологии, социологии. В СССР никакого поворота не произошло, или, во всяком, он лет на 50 запоздал по сравнению с международной историографией.
Культурологические исследования развивались в Советском Союзе в достаточно замкнутом и обособленном пространстве. Исследователи обращались в по.
10 Тогда же в СССР был и еще один «эпицентр» культурологии — группа медиевистов во главе с А. Я. Гуре-вичем и Ю. Л. Бессмертным, работавших в Институте всеобщей истории АН (см.: Колосов 2005). Роль семиотической школы Ю. М. Лотмана как основного центра исследований культуры в это время подтверждается и сближением с ней «группы нетрадиционных медиевистов» (Там же: 201). Нужно заметить, что это сближение прослеживается не только в области личного общения представителей обеих групп, но также и в сфере историографии: последующие отечественные исследования, ориентированные на анализ культуры и общества, как правило, опираются на работы специалистов этих двух направлений. иске интерпретативных моделей, преимущественно, к филологии и лингвистике и, наоборот — филологи в большей степени, чем кто бы то ни было уделяли внимание вопросам развития и функционирования культуры. В результате, в советской пауке сложилась собственная культурологическая историография, существующая как бы параллельно западной. Она состоит из совершенно иных, чем на Западе, работ, но включает большинство высказанных там идей. Именно такая ситуация наблюдается в области исследования письменного.
Одна из наиболее влиятельных в российской этнологии-фольклористике моделей изучения письменного связана с теорией коммуникации. В 1930;е годы она разарабатывалась участниками Пражского лингвистического кружка и наиболее законченную форму приобрела в публикациях Й. Вахека (1967 1, 2), опиравшегося на идеи И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра. Й. Вахек предлагает различать устный и письменный типы высказывания. Их наиболее важными отличиями он считает «двухмерный (иногда даже трехмерный) характер письменных высказываний в противоположность одномерному характеру устных высказываний» и «независимость письменных высказываний от времени в противоположность неразрывной связи, существующей между временем и устными высказываниями» (Вахек 1967,2: 536).
Эта коммуникативная модель затем применяется К. В. Чистовым. По его мнению, возникновение литературы и ее отделение от фольклора было вызвано изобретением письменности и появлением «технического типа коммуникации», главное отличие которого от «естественного» заключается в отсутствии контакта между отправителем и получателем информации (Чистов 1975: 31, 35). Фольклор, таким образом, отождествляется с устным типом коммуникации, литература — с письменным. Хотя К. В. Чистов оставляет эту оппозицию в области коммуникаций и не переносит на иные социальные явления, сама эта возможность уже очевидно заложена ходом его рассуждений. Впоследствии к числу признаков устного (в противопоставлении письменному) типа коммуникации добавляется необратимость и многоканальность первого (Гаспаров 1978: 91). С. М. Толстая доводит число признаков устной коммуникации до пяти11 (Толстая 1989). Примерно в тоже время Дэвид Олсон опубликовал статью «From Utterance to Text: The Bias of.
11 К ним относятся: «устность в узком смысле слова», т. е. звуковая формаодновременность произнесения и восприятияоднократность (невоспроизводимость) — определенность и присутствие адресатаспецифически устная структура текста (Толстая 1989: 10).
Language Speech and Writing" (1977), где затрагиваются проблемы восприятия устной речи в сравнении с восприятием письменного текста. Законченную форму эти размышления приобрели уже в монографии «The World on Paper» (1994). Здесь Д. Олсон рассматривает устный и письменный типы коммуникации, подробно разбирая их отличия в отношении контекста высказывания.
Оппозиция «устность — письменность», изначально характеризовавшая различные типы коммуникации, довольно скоро превращается в метафору, используемую для описания других социальных явлений. «Традиционная народная культура славян, — пишет С. М. Толстая, — принципиально ориентирована на устную модель культуры <.>, но ее основные формы — обрядность и фольклор — обладают устойчивостью и воспроизводимостью, свойственными письменным текстам» (Толстая 1989: 13). Нужно отметить, что подобный способ использования оппозиции «устный — письменный» не характерен для российской традиции. Более распространенным стало противопоставление устной и письменной культур, где первая ассоциируется с фольклором, а вторая — с литературой.
Эту дихотомию специально рассматривал в одной из своих работ Ю. М. Лотман. Беря за основу признаки устной и письменной коммуникации, он, так же как Дж. Гуди, но совершенно независимо от него, приходит к выводу о фундаментальных различиях письменного и устного типов цивилизаций. Ю. М. Лотман рассматривает письменность как одну из форм памяти — «альтернативную"12 памяти традиции. Ю. М. Лотман начинает свою работу с противопоставления двух типов культур, где одна нуждается в письменности, а вторая — нет («Культура, ориентированная не на умножение числа текстов, а на повторное воспроизведение текстов, раз навсегда данных, требует иного устройства коллективной памяти. Письменность здесь не является необходимой» (Лотман 2000 [1987]: 365)). Но уже на первых страницах это противопоставление отождествляется с различием устного и письменного типов сознания: письменность, рассматривавшаяся сначала как следствие культурных различий, постепенно становится на место актанта — интерпретируется уже как причина этих различий. «Для письменного сознания, — пишет 10. М. Лотман — характерно внимание к причинно-следственным связям и результативности действий. С этим же связано и обостренное внимание к времени и, как.
12 Ср. название работы в позднем варианте: «Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры» (первое название — «Несколько мыслей о типологии культур»), следствие, возникновение представления об истории. Можно сказать, что история — один из побочных результатов возникновения письменности" (Там же: 364).
Такая логика вполне понятна исходя из того, что Ю. М. Лотмаи рассматривал саму культуру как «ненаследственную память коллектива» (Лотман, Успенский 2000 [1971]: 487). Но понятия «коллектива» и «социума» («культура по определению есть социальное явление» (Там же) имели для Ю. М. Лотмана совсем не тот же смысл, в каком их использовали западные антропологи. Ю. М. Лотмап исследует не общество, хотя иногда и прибегает к этому понятию, а семиотическую систему или семиотический механизм, «имеющий целью выработку и хранение информации» (Лотман 2000 [1970]: 392). Отсюда и возможность противопоставления «бесписьменного коллектива» «кантовскому идеалу человека» (Лотман 2000 [1987]: 365), и допустимость вывода о том, что «иероглиф, написанное слово или буква и идол, курган, урочище — явления, в определенном смысле, полярные и взаимоисключающие» (Там же: 368). Подход Ю. М. Лотмана не был ориентирован на исследование конкретных сообществ13. Ближе всего к нему оказывается противопоставление фольклора и литературы, как реализаций устной и письменной культур, рассматривавшееся Б. М. Гаспаровым и К. В. Чистовым.
Тем не менее, в начале 1990;х годов С. Е. Никитина попыталась применить этот подход к исследованию одного локального сообщества — общине старооряд-цев беспоповцев поморского согласия, проживающей на территории пограничных районов Удмуртии и Пермской области (Никитина 1982, 1989, 1993). Ее работы основывались на значительном корпусе материалов, полученных в ходе полевых исследований 1970;80-х годов, проводившихся в составе археографических экспедиций Московского государственного университета. Исследование С. Е. Никтиной был совершенно новаторским для российской науки того времени. Выходя за рамки собственно археографического описания книжных памятников, автор анализирует взаимосвязи между различными сторонами жизни старообрядцев: их повседневными и обрядовыми практиками, идеологией и фольклором. Рассматривая функционирование книг в общине, С. Е. Никитина пытается проанализировать отношение старообрядцев к письменным текстам, способы их передачи и чтения, их значение и роль для функционирования самой старообрядческой культуры.
13 Понятие «грамотности», имеющее заметное «человеческое» измерение и с неизбежностью уводящее исследователя от абстрактных культур и сообществ к конкретным людям, включенным в эти сообщества, в работах Ю. М. Лотмана не встречается.
С. Е. Никитина вполне наследует советской фольклорно-семиотической («этнолингвистической») традиции14, выбирая в качестве центральных категорий исследования понятия устной и письменной культур. Попытка применить их на практике, к анализу конкретных способов использования книжных текстов в старообрядческой общине, приводит к смешению и путанице понятий: устная народная культура противопоставляется письменной на основании канала передачи информации (Никитина 1993: 6), фольклорная культура противопоставляется книжной на основании параметра стиля и т. д. (Там же: 32). Однако практические наблюдения и выводы автора представляются необыкновенно интересными и продуктивными для исследования механизмов бытования письменных текстов в старообрядческой общине, а само исследование до сих пор остается единственной в России попыткой исследования практик чтения в локальном сообществе.
По сути дела, работа С. Е. Никитиной стала ярким примером неприменимости оппозиции устной/письменной культур к исследованиям конкретных практик использования письменных текстов на ограниченном, локальном материале. Использование этой метафоры приводит к упрощению ситуации, сводя все многообразие культурных форм (повседневных и ритуальных практик, норм поведения, религиозных воззрений, способов саморепрезентации, идеологии и т. д.) всего лишь к двум видам. Схематизация подхода привела к тому, что одно из наиболее существенных нововведений С. Е. Никитиной — перенос внимания с содержания текста на сферу его функционирования — осталось в отечественной науке невостребованным.
Особняком среди исследований, рассматривающих роль письменного в культуре и обществе, стоят отечественные работы, написанные в рамках социологии чтения и истории книги. В России это направление возникает в конце 1960;х годов. Развитие социологии чтения связано, прежде, с деятельностью Сектора социологии чтения и библиотечного дела, открывшегося в это время в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве. В советское время сектор оставался «практически единственным в стране специализированным научным подразделе.
14 Кажется, еще десять лет назад подобная фраза была бы безусловным оксюмороном. Семиотическое направление не вписывалось в традиции отечественной науки и вряд ли могло бы выдержать эпитет «советский». Сейчас, как мне кажется, наследие тартуской школы, опыт филологов и культурологов, работавших в рамках этнолингвистической школы Н. И. Толстого, заняли подобающее место в ряду других школ и направлений советского времени, а сам этот эпитет стал нейтральной, не обремененной идеологическими коннотациями, временной характеристикой явления. нием, осуществляющим всесоюзные по характеру исследования чтения" (Стель-мах 1990: 7).
Довольно активные разработки в области читательских интересов и аудиторий, проводившиеся с конца 1960;х, во второй половине 1970;х годов практически полностью прекращаются15. «Постепенно происходила подмена функций социологии чтения. Наука, призванная по своей сути анализировать реальные культурные процессы, выявлять сферы напряжения и уровень неблагополучия в системе, превращалась в статистику успеха» (Там же: 9). Составители сборника, вышедшего в 1990 г., где одновременно подводятся итоги двадцатилетней работы сектора и декларируется новая «желаемая» перспектива, признаются в том, что главная проблема социологии чтения в России заключалась не столько в отсутствии исследований, сколько в том, что они были замкнуты в узкой сфере библиотековедения (Там же: 8).
Во многом отсутствием связей с другими областями гуманитарного знания объясняются и принципы работы. «До сих пор чтение анализировалось как самодостаточная и самоочевидная реальность, способная сама объяснить свои же характеристики. Читательский облик тех или иных групп соотносился не с их социальным или культурным статусом, а с самими особенностями чтения. Социально-демографическая система координат долгое время была главной и, по существу, единственной схемой членения материала» (Там же: 11−12). Новый подход, по мнению авторов, должен определяться отношением к чтению «как социальному явлению, и к литературе и структурам, ее распространяющим, — как к социальным институтам», что должно позволить «видеть всю читательскую ситуацию в контексте сложнейших социокультурных отношений и процессов» (Стельмах, Лоба-чев 1990:4).
Несмотря на заявленный уход от сугубо «социально-демографической системы координат», работы, включенные в сборник 1990 г. и позднейшие, написанные в рамках этого направления, в большинстве своем остаются верны принципам количественного анализа данных. В качестве примера можно привести работу В. С. Орловой (1990), посвященную результатам анализа «понимания и оценки современной словесности одинаковыми по социально-демографическим характеристикам контингентами читателей в социалистических странах».
15 См. список публикаций сотрудников Сектора в: Книга и чтение 1990: 205−208.
В качестве основной переменной в рамках этого проекта использовалась т. наз. «литературная ориентация респондента», за основу изучения которой взяты «личностные функции». Среди них, в частности, выделяются компенсаторно-развлекательная, престижная, нравственно-воспитательная, ценностно-ориентированная, познавательно-образовательная, когнитивная и эмоционально-эстетическая (Орлова 1990: 81). На основании сложных вычислений того, какие функции оказываются наиболее значимыми для той или иной социально-возрастной группы, в работе делаются выводы о литературной ориентации людей. Вместе с тем, в исследовании так и не сообщается о том, что именно автор и другие участники проекта понимают под указанными функциями. Действительный выход за пределы статистического анализа читательской аудитории из числа московских исследователей совершает только А. И. Рейтблат. Его работа «От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века» (1991) до сих пор остается одним из лучших примеров анализа сферы распространения и истории чтения в России.
Параллельно с работой Сектора социологии чтения в ГБЛ, в Санкт-Петербурге развиваются исследования по истории книг: их создания, распространения, использования. В 1974 г. научно-библиографический отдел Б АН, возглавлявшийся с 1953 г. С. П. Лупповым, был преобразован в отдел истории книги. С начала 1970;х годов Библиотека Академии наук СССР проводит союзные конференции, объединенные общим названием — «Книга в России до середины XIX в.». Одновременно начинается выпуск серии монографий «Книга в России», в рамках которой выходит трилогия С. П. Луппова — «Книга в России в XVII в.» (1970), «Книга в России в первой четверти XVIII в.» (1973) и «Книга в России в послепетровское время. 1725−1740» (1976), а также работы Н. Н. Розова (1977, 1981), Б. В. Сапунова (1978) и других авторов. Вся серия охватывает историю России, начиная с раннего средневековья и заканчивая второй половиной XIX в.
Несмотря на декларируемые различия в подходах — диахронный или синхронный анализ — и главных предметах исследования — книга или читатель — московская и ленинградская школы оказываются очень близки друг другу. На практике и в том, и в другом случае рассматриваются сферы использования книг в российском обществе определенного времени. Представители и того, и другого направления опираются, прежде всего, на статистические данные, а результаты исследований оказываются одинаково замкнуты в среде узких специалистов.
На Западе развитие Истории книги происходит в противоположном направлении. В Европе оно появляется в начале 1960;х годов во многом под влиянием исследований представителей французской школы Анналов — Р. Эскарпита, Л. Февра и Х.-Ж. Мартена (Езсагрк 1958; РеЬуге&Майт 1958, 1976). Сфера интересов «новых историков книги», как их называет Р. Дарнтон, смещается от «изысканных проблем» библиографии к общим вопросам создания, распространения и коллекционирования книг, в конечном счете — к изучению «книжного опыта» обыкновенных читателей фагпкт 2002: 10). Однако бурное развитие этого направления в 1960;1970 годы приводит к полному размыванию границ между ним и смежными научными областями, прежде всего, антропологией и социологией литературы16.
Если в западной науке социальные исследования, посвященные использованию книги, получили развитие в рамках других традиций, то в России они остались в пределах профессиональной библиотечной сферы, не получив выхода в область культурологии. Отчасти это связано с тем, что сами эти исследования преследовали достаточно узкие практические цели описания книг и читательской аудитории конкретного периода. Вопросы зависимости между способами использования книги и другими социальными явлениями не входили в число насущных задач историков книги. С другой стороны, для ученых, работающих в области этнографии, культурологи, фольклористики книжность всегда ассоциировалась с более широким понятием письменной культуры, в которой не было места реальным книгам.
Отедельно стоит остновится на работах, появившихся в последнее десятилетие и посвященных понятию «книги» в крестьянском фольклоре (Белова 1995, 1999, 2004; Мороз 2005). Нужно сказать, что речь идет не о монографических исследованиях, а, скорее, о небольших статьях и заметках, где обобщается широкий корпус фольклорных источников. В своей работе А. Б. Мороз обратил внимание на широту значения слова «книга» в крестьянской традиции, возможность его приме.
16 См. об истории развития направления в: РткеЫет&МсСкегу 2002; ОагпЮп 2002. нения к различным — и печатным, и рукописным — текстам. Здесь же автор подчеркивает близость понятий «книга» и «Библия», которые зачастую употребляются как синонимы, приводит основные характеристики Библии по народным рассказам: старинная, большая, толстая и т. д. Все варианты отношения к книге и обращения с ней исследователь объясняет сакральным значением письменного текста, не поясняя, что именно подразумевается под этим значением17.
Если работа А. Б. Мороза основывается, в первую очередь, на современных фольклорных записях, то О. В. Белова обращается к более широкому корпусу восточнославянских материалов, записанных и в XX, и в XIX веке. О. В. Белова выделяет книги священные и книги, которые используются как «магические предметы», указывает на различные «магические» способы использования книг и существующие запреты и предписания, связанные с чтением (1999).
Работы О. В. Беловой нельзя назвать аналитическими. Речь идет о небольшой статье в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (1999) и двухстраничных тезисах доклада на конференции «Книга в пространстве культуры» (1995). Задача обеих публикаций заключалась, скорее, в представлении общего набора мотивов, связанных с книгой, чем в их интерпретации и анализе. Тем не менее, на основании собранных свидетельств, О. В. Белова делает общий вывод о значении книги в народной культуре: «Отношение к записанному слову, как к слову сакральному, — пишет исследователь, — определило отношение к книге, которая воспринималась как вместилище священного текста» (Белова 1995: 9). В более поздней работе О. В. Белова объясняет репрезентации книг в фольклоре «чуже-стью» книжной культуры «Книга в народных представлениях, связана с письменной традицией и книжной („чужой“) культурой, и этим определяется отношение к книге и обращение с ней. Книге (особенно ее ранней форме — свитку) приписывается божественное происхождение» (Белова 1999: 514). Представление об «инородности» письменности по отношению к традиционной культуре, нашло отражение и в исследовании А. Б. Мороза: «Для традиционной культуры, устной в своей.
17 Ср.: «Обладатель такого списка маркируется как носитель тайного, сакрального знания" — «Текст, записанный на бумаге, перестает быть только текстом, который имеет магическую силу при произнесении, но передает свои свойства бумаге, на которой он записан, отчего становится сакральным предметом»: «за предметом, обозначаемым словом книга, закреплены сакральное значение и функции" — «Библия в народных воззрениях и представляет собой такого же рода книгу, содержащую особую, сакральную информацию на все случаи жизни" — «Соответственно, книга, содержащая сакральную информацию, должна быть старой, старинной» (Мороз 2005). основе, письменность — явление внешнее и природио чуждое. Это, впрочем, не привело к отторжению ее, однако по-особому регламентировало ее использование. Особое отношение к письменности было в значительной степени сформировано ее тесной связью в сознании с христианством, Церковью» (Мороз 2005).
Подобные выводы представляются малоубедительными. Связь книги с «письменной и книжной культурой», христианством и Церковью, вероятно, определяет и наше собственное обращение с ней. Но какого рода эта связь? Где она проявляется? Каковы механизмы влияния? В той или иной степени и О. В. Белова, и А. Б. Мороз используют генетический аргумент18, определяя, таким образом, крестьянские описания книги как «пережитки» средневекового отношения к письменному тексту. Представляется крайне маловероятным, чтобы это отношение, если оно вообще когда бы то ни было имело место, сохранилось неизменным и в конце XIX в., когда в деревню нахлынул поток светской литературы, вырос уровень грамотности, и чтение стало популярным занятием крестьян, и, тем более, в конце XX в., после осуществления политики ликвидации безграмотности и повсеместного распространения средств массовой информации, в том числе и печати. Кроме того, остается не вполне понятным, каким образом отношение к книге как к «сакральному предмету» и «вместилищу священного текста» связано с чтением газет, детективов и другой литературы, написанием заявлений, справок и т. д. По всей видимости, никак не связано. В своей статье А. Б. Мороз вскользь говорит об омонимии «книги и Книги», с которой мы сталкиваемся, обращаясь к народной крестьянской культуре, но развития эта идея в исследовании не получает.
Особенность подхода О. В. Беловой заключается в отождествлении фольклорных репрезентаций книг с книгами-предметами, поддающимися классификации на основании исследовательских представлений о книге. Наиболее полно эта идея отразилась в работах О. В. Беловой, посвященных «народной Библии» (2001, 2002, 2004). С начала 1980;х годов О. В. Беловой был собран богатый корпус материалов по т. паз. библейскому фольклору восточных славян. Его основу составили собственные записи автора в Полесье, а также материалы Института славяноведения РАН и Каргопольского архива РГГУ. Корпус записей включает различные по жанровой природе тексты, в которых упоминаются библейские персонажи, находят отражение те или иные библейские сюжеты. Народные версии ряда ветхои.
18 См. выше вариаит этого тезиса в работе Л. А. Тульцевой (1978). новозаветных легенд становились предметами специального анализа в серии работ автора19.
В 2004 г. весь корпус материалов был опубликован в сборнике «Народная Библия: восточнославянские этиологические легенды». Исключительная ценность опубликованных материалов для сравнительно-исторических филологических разысканий не вызывает ни малейших сомнений. Тем не менее, представляется несколько странной попытка составителя представить собранный корпус библейского фольклора в качестве своеобразной «другой Библии» — Библии крестьян.
Понятие «народная Библия» применительно к подобным текстам является исследовательской категорией, инструментом, облегчающим систематизацию материалов. Включенные в сборник тексты могли бы входить (и неоднократно входили) и в другие группы: народная демонология, народные представления о растениях и животных и т. д. Способ классификации зависит от выбираемого исследователем принципа. Однако «народная Библия» в интерпретации О. В. Беловой оказывается не операциональной метафорой, а понятием, обладающим объективным значением. Иными словами, исследователь пытается нас уверить в том, что корпус библейских легенд опознается крестьянами как таковой — как библейский свод.
В работе, непосредственно предшествующей выходу монументального собрания материалов, автор пишет: «В связи с наличием в тексте „народной Библии“ канонических и апокрифических элементов необходимо отметить следующее. Носителями фольклорной традиции „народная Библия“ воспринимается как данностьвопрос о каноничности или апокрифичности этого источника для них не стоит. Это свод знаний о мироздании, „другая“ Библия, отличающаяся от той, которую „читают в церкви“. Как в фольклоре один и тот же сюжет может быть представлен рядом вариантов и вариативность есть главная форма существования фольклорного текста, так и наличие „варианта“ Библии не смущает наших информантов. Таким образом на книжный источник начинает распространяться механизм бытования фольклорного текста» (Белова 2002: 366- 2004: 19). И далее: «В регионах тесных этнокультурных контактов. независимо от конфессиональной принадлежности и „православная“, и „католическая“ „народная Библия“ включает в себя общий корпус легенд. Таким образом, „народная Библия“ оказывается изначально экуменической по своей природе» (Белова 2002: 371- 2004: 22). Какой.
19 См. список работ в: Белова 2004: 528−530. смысл вкладывает в эти слова О. В. Белова, не до конца ясно. Очевидно, что «экуменической» «народная Библия» может быть только для исследователя, наблюдающего за распределением сюжетов на конфессиональной карте.
Для самих «носителей фольклорной традиции» понятие «народной Библии» нерелевантно. Они попросту его не знают, так же как не знают и входящего в нее всего корпуса сюжетов. Далеко не всегда легенды на библейские сюжеты вообще атрибутируются рассказчиками как записанные в Библии. С другой стороны, Библии могут приписываться рассказы, не имеющие параллелей в собственно библейском тексте. На это указывал уже в 2001 г. А. А. Панченко (РапсЬепко 2001)20. Наконец, различные варианты ветхои новозаветных легенд, входящие в «репертуар» отдельных информантов, даже этими рассказчиками не объединяются в одну группу. Этого, тем более, нельзя сказать о тех поверьях, быличках и меморатах, которые имеют отношение к библейскому «метатексту» (Белова 2002: 363- 2004: 17) лишь на уровне общей — определенной также исследователем — темы (например, «эсхатология») или в области используемой лексики (в частности, библейских имен).
Интерпретацию «народной Библии» как понятия, релевантного языку самой крестьянской традиции, можно было бы не принимать во внимание. Аналитические исследования О. В. Беловой были посвящены истории и типологии отдельных библейских сюжетов. Само же понятие «народной Библии» предлагается сразу же как данность и специального обсуждения не получает. Однако попытка навязать крестьянской культуре еще один исследовательский «концепт» представляется опасной. На фоне продолжающегося с середины 1990;х годов роста фундаменталистских настроений в российских гуманитарных науках она выглядит как свидетельство сознательной мистификации и подтасовки фактов, необходимых автору для того, чтобы доказать «полноценность» крестьянской религиозности. «Корпус введенных на сегодняшний день в научный оборот текстов, — пишет О. В. Белова, — показывает, что представления о бедности, ограниченности и некой «неполноценности» фольклорной версии Священного Писания в корне неверны. Носители фольклорной традиции демонстрируют не только знакомство с каноническими и апокрифическими сюжетами на темы библейской истории, но привносят в них.
20 Ни эта, ни более поздний русскоязычный вариант статьи, вошедший в монографию А. А. Панченко 2002 г. О. В. Беловой неизвестен. черты национального менталитета и элементы архаических верований" (Белова 2004: 12).
Сопоставление текстов Священного Писания и его фольклорной версии безусловно необходимо в рамках сравнительно-исторических исследований фольклора, ио вряд ли поможет объяснить «содержащиеся в народных легендах анахронизмы. алогичность соединения в пределах одного текста фрагментов различных сюжетов, „вольное“ обращение с именами и персонажами» (Белова 2002: 362). Этот подход также не эффективен для решения заявленных автором вопросов о механизмах усвоения письменного текста и особенностях его рецепции в системе народных представлений21.
Подход О. В. Беловой во многом отражает общую тенденцию российской историографии к объективации письменного. В данном случае речь идет о стремлении найти у крестьян такое же представление о книге Священного Писания, какое кажется естественным современному исследователю. В то же время способы воображения книг, которые можно проследить в крестьянском фольклоре, остаются неисследованными. Здесь имело бы смысл задаться вопросом о роли конкретных сюжетов, связанных с книгой, и тех социальных, исторических и коммуникативных (когда это позволяют источники) условиях, которые сделали возможным появление и распространение этих сюжетов в определенной среде.
Методы исследования.
Основными тенденциями российской историографии в отношении исследования письменного стали метафоризация — перенос признаков письменного языка или письменного типа коммуникации на весь комплекс социальных проявлений письменного22- и объективация — приписывание понятию письменного системного значения и объединение всех социальных проявлений письменного как реализаций одного феномена.
Понятие «социальных проявлений письменного», которое я здесь использую, является очень вольным переводом англоязычного «literacy event», предло.
21 В работе 2004 г. О. В. Белова отсылает читателей за обсуждением этих проблем к собственной публикации 2002 г. (2004: 16). К сожалению, обещанных подробностей мы там не находим. Текст этой статьи полностью включен в сам сборник «Народная Библия».
22 В строго лингвистическом смысле речь идет о метонимии — переносе значения с части явления на целое.
33 женного А. Б. Андерсоном, В. И. Тилем и Е. Эстрада в 1980 г., а затем использованного Ш. Б. Хит, из чьих работ оно и стало известно широкому кругу специалистов. Literacy event23 определяется как любая последовательность действий, объединяющая одного или нескольких человек, где играет роль производство или восприятие письма (Anderson et al. 1980: 59). В 1982 г. Ш. Б. Хит развивает аналогию с этнографией коммуникации Д. Хаймса и предлагает рассматривать социальные правила взаимодействия, регулирующие реализацию literacy events в конкретных ситуациях24, способы интерпретации письменного текста, а также содержание и.
Л* объем того, что должно быть сказано о «написанном» (цит. по: Heath 1983: 386). Использование понятия «социальные проявления письменного» приводит к потере важнейшей для Ш. Б. Хит аналогии с «речевыми событиями» Д. Хаймса. Но это входит в мои планы.
Хаймсовская концепция оказала огромное влияние на западную социолингвистику, социологию, антропологию и вполне реализовала свой потенциал в области исследования письменного26. Ее применение делает возможным анализ целого круга коммуникативных ситуаций, в которых используется «нечто написанное» {piece of writing), что я и называю письменным. Но эта концепция с трудом прило-жима к тем случаям, когда письменное как предмет не используется, а является исключительно предметом обсуждения. Такие случаи обычно не попадают в сферу интересов антропологии коммуникации, но хорошо известны в области фольклористики. Речь идет о черной и других магических книгах, т. наз. «ложных указах» (Ingerflom 1992, Львов 2003), сюда же можно отнести «животную книгу» духобо.
23 Ни один буквальный перевод этого понятия («событие грамотности», «событие столкновения в грамотностью»), кажется, не удовлетворяет законам русского языка.
24 Аналогичных «speech situations» в теории Д. Хаймса.
25 Определение «literacy event» в оригинале имеет несколько важных особенностей, связанных с употреблением конкретных англоязычных понятий. В частности, в нем не используется словосочетание «письменный текст», которое неизбежно вызывает ассоциации с определенными содержательными и структурными характеристиками «письменного». Вместо него употребляются выражения «piece of writing» и «written material», лишенные какого бы то ни было дополнительного смысла, кроме собственно значения «что угодно написанное». Еще одна особенность оригинального определения, которую мне не удалось передать в русском языке, связана с использованием словосочетания «the talk about what is written», которое не предполагает модальности. Для того, чтобы передать общий смысл определения, мне пришлось перевести эту фразу как «то, что должно быть сказано о «написанном». Все определение звучит в оригинале следующим образом: «Literacy events have social interactional rules which regulate the type and amount of talk about what is written, and define ways in which oral language reinforces, denies, extends, or sets aside the written material. Just as speech events occure in certain speech situations and contain speech acts, so literacy events are rule-governed, and their different situations of occurance determine their internal rules for talking — and interpreting and interactingaround the piece of writing» (Heath 1983: 386).
26 Ср. появившиеся по модели Хаймса «этнография письма» (Basso 1974), «этнография чтения» (Boyarin 1993, 1), «этнография грамотности» (Schwed 1981). ров и хлыстов27 и, с рядом оговорок, «голубиную книгу» (Беляев 1921, Архипов 1990).
Применительно к этим случаям оказывается невозможен анализ практик чтения письменного и способов взаимодействия людей в связи с ним или вокруг него. Тем не менее, способы говорения о письменном и в этих случаях достаточно строго регламентированы и определяются рядом правил. Более того, письменные тексты, не имеющие референтов в предметном мире, только за счет той роли, которая приписывается им группой, оказывают влияние на жизнь людей: правила поведения, взаимоотношения внутри общины, распределение социальных статусов, самоопределение и отношение к представителям других групп.
Понятие «социальных проявлений письменного» позволяет рассматривать с общих позиций социальную роль как собственно письменного, так и воображаемых письменных текстов. При этом можно избежать свойственного российской традиции способа объяснения отдельных проявлений письменного через апелляцию к общим, родовым свойствам письменного как некого культурного феномена. Объяснение конкретных вариантов использования письменного даже когда под «использованием» подразумевается только вербальная репрезентация, должно основываться на исследовании коммуникативного и социального контекста, в котором задействовано письменное, практик и убеждений, с которыми оно связано, социальных отношений, в которых оно играет роль.
Применение данного подхода к исследованию способов воображения книг в сообществе требует ряда оговорок. В значительной степени этот подход требует анализа коммуникативной ситуации «использования» текста, что само по себе вполне возможно и осмысленно и в области фольклора. Коммуникативный подход к анализу фольклора уже многократно применялся в западной и отечественной науке (Abrahams 1968; Bauman 1969, 1971, 1975; Ben-Amos 1971, Адоньева 2004), и здесь вряд ли нужно обсуждать его достоинства. Скорее, стоит сказать о том, что его применение очень часто оказывается недоступным, и, прежде всего, в тех случаях, когда исследование опирается на материалы, не собранные специально в ходе работы, а записанные с другими целями и в другое время.
27 Специальные работы мне неизвестны. Общие сведения и некоторые частные замечания см. в: Панченко 2002: 311−321- Никитина 2002: 28−29.
Вплоть до конца 1990;х годов традиция записи фольклорных текстов не требовала обязательного включения информации о контексте рассказывания, и, такая информация, скорее, случайно попадала на страницы публикаций и архивных документов. В этих случаях определение правил, регламентирующих появление сюжета в данной ситуации, вынужденно основывается на анализе контекста более широкого, чем собственно коммуникативный. Для анализа привлекаются как явления, непосредственно связанные с текстом (например, принятые именно в этом сообществе нормы, известные именно в этом сообществе ритуалы и т. д.), так и только типологически близкие (известные в аналогичном сообществе нормы и практики, фольклор и т. д.).
Подобный способ анализа сферы и механизмов появления того или иного сюжета, конечно, нельзя отождествлять с анализом коммуникативной ситуации. Недостатки такой подмены очевидны. Определение связей того или иного сюжета с другими сюжетами и невербальными формами культуры на основании анализа широкого этнографического контекста позволяет увидеть функции текста в сообществе только в самом общем приближении, оставляя недоступной сферу индивидуального выбора, а зачастую не позволяя даже сделать выводов о его локальных вариантах. Тем не менее, это в большинстве случаев единственный доступный вариант исследования фольклора в социальном контексте. И, хотя и с рядом оговорок, этот способ анализа также позволяет определить правила, регулирующие репрезентации книги в фольклоре и связи, существующие между тем, что говорится о письменном, и другими социальными явлениями.
Цель данной работы заключается в исследовании способов воображения книг в сообществе крестьян России Х1Х-ХХ веков. Основным методом исследования является анализ социальных проявлений письменного, т. е. коммуникативного и социального контекста, в котором задействовано письменное, практик и убеждений, с которыми оно связано, социальных отношений, в которых оно играет роль.
Наряду с методами синхронного анализа в работе применяются и диахронические методы. В своей первой монографии, А. А. Панченко писал в связи с исследованиями народного православия: «Так или иначе мы действительно обречены на исторический подход к исследуемой культуре. Понятно, что малая освещенность истории русской народной культуры в письменных памятниках эпохи средневековья ставит ее исследователя в положение, сравнимое с тем, в котором находится этиолог, изучающий бесписьменные примитивные общества. Однако мы все же имеем дело с традицией, вовлеченной в процесс интенсивного исторического развития — можно предполагать, что высокая потенция исторического динамизма была одной из существенных черт варварских культур, заложивших во второй половине I тыс. н.э. основы европейской цивилизации. Поэтому исследование народного православия на определенном этапе все равно будет вынуждено обратится к проблемам ретроспективы» (Панченко 1998: 34). Я могу согласиться с первым утверждением автора — исторический подход к исследованию фольклора в социальном контексте и, в частности, к «использованию» письменного в фольклоре мне также кажется неизбежным. Однако причины неизбежности, как мне представляется, лежат несколько в иной области.
Этнографические и фольклористические исследования традиционно ориентировались на изучение «экзотических» явлений, будь то далекие племена «дикарей», таинственные обычаи иных «народов», или деревенский фольклор — ирраи-цональный с точки зрения стороннего наблюдателя28. Один аспект этой традициипроцедура «остранения», «экзотизации» предмета изучения, даже если речь идет о явлениях повседневности. Другой — интерес к дейтсвительно редким, «исключительным» феноменам. Чтобы не говорить слишком абстрактно, я воспользуюсь примерами собственной темы. Упоминания книг или вообще письменных текстов являются крайне редкими случаями для крестьянского фольклора29. Собранные вместе они, тем не менее, представляют собой и определенное разнообразие, и поддаются систематическому анализу. Но привлечение более ранних материалов по использованию письменного зачастую открывает гораздо больше возможностей для такого анализа.
Нередко оказывается более оправданным делать выводы об историческом изменении тех или иных сюжетов, практик, и связей между ними, чем определять.
28 Процедура «остранения» предмета изучения, применяемая в исследовании феноменов культуры — это во многом процедура их «экзотизации», придания им «экзотического» смысла.
29 В этой работе я использую, прежде всего, материалы, попадающие в классификации Г. А. Левинтона в фуппу II (непесенные сюжетные тексты) (Левинтон 1998). Анализ контекстов упоминания книги в фольклоре других классов (песенные несюжетные, песенные сюжетные и непесенные несюжетные тексты) потребовало бы значительного расширения работы, которое не кажется мне оправданным в рамках поставленной цели. Но даже если включить в общую «статистику» данные этих фольклорных классов, число основных мотивов, связанных с письменным, останется сравнительно невелико (это, прежде всего, «грамотка» или «письмо», упоминаемые в текстах традиционно письменных молитв-оберегов и причитанийЕвангелие, которое упоминается в целом ряде духовных стихов и, конечно, Голубиная книга, ставшая центральным мотивом соответсвующего духовного стиха- «книга», «письмо», «грамотка» так же являются центральными мотивами значительного числа паремийных текстов). механизмы их сосуществования в одном социально-историческом пространстве. Попытки провести только синхронный анализ функционирования подобных «редких» явлений нередко приводят к тому, что сам «синхронный срез культуры» необозримо растягивается — на век, два, иногда и шире. Несмотря на всю историческую динамику Х1Х-ХХ веков этот период часто выступает в академических работах как единое культурное пространство. Вместо этого мне кажется более корректным эксплицитное применение синхронных методов тогда, когда это позволяют источники, и диахронных — в тех случаях, когда для этого есть больше материалов, чем для синхронного анализа.
Вопрос об источниках исследования, как видно из моих предшествующих рассуждений, оказывается определяющим для выбора методов исследования. Здесь меня можно было бы упрекнуть в излишнем эклектизме, а саму работу — в отсутствии твердых методологических оснований. Я, между тем, не вижу предмета для оправданий. Обратившись к теме социальных проявлений письменного, я сталкивалась с целым рядом вопросов, которые никогда прежде не обсуждались в научной литературе. В этом смысле, данная работа может считаться только «подступом» к теме, введением, за которым могло бы последовать уже более детальное исследование отдельных ее аспектов. Существенная часть работы заключалась в поиске самих упоминаний «письменного» в крестьянском фольклоре, их систематизации. Только после того, как общий круг этих сюжетов был очерчен, стала возможной их интерпретация. По сути дела, само определение «сюжетов» в этой области стало возможным только после того, как была проведена систематизация материалов и предварительный их анализ.
В рамках выбранного подхода я рассматриваю фольклорные репрезентации книги как социальные проявления письменного. Я исхожу из того, что способы описания книг и способы обращения к ним в устной речи являются культурно и ситуативно обусловленными: зависят от принятых в сообществе или группе норм и связаны с другими социальными практиками. Очевидно, что и самый, казалось бы, обычный жанр обсуждения недавно прочитанной книги, и академическая традиция ссылок на научную литературу, и способ аргументации собственного мнения с помощью ссылки на авторитетную работу — все это явления не универсальные. Хотя они и кажутся нам вполне привычными, навыки такого «использования» книг приобретаются человеком в процессе социализации, а сами нормы меняются во времени и в пространстве.
Многие риторические стратегии, хорошо известные нам, используются, конечно, и крестьнами. К сожалению, риторика повседневного общения в деревенской России остается до сих пор мало изученной. Для характеристики общих стратегий, используемых крестьянами при обсуждении книг, я воспользуюсь материалами Северо-Западных фольклорных экспедиций, куда в последние годы попадало немало «посторонних» с точки зрения традиционной фольклористики данных. Их анализ показывает, что практика аргументации собственной позиции с помощью ссылки на книгу, хотя и встречается в рассуждениях крестьян, имеет достаточно ограниченное распространение.
Способ аргументации в разговоре всегда зависит от того, о какой информации идет речь, какие источники считаются авторитетными в этой области, и каким образом сам рассказчик позиционирует себя по отношению к этой информации. Например, в области религиозного знания традиционными авторитетами считаются пожилые люди, даже если они старше рассказчика всего на несколько лет. Очень характерным является стремление делегировать знание религиозных правил и норм кому-то другому, более сведущему в этих вопросах. Отсюда традиционная ссылка на «божественных» людей и просто стариков. Те же, кто сам претендует на авторитет в этой сфере, предпочитают ссылаться на книги, подчеркивая тем самым, что сами их читают и знают правила лучше других. Одна из информанток шесть раз сослалась на Библию в ходе полуторачасового интервью, посвященного локальным религиозным практикам, что является исключительным случаем как среди интервью на ту же тему с другими жителями этой деревни, так и в целом по отношению к аналогичным записям в Северо-Западном регионе. Печатный источник представляет для нее безусловно больший авторитет, чем местная устная традиция:
Собиратель: А кто они — Пётр и Павел? Вам никогда не рассказывали? Может, в детстве когда-нибудь, бабушка.
Информант: Дак зачем? Я и в этой. в Библии читала. Это же Иисуса ученики. Пётр и Павел, теперь. Матвей. Там много учеников-то, сорок у его было. Ну. Вот эти30.
Рассказывая о том или ином человеке, сельские жители используют и другой знакомый нам прием: в качестве свидетельства определенного статуса человека говорят о книгах, которые хранятся дома у этого человека. Этот риторический ход также встречается чаще всего при обсуждении вопросов религиозной жизни. В этом контексте почти никогда не встречается «Библия».
Называние книг в целом является редкостью для повседневной речи крестьян. Основная доля всех именований приходится на обыкновенное «книги» или «книжки». О своем дедушке одна из женщин рассказывает: «Он всегда. он по ночам почти не спал, сидит читает любые книжки святые. Он жил один, и всякие, всякие книжки читал"31. С помощью ссылки на хранящиеся у человека книги демонстрируется как его «божественность», религиозность, так и умение колдовать. Здесь можно встретить и аналогичное указание на «книжки», и ссылку на более конкретную — «черную книгу». Обладание «черной книгой» нередко оказывается в объяснении единственным доказательством статуса человека. Сообщение о книге здесь несет ту же информацию, что и рассказ о чертях, или «спорченной» свадьбе — указывает на то, что человек считается колдуном:
Парень рассказывал мне про свово друга. Спрашивал, верю ли я. Я говорю: «Не знаю». — «А я верю», — говорит. У них в деревне была бабка, могла что угодно сделать, вычитать, черная магия. Могла свадьбу спортить. Едет.
33 свадьба у самого леса, вдруг вместо лошадей — волки, и в лес побежали" .
30 Записано в в 2000 г. в д. Усадище Гдовского р-на Псковской обл. Ж., 1922 г. р. (АПЦ: ЕУ-Гдов-2000 ПФ-15).
31 Записано в 2003 г. в д. Менюша Шимского р-на Новгородской обл. Ж., 1930 г. р. (АПЦ: ЕУ-Шимск-03 ПФ-2).
32 «Там рядом все колдуны. Вася-то с Тамарой знают больше, чем кто-то. У них вот таки книжки. Они много знают, и Вася много знает и она. У них бабка — Васина мать очень много знала. Она какие-то и палочки бросала все время. Кто потеряется: или скотина, или человек — она выйдет на перекресток и какие-то палочки бросает, молитву прочитает, и вертается этот человек». Записано в 1999 г. в д. Заделье Хвой-нинского р-на Новгородской обл. Ж., 1930 г. р. (АПЦ: ЕУ-Хвойн-99 ПФ-5).
33 Записано в 1990 г. в с. Ивановское Старорусского р-на Новгородской обл. (Черепанова 1996: 84, № 320).
Вопрос о содержании книг в этом контексте оказывается попросту нерелевантен. Важным является не то, что написано в книгах, а сам факт их «хранения», их принадлежности тому или иному человеку. К числу немногих ситуаций, когда именно содержание книги оказывается важно для рассказчика, относятся описания гадания по книге и т. наз. эсхатологические нарративы.
Практика гадания по книге была заимствована в Россию из Западной Европы и Византии. В XIX в. она была широко распространена и в сельской местности, и в городе34. Тогда выпускались и специальные гадательные Псалтыри и другие книги для гадания. В конце XIX века подобная практика гадания, по всей видимости, активно применялась крестьянами во время обряда елеосвящения больного. В процессе ритуала дьякон держит разогнутое Евангелие на голове больного, а по окончании молитвы подает его приложиться больному. По воспоминаниям корреспондента журнала «Руководство для сельских пастырей», «в эту минуту кто-нибудь из присутствующих при елеосвящении. подходит к диакону и просит его прочитать те строки евангелия, к которым приложился больной» (Троицкий 1866: 231). По словам крестьян, «если тут хорошо написано на грамотке, то наш родимой кормилец встанет, а худо — помрет» (там же). Аналогичное верование было известно и в Восточной Сибири: «Всякий священник знает, когда напутствует, оз-доровеет больной, али нет <.>, если кому умереть — так священнику попадает в книге мертвый лист, когда он читает над больным» (С-ой 1875: 340).
В XX веке гадание по книге стало, по всей видимостью, редкостью, что отразилось и на его описаниях. Рассказы о гаданиях, записанные в конце XX — начале XXI века, крайне редуцированы, и сообщается в них, как правило, не о повседневной, доступной любому человеку форме гадания, а о гадании человеком знающим и авторитетным. В результате эти рассказы сближаются по форме с нар-ративами о местных «пророках»: знахарях, колдунах и божественных людях. Ниже описывается гадание по Еваигелию:
Дядю забрали на войну. Тетка тосковала, беду предчувствовала. Посоветовали ей сходить к старушке в Кочуново. Пошла тетка. Та бабка-то раскрыла Евангелие над головой и сказала ей, что надо подавать милостыню, но толь.
34 О распространении этой практики в Византии, Западной Европе и России см. в: Сперанский 1899, Хой-нацкий 1878: 181−182. ко так, чтобы никто не знал. <Дядя вернулся с войны>. Помогла ему теткина милостыня35.
Как и любой нарратив о гадании, описание гадания по книге мотивирует, объясняет уже произошедшее событие, в данном случае — возвращение дяди. Книге в этом контексте приписывается определенное содержание, но из-за редуцированности описания остается неясным, приписывается ли содержание — совет подавать милостыню — книге, или самой «знахарке». Чем более редуцировано описание гадания, тем больший зазор в «понимании» допускается нарративом:
А потом у нас тут дедка был золотой в Долбеево, так он по книжке гадал.
Скажет: «Не ходите никуда в лес. Ваша скотина придет вот на такой-то.
36 день" .
Из-за этого зазора рассказы о гадании иногда невозможно отличить от рассказов о местном пророке. В контексте традиционной крестьянской культуры рассказы о пророчествах и визионерстве занимают узкую, но достаточно устойчивую нишу. За все время моей полевой работы мне не встретилась ни одна деревня, где не рассказывали бы о местном богомольном старике, который предсказывал будущее. Предсказания обычно касаются наступления последних времен. Их топика, структура и функции подробно рассматривались другими авторами (Панченко 2002, Маслинский 2000, Белоусов 1991). Хотя эсхатологическая информация может предлагаться рассказчиком и без ссылки на книгу, большинство информантов подчеркивают ее книжное происхождение (Панченко 2002: 356):
Он не знал, что будет раньше. Только сказал, говорил, что у него така Библия была. Он там и читал и говорил: «Вот, это будет. Будете вспоминать» — вот.
35 Шеваренкова 1998: 47, № 181. Ср.: «Мой дед Петров Илья Иванович, старовер, стало их <деревню, где жили — В.В.> заливать, мой дедушка взял большую старинную книгу, три раза повернул на голове, да и открыл, если будет хорошая жизнь, пойдем на горку, а нет, так не пойдем. Открыл, смотрит — 'золотая гора'. Ох, ма. И первый дом, где мы живем сделал» (Власова 2002: 32).
36 Записано в 1997 г. в д. Зубово Хвойнинского р-на Новгородской обл. Ж., 1929 г. р. (АПЦ: ЕУ-Хвойн-97 ПФ-28). мы и вспоминаем все. Вот говорили, что железные птюшки будут летать, вот они и летают, ведь раньше не было этого ничего. С лампам сидели37.
Описание признаков конца света предлагается здесь как содержание пророчества и книги и всегда выделяется прямой или косвенной речью («У его всё прочитано. Он всё на свете знал. Придешь в болото за ягодам, он ходит. Он, было, и скажет, что «Погодите! Доживёте — будете на горы кататься на богах!38"39 «Ну богомольные, всякие книжки у нево были. Вот всё говорил, что при послед времени будет земля вся пятками омерена"40). Так же репрезентируется вычитанное содержание и в меморате о гадании знахаря по книге:
Информант: .Праздник был, дак после праздника носили, и он ходил к.
Мананайке.
Собиратель: Как его звали?
Информант: Мананайка. Я не знаю. так, прозвище ему было, наверное.
— погадай мне это: кто у меня будет жена? — холостой парень, — а он говорит. открыл Лакурь, да и говорит: «У тебя будет жена — баба Era, костяная.
41 нога" .
В обоих случаях опускаются правила интерпретации книжного текста. Содержание предсказания описывается не как результат совершенного перевода, а как текст, непосредственно вычитанный из книги. Различие между гаданием и предсказанием полностью нивелируется, если из рассказа вообще устраняется персонаж-интерпретатор. По воспоминаниям А. М. Селищева, «один старообрядец, ученый человек. говорил, что в Учредительном собрании будут выбирать хозяина земли русской по писанию, а писание укажет-де, что должен быть царь» (Селищев 1920: 11). Описание правил обряда является отличительным признаком репрезен.
37 Записано в 1998 г. в д. Заделье Хвойнинского р-на. Новгородской обл. 1923 г. р. Ж., 1923 г. р. (АПЦ: ЕУ-Хвойн-98 ПФ-37).
38 Имеются в виду иконы.
39 Записано в 2001 г. в д. Устрека Мошенского р-на Новгородской обл. Ж., 1910 г. р. (АПЦ: ЕУ-Мошен-01 ПФ-5а).
40 Записано в 1996 г. в д. Кречетово-Лохово Каргопольского р-на Архангельской обл. (АЛФ).
41 Там же (АЛФ). тации чтения как гадания, но ассоциация с предсказанием или пророчеством, думается, в этих текстах присутствует всегда.
Еще один тип обращения к книге, который также имеет устойчивую форму реализации и хорошо известен уже в XIX в. — это описание чтения, которое не предполагает получение информации. Термин «чтение» здесь можно использовать только условно. Сами крестьяне употребляют, как правило, глаголы «начитывать» или «отчитывать». Основной корпус текстов, где встречается такая репрезентация чтения, составляют былички о встрече с чертями и экзорцизме священника. В первом случае рассказывается о человеке, который захотел встретиться с чертями, прочитал книгу, принадлежавшую колдуну, в результате чего появились черти, с которыми читающий не сумел справитьсяему помогают либо соседи, либо сам колдун. В качестве способа изгнания чертей, вызванных чтением книги, иногда описывается обратное действие — «отчитывание». Этот же глагол используется и при описании экзорцизма — исцеления «кликуши» священником.
В рассказах о «начитывании» чертей и об «отчитывании» одержимых священником ничего не сообщается о содержании читаемой книги. В обоих случаях чтение понимается как перформатив, то есть книга читается ради самого акта пропитывания, а не ради получения информации.
Различные способы обращения к книге могут реализовываться в разных ситуациях и в форме разных сюжетов, каждый из которых имеет свою относительно независимую от других историю и сферу бытования.
Список наименований книг, встречающихся в фольклорных источниках, был практически полностью исчерпан О. В. Беловой (1995, 1999). Библия, Евангелие, Псалтырь, «черная книга» — наиболее частотные названия. Половину всех упоминаний составляют случаи, когда книга либо вообще не называется, либо используются достаточно случайные, представленные одним-двумя случаями названия: книга Лакурь, Святцы, «Брюсова книга», «Прокленная книга» и др.
Названия книг не существуют сами по себе, отдельно от рассказов о книгах. Привычный нам способ отождествления авторизированного названия и авторизи-рованного же содержания здесь не работает. Это хорошо видно именно по современным фольклорным записям, фиксирующим логику и риторику рассказчиков. Книги называются исходя из того, что принято называть в этой ситуации. Если мы попытаемся составить своеобразный каталог «фольклорных книг», то столкнемся с определенными трудностями. Между названием книги и ее характеристиками, будь то внешний вид или содержание, не существует устойчивых связей. Книги, которые носят разные названия, могут одинаково описываться и наоборот. Мы никогда не сможем установить, о какой, собственно, книге идет речь.
Существует ряд закономерностей между тем, какая книга в какой ситуации будет названа. Точнее, в каких ситуациях какая книга не будет названа. Например, при описании колдуна никогда не будет названа Библия. Но, если речь зайдет о религиозности того же самого человека, который только что был назван колдуном, этот человек может быть представлен и как местный «пророк», читающий Библию. Библия очень редко встречается в рассказах об изгнании бесов священником и никогда — в меморатах о появлении чертей. Название «черная книга» имеет очень узкую сферу бытования и встречается только в рассказах о колдуне и «начи-тывании чертей».
Эти закономерности не связаны, тем не менее, с качествами книг. Поэтому название книги не может быть отправной точкой для исследования ее фольклорных репрезентаций. Иными словами, исследование фольклорных репрезентаций Библии, Евангелия, Псалтыри, «черной книги» и т. д. бессмысленно, поскольку в самом фольклоре мы не находим строгих правил именования книг. Разные книги характеризуются не разными названиями, а разными способами описания и использования.
Именно поэтому мне представляется наиболее продуктивным анализ не репрезентаций отдельных книг, а того социального контекста, который сделал возможным реализацию определенных способов их описания и использования. Таким образом, в центре моего внимания в этой работе находятся не книги, а те явления, с которыми они связаны.
Поскольку каждая глава исследования построена исходя из результатов, а не процедуры анализа, я в каждом отдельном случае выбирала тот способ изложения и такую логику рассуждений, которая позволяет, с моей точки зрения, наилучшим образом показать процессы формирования и изменения способов воображения книг. В результате, отдельные части этой работы зачастую выглядят самодостаточными и не связанными друг с другом.
Такой способ представления результатов исследования выбран вполне осознанно. Несмотря на то, что целый ряд явлений и процессов оказал влияние на все рассматриваемые способы описания и использования книг42, мне хотелось избежать общих объяснений, показав, что одии и те же события по-разному отражаются в различных областях и не имеют универсального значения для всех случаев.
Структура работы.
В этой работе я рассматриваю несколько различных аспектов социального вображения книги. В первой главе анализируется история и сферы бытования одного из наиболее ранних сюжетов, связанных в русском фольклоре с книгой. Этопротивопоставление книг «истинных» и «ложных», известное, прежде всего, в старообрядческой традиции. Предметами воображения в данном случае являются не конкретные книги, а типы книг. Обоснование такого различения требует мотивировок, понятных рассказчикам и опирающихся на местные практики и фольклор. Свойства и признаки «истинных» и «ложных» писаний конструируются крестьянами па основании принятых способов описания книг и практически не связаны с содержанием самих письменных текстов. Сюжет об исправлении книг сохранил свою актуальность в старообрядческой среде вплоть до сегодняшнего дня. Вместе с тем социально-исторические изменения привели к его существенной трансформации. Особенности этого процесса, а также происхождение и развитие основных сюжетных мотивов являются предметом анализа в первой части работы.
Вторая глава посвящена практикам «отчитывания бесноватых» и происхождению широкого круга сюжетов о «магических» книгах. Эти книги являются воображаемыми par excelence: они регулярно упоминаются в народной прозе, но не существуют с точки зрения исследователя. Несмотря на кажущуюся иррациональность, бытование подобных рассказов, как я пытаюсь показать в этой части работы, во многом объясняется широким распространением и рецепцией риутала, исполняемого священником.
Еще одним аспектом социального воображения книги является восприятие, понимание книжного текста. Информация, содержащаяся в книге, осмысляется людьми в привычных им категориях и терминах. Для понимания механизмов ипе-терпретации текста требуется анализ существующих в сообществе моделей обсу.
42 К их числу относятся события «большого масштаба», такие как распространение христианства и печати, образовательная политика и повышение уровня грамотности, изменение отношения Русской Православной Церкви к народной религиозности и др. ждения книг и практик чтения. В третьей главе анализируются материалы этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева, посвященные народным слухам и толкам о комете рубежа Х1Х-ХХ веков. Эти данные позволяют с рядом допущений судить о механизмах включения новой печатной информации в крестьянскую речь и фольклор, способах ее адаптации и зависимости от традиционных моделей интерпретации письменных текстов.
Заключительная часть работы посвящена способам адаптации в крестьянской среде одного из центральных для христианской догматики понятий — Священного Писания. Широкое распространение этого концепта на всей территории христианского мира определило заимствование в крестьянский фольклор самого термина «Библия» и его интерпретацию как наиболее авторитетного источника информации. Сам же авторитет конструируется крестьянами с помощью тех средств, которыми располагает крестьянская традиция и фольклор, и которые существенно отличаются от средств, используемых христианскими богословами или образованной интеллигенцией.
Результаты исследования показывают, что книга является предметом не только материального мира, но и социального воображения. В этом качестве она оказывает существенное влияние на взаимоотношения людей, способы самоопределения и уклад жизни. Авторитет и значение книги определяются историей ее распространения и использования, а способы интерпретации письменного текста зависят от принятых в сообществе моделей обсуждения. Функции книги как предмета социального воображения определяются конфигурацией самого сообщества и меняются с изменением социально-исторических условий.
Одним из основных результатов работы является апробация новых методов в исследовании роли «письменного» в обществе. Традиционные способы описания книги и отношение к ней зачастую объясняются не общими свойствами «письменного» как культурного феномена, а конкретными особенностями быта и фольклора крестьян.
В работе показана история распространения и изменения практик чтения в сельской России, особенности отношения к чтению религиозной литературы и связь между различными религиозными обрядами и отношением к книге.
Заключение
.
Не так уж много осталось сказать в заключение. Когда я начинала эту работу, мне казалось, что собрав вместе разрозненные и разбросанные по разным источникам сведения об использовании письменных текстов, я смогу составить общую картину под названием «письменное в народной культуре». С тех пор утекло столько воды, что понятие «народная культура» перестало казаться мне адекватным, а понятие «письменное» вообще утратило всякий смысл.
Попытки составить вместе разные фрагменты не привели к появлению целой картины. И, кажется, потому, что ее не существует. Не существует вообще письменного, также как нет вообще грамотности, вообще веры, вообще канона, и вообще книги. Все это кем-то для чего-то используется и только в контексте этого использования приобретает форму и значение.
В этой работе я рассматриваю достаточно специфические способы использования письменных текстов, которые с точки зрения «современного человека западного типа» не являются нормальными. Позволю себе лирическое отступление. Во время обсуждения одной из частей этой работы среди специалистов по истории «книжных» религий, в какой-то момент поднял руку исследователь Корана и с некоторым смущением спросил меня: «Скажите, а где эти ваши крестьяне получали образование?» Этот вопрос очень развеселил меня. Именно на такую реакцию я и рассчитывала, когда готовила выступление. Мне хотелось показать, что у канонического текста может существовать и существует совсем иная жизнь, лежащая вне тонких построений апологетов религии. Что само понятие «канон», конструируемое и «воображаемое» религиозной элитой, за ее пределами также конструируется и «воображается», но с помощью других средств. И эти средства представляют не меньшее значение для понимания функций религиозного канона, чем история текстов Торы, Библии или Корана.
Книги, которым посвящена эта работа, не существуют. Но они не существуют потому, что не в этом заключается их функция. Во всех рассмотренных контекстах книги оказываются предметами социального вообраэ/сения, которые служат инструментами концептуализации границ группы, как в случае с истинными и ложными книгамиритуала, когда речь идет об изгнании бесовстатуса в обществе — крестьянская риторика Х1Х-ХХ вековили главного источника наиболее акту.
171 альной для крестьян информации. Способы воображения менялись вместе с самим обществом, а, значит, менялись и книги — не важно реальные или только придуманные.
Возможно, более правильным и логичным было бы применение антропологических подходов к исследованию грамотности, чтения и письма в другой области: там где, где книги выбирают, покупают, читают, обсуждают, хранят, дарят, меняют, учат наизусть, переписывают и т. д. Область повседневного использования книг в России до сих пор очень слабо изучена.
И все-таки это исследование о другом. Отчасти такой выбор темы связан с моим фольклористическим опытом, отчасти с непоколебимым влечением к экзотике, отчасти с общим интересом к изучению вопросов народной веры. Все эти субъективные причины, однако, не уменьшают актуальности самой задачи исследования социальных проявлений письменного, где даже в области воображаемых книг еще далеко не исчерпаны все возможные темы.