Аристократизм как феномен средневекового мышления
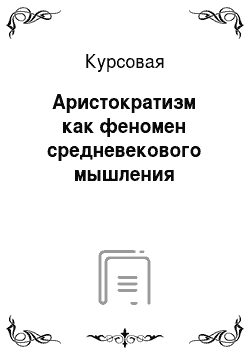
Как уже говорилось выше, рыцарский слой тяготел к большей космополитичности, но при этом его представители были основными носителями этнического самосознания. С одной стороны, аристократы узнавали себе подобных в культурах соседей, они (как и Церковь) были создателями европейской метакультуры с общими идеалами, похожими структурами, модой, обменом искусствами и т. п. С другой стороны, это… Читать ещё >
Аристократизм как феномен средневекового мышления (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Категории средневекового аристократизма: от язычества к христианству (V-XI вв.)
1.1 Взаимосвязь языческих и христианских элементов в нравственных и социальных идеалах Средних веков
Раннесредневековая история Европы — это история становления христианства и его взаимодействия с языческими культурами, и в этом контексте следует строить исследование категорий аристократического мышления; начать же его необходимо с рассмотрения самой проблемы восприятия христианской проповеди в языческой Европе, затронув тему мифологичности и аллегоричности мышления средневекового человека.
По-прежнему встречается суждение о том, что рыцарский идеал Средних веков представляет собой идеологию, навязанную аристократии и военному сословию с политическими и корыстными целями, а не итог закономерного развития европейской культуры. Идеологичности и «навязанности», как правило, дается негативная оценка, основанная на негативном отношении к Церкви и христианству, на уверенности в том, что рыцарские идеалы были маской, иллюзией, или только красивой поэзией, прикрывавшей алчность и властолюбие. Поддержка рыцарской этики Церковью и превознесение рыцарского служения церковными авторами считается указанием на то, что именно они его и создали. Все это представляется несовместимым с искренностью следования рыцарским образцам.
С другой стороны, христианcким исследователям, осмысляющим историю, иногда свойственно не замечать, либо чрезмерно занижать этические ценности языческой культуры. Безусловно, с точки зрения христианина, представления о добродетели, о природе блага, истины и красоты неизмеримо выше ценностей, существовавших в обществах, не знавших Откровения. Однако именно христианское богословие предполагает, что высокие принципы любви, дружбы, служения являются частью естественной природы человека. Следуя, насколько возможно, пути правды, человек, находящийся за пределами христианской культуры и морали, может являть пример доблести и чести, жертвенности и любви, приближающих его к христианскому идеалу — именно таково учение Католической Церкви. Образцы подобной «праведности вне Христа» занимали умы христианских мыслителей во все времена.
Между германским или кельтским воином и средневековым рыцарем нельзя поставить знак равенства, но не следует также утверждать, что все лучшее в рыцарском габитусе создано церковными авторами или Кретьеном де Труа, а худшее — пережиток язычества. Еще Ж.-Б. де Санта-Пэле, пионер в исследованиях рыцарства, высказывал мнение, что рыцарственность рождается в миру, являясь следствием прежде всего общечеловеческих установок, естественного для социума порядка вещей, где успех и положение покоятся на покровительстве и защите. Многие элементы культуры и мышления, характерные для аристократов рыцарской эпохи, появились из древнего комплекса культурных и социальных установок. Христианство восприняло, оформило, и в чем-то даже украсило этот социальный образец, но никак не создало его. Чтение саг создает впечатление не замены одного другим, а перерождения культуры, именно перехода в другое состояние. Изложение реалий дохристианского времени часто созвучно описаниям христианизированных скандинавов или ирландцев. Только в процессе чтения становится ясно, что речь идет уже о христианах, и можно отметить изменение качества и содержания старых обычаев. И добродетели, и пороки этих миров оказываются переплетенными.
Христианская философия, впрочем, предполагает, что корень всего праведного и благого во всех мировых религиях — в Едином Боге, даровавшем человеку моральный закон. В библейском повествовании встречаются похвалы в адрес праведных язычников и утверждения о присутствии истины в нехристианских культах. Потеряв непосредственную связь с Богом, все дальше отдаляясь от Него, человек может по-разному трактовать вложенный в его душу моральный закон. Но сходство, обнаруживаемое в языческих и христианских (а прежде — в библейско-ветхозаветных) этических установках, для христианина оказывается не иллюзией, а указанием на единый онтологический источник морали.
Еще одна идея, с которой можно столкнуться, — это представление светского рыцарского идеала нехристианским: «Рыцарская этика была важнейшей составной частью средневекового сознания. Точнее можно было бы сказать, что она формировала у многих представителей аристократии особый тип сознания. Но сознания также нравственного, поскольку оно опиралось на этические ценности, — не только, а подчас и не столько христианские, сколько выработанные богатой и самобытной рыцарской культурой». Может показаться, что аристократия существовала в мире собственной этики: этики героев, находящейся за пределами общепринятой морали.
Одинаково неверно считать, что христианская религия была искусственно созданной «идеологической тюрьмой» и повсеместно полностью уничтожила языческие культуры (которые необходимо отличать от собственно религиозного чувства), или же видеть ее бессильной перед традиционными верованиями или любыми другими «этиками».
Военно-рыцарский аристократический идеал — в истории культур сквозное явление. «…Рассмотрение евразийских обществ на обширном пространстве от Гибралтара до Японских островов убедительно показывает наличие ряда социальных образований (арабские фарисы, адыгские уорки, тюрко-монгольские „батыры“, индийские раджпуты, японские самураи и др.), деятельность которых отразилась в эпических, исторических и др. произведениях, имеющих немало общих черт, которые позволяют рассматривать западноевропейское рыцарство на фоне этих воинских сообществ». При этом неевропейские аристократические военные элиты не были христианскими по преимуществу.
Выделим три важных закономерности соединения христианского и дохристианского:
1. Прежде всего, имели место образцы благородного поведения, а также установки, которые, за некоторыми исключениями, оказались совместимы с христианской моралью. Конечно, о полной идентичности здесь говорить нельзя. В христианскую эпоху древние мифологические образцы получили развитие. Особенно интересны представления и явления культуры, которые и язычник, и христианин, рассуждая схожим образом, оценивают положительно.
С точки зрения христианства, человек имеет возможность преодолеть свои пороки и достичь подлинного совершенства во всех поступках. Ему предлагается целая система инструментов, гораздо более сложная, чем мог дать идеал языческий, но главное — ему дается уверенность в успехе. Для языческого мышления недостойное рождение, уродство и дурной характер были следствием рока, с которым спорят лишь единицы, действуя наперекор всему. Исправление судьбы достигается ценой героических усилий, а не по милосердию богов. Согласно христианскому учению, в центре божественного внимания находится человеческое сердце, и всякое нравственное совершенство оказывается итогом взаимного стремления человека и Бога. В языческом мировоззрении акценты расставлены совершенно иначе, а достоинства и недостатки личности вовсе не являются основным предметом внимания богов.
2. С другой стороны, именно понятность некоторых идеалов (и историческая близость эпохи героического эпоса) не позволяла христианству полностью изжить некоторые сомнительные элементы. Как скандинавский герой преступает представления обыденной морали, так и романный рыцарь — идеал расцвета Средних веков — может вызвать справедливое нарекание, например, ввиду легкости, с которой он относится к убийству рыцарей, встающих на его пути, в ситуациях, которые не угрожают ни его жизни, ни чести, а являются исключительно следствием его тяги к славе. В христианскую эпоху имели место — и в романах, и в жизни — такие модели поведения, которые в язычестве могут быть нормой, но в христианском обществе скорее видятся болезнью и искажением ценностей. И нет, пожалуй, более яркого примера, чем захватнические набеги, совершаемые одними аристократами на замки других, войны, которые с точки зрения языческой морали были нормальной практикой. Не менее иллюстративен и очень долго изживавшийся обычай кровной мести.
В хрониках можно заметить, что после крещения часто не происходит существенных перемен в действиях, особенно военно-политического характера. Войны, захваты, интриги и конфликты продолжаются. Обращение в христианство авторы хроник и жизнеописаний воспринимают не так, как ожидал бы современный читатель. Современный человек ожидает увидеть духовный переворот, а хроники акцентируют внимание на строительстве церквей, приглашении епископов и поддержке священников как наиболее актуальном следствии личного обращения правителя.
3. Наконец, встречаются описания поступков, которые преступны в нормах и языческой, и христианской этики.
Четкую грань между христианской и языческой культурой провести затруднительно. Нигде и никогда не существовало какого-то идеального, «чистого» христианства, вне рамок конкретной культуры, лишенного дохристианских пластов. Причем влияние той культуры, в которую христианство приходило, всегда имело и положительные для него, и отрицательные стороны. «Редко можно дать определенный ответ относительно того, что среди феноменов эпохи викингов является чисто христианским или же чисто языческим — если такое вообще возможно. Нам приходится довольствоваться известной степенью вероятности». То же верно для кельтов и других народов Европы.
Социальные действия в Средние века часто воспринимались как основное проявление мыслей и внутренних установок личности, особенно это характерно для переходного периода обращения в христианство. Интересно, что для некоторых людей и групп людей обращение, видимо, означало, прежде всего, принятие власти — епископской или даже власти аббата (т.е. под обращением подразумевалось поступление в монастырь). Для первых епископов социальное поведение могло являться чуть ли не более существенным знаком обращения, чем принятие крещения, что можно видеть на примере отношения епископа Римберта к шведскому королю Хорику II Младшему (854 — ранее 873).
В христианство обращались, следуя воле правителя, зачастую весьма жесткой. Да и Сам Христос представлялся крестителями как могущественный господин, конунг, король. Пример, который подавали правители, оказывался очень важным. За знатными людьми следовали остальные члены общества, и о крещении не под давлением, а по примеру знати мы читаем в Саге об Олаве, сыне Трюггви, в житиях многих святых королей. С другой стороны, новокрещеные зачастую по сути и не знали ничего о христианской вере, лишь следуя повелению, примеру, или боясь казни. Совершать духовный переворот в душах людей было уделом священников.
Вышеизложенное не свидетельствует о том, что само существо новой веры совершенно не имело значения, однако религиозные ценности были тесно связаны социальным пластом жизни людей, и последние могли выходить на первый план по значимости. Социальный облик неразрывно связан с мировоззрением, второе не мыслится без первого, т. е. невозможно исповедание какого-то мировоззрения без того, чтобы это не отложило отпечаток на положение человека. Этот тезис остается верным даже в том случае, когда, как это ярко видно на примере христианства, религия принимается, но ее требования не исполняются с полной отдачей и искренностью.
Рассматриваемую нами преемственность изучают не только современные ученые; средневековые мыслители также уделяли ей внимание — и, вероятно, не случайно, не из-за личной склонности, а полагая важным укрепить связь родной культуры с верой и утвердить достоинство предков через демонстрацию «христианства без Христа» и родства их представлений о правильном с христианскими взглядами. В трудах Уэссекского короля Альфреда Великого, почитателя учености, сочетаются библейские и англосаксонские образцы. Привычное для его культуры представление о верности и преданности правителю как главной добродетели подданного он находит и в библейской истории, и в посланиях апостола Павла. А лучшей характеристикой для Боэция, которого он переводил, Альфред посчитал достаточно традиционное представление его «благородным вождем, который был известен [воинскими] подвигами и щедростью на подарки».
Христианские авторы, описывая добродетели языческих героев, иногда представляют их как бы во всём христианами, кроме крещения. «Был некогда в королевстве Швеция один король, по имени Олав, человек большой доброты, трудолюбия, но также и благоразумия, да и в делах воинских необыкновенно удачливый. В сердце его жило благочестие, не потому, однако, что он знал, что это такое. Ибо он был язычником и поклонялся идолам, ничего же другого не ведал».
Удивительно, что при описании рыцарской истории и рыцарской этики по большей части упускается из виду целый пласт литературы, в которой библейские сюжеты и жития святых представляются в стилистике и поэтике, традиционной для германцев. Между тем, именно они показывают, как сформировался идеал христианского воина, питающийся христианской моралью, но уходящий корнями в германское мировоззрение и поэзию. В поэзии Кэдмона, Кюневульфа и их современников (VIII-IX вв.) святые, иудейские праведники, ангелы и сам Бог представляются эпическими героями, а их действия и взаимоотношения приведены в соответствие с германскими обычаями и идеалами. В поэме «Грехопадение» Бог показан королем в окружении дружины. Как и идеальный король, Бог милостив и щедр, раздает дары своим верным воинам и требует взамен преданности. Таким же вождем предстает и Сатана до своего падения. Еще более показателен древнесаксонский перевод Евангелия «Гелианд» (The Heliand), в котором события передаются на символическом и социокультурном языке саксов.
Еще одним интересным фактом пересечения язычества и христианства представляется средневековая молитвенная традиция, унаследовавшая структуру заклинаний: таков, например, «Щит св. Патрика» или исландские молитвы, записывавшихся рунами.
В соответствии с логикой героических саг, внутреннее переживание новой веры в раннесредневековых хрониках и художественных произведениях отходит на второй план. Краткие упоминания о переменах в душах крещеных героев по форме и содержанию, по краткости и образности соответствуют эпическому мировидению. Традиционные образы сочетаются с библейскими. «Как второй Давид, он [Харальд Смиренный. — О.К.] более оплакивал вероломство сына, нежели собственные несчастья»
Примером органичного сочетания «двух миров» является «Беовульф». Как бы ни было сложно узнать его истинные корни, это образец того самого слияния неслиянного: древняя по форме сага, с характерным сюжетом и героями, изложенная христианским автором. Не только «Беовульф», но и другие памятники устного наследия были сохранены только благодаря христианам, их записавшим, и они открыли нам подлинный внутренний мир представителя германского или кельтского племени. А. Я. Гуревич, обращая внимание на этот факт, тем не менее, уверен в несовместимости двух идеалов: «Англосаксы VII—VIII вв.еков были христианами, но христианская религия в то время не столько преодолела языческое мировосприятие, сколько оттеснила его из официальной сферы на второй план общественного сознания. Церкви удалось уничтожить старые капища и поклонение языческим божкам, жертвоприношения им, что же касается форм человеческого поведения, то здесь дело обстояло гораздо сложнее. Мотивы, которые движут поступками персонажей „Беовульфа“, определяются отнюдь не христианскими идеалами смирения и покорности воле божьей. „Что общего между Ингельдом и Христом?“ — вопрошал известный церковный деятель Алкуин век спустя после создания „Беовульфа“ и требовал, чтобы монахи не отвлекались от молитвы героическими песнями. Ингельд фигурирует в ряде произведений; упомянут он и в „Беовульфе“. Алкуин сознавал несовместимость идеалов, воплощенных в подобных персонажах героических сказаний, с идеалами, проповедуемыми духовенством».
Безусловно, Алкуин сознавал опасность очарования языческими повествованиями для христианского мышления. Понимал, что увлекшись эпическими героями, его подопечные могут отвернуться от самого Христа. Как и многие другие, он стремился изжить то, что представляет малейшую опасность, и либо не задумывался о каком-то родстве, либо считал, что оно еще больше вредит слушателю, обманывая его сердце. Но Алкуина волновали вопросы веры и спасения, мы же рассматриваем не существенное содержание веры, а социальные и культурные формы, созданные или переродившиеся под ее влиянием.
Следуя логике самих писателей раннего Средневековья, можно выдвинуть тезис о том, что христиане Средних веков восприняли идеи, заключенные в эпосе, и практически сделали образы выдающихся аристократов и правителей воплощением мифологических архетипов. Именно христианство с его требованиями воплотить идеал в реальность представило правящую и воюющую элиту как настоящее сословие эпических героев.
Средневековое христианство и язычество объединяются мифологичностью мышления (в той трактовке мифа, которую давал А.Ф. Лосев). Средневековый человек уделяет мало внимания достоверности рассказа, переделывает истории, чтобы они стали полезными и поучительными, вставляет в хроники сюжеты и детали, подсказанные ему фантазией, молвой или даже собственными представлениями об этике. Все это он делает потому, что миф как образец поведения для него гораздо важнее достоверности. Достоверность как таковая, факт сам по себе не несет для него такой же ценности, как для современной науки. Даже тогда, когда нельзя было с уверенностью говорить, что святой или герой существовал в действительности, его не отторгали как образец поведения или объект почитания (проверять подлинность информации мало кому вообще приходило в голову).
Для язычника, слушателя и рассказчика мифа, величие героя и ценность саги в том, что они — пример другим, в этом их истинность. Мифологическое мышление и отношение к факту стали основанием для идеи того «сословия эпических героев», которым стали рыцарство и аристократия в средневековой социальной мысли. Факты, противоречащие образцу, не дискредитировали его, поскольку образец имел ценность, значительно превосходящую ценность факта, а идеал представлялся более реальным, чем сама реальность. Идеал имел более совершенное непреходящее бытие, имевшее опору в божественном порядке, а реальность была лишь преходящим мгновением, рассказ о котором без сомнений подгонялся под идеал.
Любовь средневекового человека к емким образам, идеальным моделям (и не только к положительным, но также к ярким образам антигероического, аморального поведения), роднящая его с человеком античности, обычно рассматривается как феномен в рамках литературоведения, в то время как это важный аспект мышления, в том числе и этического. Идеал сам по себе гораздо более органичен мышлению Средних веков, чем любой другой эпохи, поскольку именно тогда существовала настоящая «жажда» точных архетипов, детальных образцов, одушевленных ценностей, наделенных именами собственными, начертанными с прописных букв — таких как Добродетели и Пороки, Любовь и Мудрость, Алчность и Гордыня. В миниатюрах, в поэзии и театре предстают Рыцарь, Король, Монах, Землевладельц; Влюбленный и его Дама.
Средневековый человек был слушателем и рассказчиком историй, центром которых был идеал, и это должен понимать исследователь, работающий со средневековыми источниками. Повествование о великих идеях и идеалах захватывает средневекового слушателя, а желание претворить их в жизнь превращает его, в какой-то мере, в актера. Его чувства и размышления, муки выбора и истинная борьба между добром и злом в его душе часто остаются за кадром, а на сцене жизни он выступает как Идеальный Герой, исполнитель того или иного архетипа. По большей части, мир средневекового рассказа (будь то историческое повествование или художественный вымысел) как бы исключает повседневность с ее противоречиями и сложностями и выхватывает героя в тот момент его жизни, когда он сливается с архетипом, и через это слияние становится до конца тем, чем должен, исполняя написанное на роду, представая не конкретным человеком с определенной биографией, а Рыцарем или Аристократом. Мифологическое мышление, таким образом, вполне может считаться источником театральности, свойственной рыцарской культуре в ее куртуазном воплощении.
Ввиду сказанного, разрыв между социокультурным идеалом и поступками реальных людей воспринимался современниками несколько иначе.
Еще одна яркая черта мифологического мышления — его взаимосвязь с принципами коллективизма. Проблема индивидуума и социума, как представляется, в средневековом мифе (а затем в средневековом романе) полностью решается, поскольку главные действующие лица, будучи индивидуальными героями и творя свою уникальную судьбу, проживают традиционные ценности и утверждают традицию, в которой и существуют повествования о них. Опора на социум (коллектив, общество), как и строгие законы традиционных жанров и искусств, позволяет раскрыться личности, в то время как бескультурье и антитрадиционность обедняют человека, лишая средств для подлинного самостановления. Без общего языка понятий и ценностей (создаваемого традицией) человек не в состоянии находить понимание и внимание других. Поэтому индивидуализация культуры есть порочный круг, так как разделение людей приводит к обеднению культуры, а оно, в свою очередь, к новым виткам индивидуализации и разрушению личностного.
Изучая сходные черты языческих и христианских социальных идеалов, нужно внимательно относиться к тому, что внешне похожие элементы могут иметь различное содержание. О подлинном отношении человека прошедших эпох к некоторым сюжетам мы часто не знаем с достаточной достоверностью. Поставить знак равенства между социальными установками христианства и язычества невозможно. При этом изучение их общих черт необходимо, поскольку это позволяет лучше понять действительную роль христианской религии и настоящее содержание языческой этики, а также удерживает исследователя от крайностей в суждениях. В конечном итоге, мы начинаем лучше понимать реальность, стоящую за понятием «общечеловеческих ценностей».
Нельзя утверждать, что между христианским и языческим воззрением на социальное поведение и нравственность нет никакой разницы. В действительности, эта разница весьма существенна, но нужно отметить, что почва, на которую легла христианская проповедь, вовсе не была бесплодной. Некоторые образцы правды и правильности христианству оказались созвучны. Благородство, сочетающее в себе верность, мудрость, щедрость, смелость и благоразумие, не является творением церковных авторов расцвета Средневековья. Подобные представления встречаются не только в дохристианских по происхождению европейских текстах, но также в истории и наставлениях неевропейских народов. Невнимание к этому факту искажает наше восприятие истории. А. Я. Гуревич отмечал: «Ментальные установки и стереотипы поведения средневековых людей едва ли могут быть адекватно уяснены, если пренебречь варварским субстратом верований и ценностей».
Действительно, не следует намеренно затушевывать многосоставность средневековой культуры, стараясь упростить ее основания и определить ее, например, как «чисто» христианскую (что крайне сложно хотя бы потому, что христианство в Европе облеклось в форму этнических языков, образов и идеалов), а все этническое, античное, иудейское принять, как несущественное отклонение от принятой «нормы». Мир средневековой культуры состоял из противоречивых, порой взаимоисключающих друг друга элементов, как, впрочем, и всякая культура. Причина тому не только в устойчивости языческих верований или в привычках конкретных людей, но и в том, что христианство обретало в каждой культуре свою особенную форму, соприкасаясь со специфическим этническим мышлением и характером.
1.2 Проблема «христианского» в изучении средневекового аристократического мышления
Средние века традиционно считаются эпохой расцвета и наибольшего влияния христианства на культуру и политику. При ее рассмотрении приходится делать те или иные утверждения о христианской религии. В связи с этим необходимо коснуться некоторых проблем и нюансов, связанных с правильным прочтением христианства и его культурной роли, а также подчеркнуть личностный характер этой религии как учения об идеальной Личности.
Не так просто определить, что можно без оговорок называть «христианским». Какие явления подлинно христианские, а какие — нет? Как ориентироваться в конфессиональных различиях? Как правильно определить положение того или иного теологумена по отношению к учительству Церкви? — не всякий ученый вникает в эти вопросы, а невнимательность к христианским реалиям приводит к ложным оценкам и копированию шаблонов. Так, из одной работы в другую «кочуют» утверждения о Крестовом походе на Русь, о «рождественском» характере католической духовности, о презрении ко всему «мирскому» среди христиан в Средние века и т. д.
Медиевистам чаще приходится иметь дело именно с католическим воплощением христианства, в связи с чем важно понимать специфику Католической Церкви. Христианская религия в рамках крупнейших конфессий имеет твердый стержень в виде Священного Писания и Предания, Соборных постановлений, догматов, толкуемых определенным образом, — учение, представленное ими, считается окончательным утверждением истины. Особое внимание и уважение отдается трудам святых Отцов и Учителей Церкви, но в них можно встретить неточности и даже почти еретические высказывания. Следует различать наставления Церкви, обязательные для всех ее членов, и наставления пастырей; догматы и богословские мнения.
Католическая практика весьма многообразна, включает в себя множество обрядов, культур, различные направления богословия. Нравственное учение, основываясь на едином базисе Заповедей (10 Заповедей, Заповедей Блаженства, Заповедей Церкви), получает различное воплощение в ту или иную эпоху, в той или иной общине. Акценты в представлениях о добродетели стороннему наблюдателю могут казаться противоречивыми и, тем не менее, ни в чем не противоречить учительству Церкви. Христианство вмещает в себя и путь справедливого воинствования, и предельное миролюбие францисканства, схоластическую науку и традицию юродства, затворничество созерцательных монастырей и публичную жизнь святого-аристократа.
Некоторые обычаи, элементы культуры и быта, искажающие христианскую веру, все-таки находятся именно в христианской плоскости религиозного мышления и культуры. Их нельзя назвать, скажем, «атеистическими», «мусульманскими» или «языческими» только на основании существующих в них искажений. Так, например, отдельные раскольнические общины, принципиально не имеющие священников, с точки зрения учения Католической и Православных Церквей будут считаться лишенными весьма важного элемента, определяющего христианскую религию. Но верование представителей подобных общин остается хоть и видоизмененным, но все же христианством.
В иных случаях искажения действительно связаны с образом мысли и поведением, присущими язычеству, нехристианским религиям и нехристианской философии. Идолопоклонническое отношение к священным предметам, магическое использование святой воды или реликвий хотя и рождаются в среде христиан, но по сути остаются языческими.
Сосуществование законов Церкви, различных их интерпретаций и частных практик составляет сложную реальность, при изучении которой необходимо учитывать ряд факторов, которые изложены ниже.
1. Сложнейшей проблемой для ученого, на наш взгляд, является то, что представители различных течений и конфессий по-разному понимают «истинное христианство». Правильное понимание христианства — тонкая проблема. Верующий не назовет «христианским» еретическое учение, не будет признавать полноценной церковью общину, находящуюся в расколе. Поэтому противоречия как между исследователем и верующим, так и между исследователями, принадлежащими к разным направлениям христианства, неизбежны. Невозможно говорить о «христианстве вообще», поскольку даже те элементы данной религии, которые кажутся общими для всех, могут иметь несколько законных трактовок.
Многие обращают внимание на то, что христианство — это религия любви, но для глубокого ее понимания важно обозначить особое место Христа. Истинное христианство — это Сам Христос, а не только следование Его учению, по-разному понимаемому. Будучи совершенной идеальной личностью, Он призывает и человека достичь личностной полноты, соединившись с Ним. Поэтому образ Церкви — Тела Христова является не только лишь аллегорией, а указанием на мистическое единение верующих со Спасителем в установленных им Таинствах.
Христос утвердил ценность каждой личности, Сам (как истинный Бог и истинный Человек) стал целью и идеалом человеческой жизни. Данное учение, став открытием личности, не только придало совершенно особый характер средневековой культуре, рыцарским идеалам (в отличие от военных идеалов нехристианских культур), но и обусловило дальнейшее развитие всей европейской цивилизации.
2. Необходимо различать закон и обычай. Обычаи, принятые в различных общинах в разные исторические эпохи, не могут безоговорочно приниматься как отражающие истинное лицо религии. В обычаях учение воплощается с определенным акцентом. Заповеди из века в век остаются одними и теми же, но для следования им каждая эпоха создает свой образец правильного действия. Строжайшие запреты, существовавшие в одно историческое время, могут исчезнуть в последующие века. Традиций же святости, молитвы, благочестия в христианстве такое множество, что невозможно свести их к одному шаблону. Предписания учителей и богословов могут получить различного рода резонанс не только среди потомков, но и среди современников. Поэтому при цитировании их работ важно иметь представление об оценке современников, а также о мнении Церкви, вынесенном относительно них впоследствии. Требования к образу жизни могут меняться от крайне жестких (почти пуританских) до весьма умеренных. По постановлениям Бурхарда Вормсского (немецкого знатока канонического права XI в.), посвященным злоупотреблениям в браке, можно смело сделать вывод об унижении брака в христианской религии, неприязненном отношении к супружескому общению. Вместе с тем, существует прекрасное поучение св. Иоанна Златоуста, Отца Церкви, почитаемого и католиками, и православными, которое является поистине песнью величию супружества. Явления, обусловленные культурой, обычаями социума или даже личными интересами, не должны называться христианскими обычаями и христианским законом. Необходимо описывать и оценивать не только обычай, но обращаться и к собственно Учению Церкви той эпохи и современному, дабы не приписывать христианству того, чего в нем не было. Следует отводить всему свое место, описывая искажение как искажение, обычай как обычай, не злоупотребляя выражениями «Церковь учит» или «в христианстве считается».
Христианская мысль и обычаи подвергаются различным культурным и философским влияниям, которые могут придать специфический оттенок нравственным нормам, а также ввести в ересь или язычество. Научная точность требует учитывать источник этих влияний. К примеру, наставления упомянутого выше Бурхарда Вормсского созданы под сильным впечатлением от ветхозаветного левитского учения.
3. Представления и высказывания рядовых христиан не являются учением Церкви. Во все времена в Церкви был невелик процент людей, которые действительно глубоко изучали богословие. В Средние века рядовому христианину, даже священнику, было трудно соблюдать предельную точность в высказываниях относительно веры. Представление о вероучении во все времена формировалось через общение, в котором, конечно, возникали искажения и интерпретации. Не только высказывания мирян, но и высказывания пастырей Церкви не должны подаваться исследователями как окончательная позиция Церкви по тому или иному вопросу, или как точная формулировка существенного содержания христианской веры.
Утверждения иерархов, проповеди, цитаты из предписаний и наставлений могут подаваться в исследованиях только в контексте Учения Церкви. Иное ведет к ошибочным оценкам христианской религии. Ярким примером являются трактовки «покаяния» Иоанна Павла II относительно Крестовых походов. Крестовые походы никогда не считались в Католической Церкви грехом и ошибкой. Но в научных работах можно встретить следующие утверждения: «В целом церковная модель священной войны была реализована воинами. Но изначальные её недостатки, выразившиеся в доминировании военной практики над духовной, далёкие от христианского милосердия методы ведения кампаний обусловили недостижимость идеала. Показательно, что в 2004 г. Папа Иоанн-Павел II от лица Католической церкви принёс извинения за поход в Константинополь, а чуть ранее — за походы в исламские страны». В действительности, Папа Римский высказал сожаление о неблагородных и беззаконных поступках отдельных крестоносцев, которые имели место (нисколько не изменяя позиции Церкви о Крестовых походах как таковых). В этом не было ничего принципиально нового, поскольку это осуждалось и современниками событий.
4. Камень преткновения многих, кто сталкивается с христианскими идеалами, — несоответствие повседневной реальности высоте этих идеалов. Вследствие этого христиан обвиняют в лицемерии; существо их вероучения сторонний взгляд зачастую не отличает от явных его извращений. Мы утверждаем, что обычаи и предписания, которые противоречат Учительству Церкви, не являются христианством в полном смысле слова, и должны называться «христианскими» с необходимыми оговорками. Христианская антропология предполагает, что человеческая природа повреждена, ошибки неизбежны даже у тех, кто приблизился к святости. Учение Церкви представляет идеал, недостижимый собственными усилиями человека. Этот идеал требует не только непрестанного роста, но и синергии.
Несоответствие учения и практики признается христианством, но не считается поводом к тому, чтобы отвергнуть идеал или посмотреть на него, так сказать, «более реалистично». Признание несовершенства является для христианина источником исцеляющего смирения и надежды. Катехизис Католической Церкви поясняет: «Тогда как Христос „святой, непричастный злу, непорочный“, не знавший греха, пришел только для „умилостивления за грехи народа“, Церковь, содержащая в лоне своем грешников, одновременно и святая и всегда нуждающаяся в очищении, неустанно следует путем покаяния и обновления. Все члены Церкви, включая ее духовенство, должны признавать себя грешниками. Во всех благое зерно Евангелия смешано с плевелами греха до конца времен. Таким образом, Церковь собирает грешников, обнятых спасением Христовым, но вечно на пути освещения». В этом отношении каждый христианин одновременно находится in patria et in via: в отечестве и в пути. Признавая неизбежность искажений веры, Церковь, однако, вовсе не считает греховное и испорченное принадлежащим существу веры. Конечно, практика отдельных христиан не вполне следует наставлениям веры. В дополнение к примеру с предписаниями, касающимися злоупотреблений в браке, можно процитировать Жака Ле Гоффа: «Между предписаниями и практикой, без сомнения, существовал глубокий разрыв. Исповедник Людовика Святого подчеркивает — как доказательство святости — неуклонное (даже чрезмерное) соблюдение Людовиком IX супружеского воздержания, свидетельствуя тем самым, что таковое воздержание соблюдалось редко».
5. Искажение информации порождает ошибки восприятия христианства нехристианами и непонимание учения одной конфессии (общины) членами другой, что делает бесполезными для медиевистики учебники по сравнительному богословию. Категорические суждения часто указывают на незнание содержания тех или иных понятий, значения тех или иных явлений: «Христианская мораль — мораль милосердия и смирения, рыцарская — гордости и достоинства» (отметим, что к тому же достаточно странно противопоставлять смирение достоинству). Непроверенные установки и расхожие представления копируются из одной работы в другую, поскольку некая информация считается общеизвестной. Именно вследствие подобной инерции многие авторы продолжают утверждать, что в Католической Церкви существует учение о непогрешимости Папы Римского (или о том, что это новое, не традиционное ее учение), что признается божественность римских понтификов, а культ Богородицы преобладает над почитанием Иисуса Христа и т. д.
6. Рассуждение о католической вере в Европе принципиально в прошедшем времени является существенной ошибкой для целостного взгляда на историю. Католическое мировоззрение не исчезло, и изменения, произошедшие в церковной практике, обряде и самоопределении верующих не носят настолько революционного характера, чтобы можно было говорить об исчезновении той христианской религии, которая существовала в Средние века. Многие элементы мировосприятия, связанные с верой, не являются исключительно средневековыми — и в последующие времена люди верили в Единого Бога, загробное воздаяние, считали земной мир суетным и преходящим и т. д. Изучение современной Церкви — большое подспорье для медиевиста, поскольку ее вера стоит на тех же принципах, что и в Средние века, а многие верные являются носителями того же мышления.
После нескольких веков изучения Средневековья различными методами и в рамках различных философий необходимо вновь увидеть в христианстве религию, а не политизированную идеологию. Стремление проницательным взглядом открыть стоящие за поступками средневековых христиан тайные умыслы, политические и корыстные интересы, доведенное до крайности, нисколько не приближает нас к пониманию их мышления. Крестовые походы, неприятие ересей, укрепление власти Церкви и аристократов можно объяснить одним лишь лицемерием и корыстью, только если совершенно закрыть глаза на исторические факты. Средние века гораздо легче понять, если позволить вере занять ее первенствующее место в мотивах и поступках людей. Те, кто действовал праведно, видели в ней поддержку, а те, кто предавался беззаконию, — получали порицание, но не принимать веру в расчет было невозможно.
Исследователь должен внимательнее относиться к нюансам христианской веры и ввиду того, что средневековое христианство не было книжным. Среди аристократов далеко не все умели читать (не говоря уж о навыке философского рассуждения), они внимали проповедям, передавали веру из уст в уста, доверяли своим чувствам и мыслям. Это была очень сложная реальность. Да и в целом слова «христианская цивилизация Средних веков» ничего не говорят нам о множестве толкований и пониманий Священного Писания, какие были в ходу, о массах людей, увлекаемых ересями, сохранявших языческие и полуязыческие верования.
Вопросы веры были столь важны, что ради утверждения истины, казалось, все средства хороши. Как бы несообразно это ни звучало именно с христианской точки зрения, но вера была причиной, которая толкала князей и правителей на крайности. Христианской культуре понадобилось много веков для того, чтобы «возмужать». Свои первые шаги в качестве христианских государей такие исторические фигуры как Карл Великий или Олав Святой делали с чисто языческим рвением.
Для аристократов христианство в значительной мере было призванием к делу, а не к слову, и чаще всего — к делу ратному: агрессивная миссия, «священная война» против язычников и мусульман, затем против еретиков. Первенствующие в обществе, аристократы раннего Средневековья боролись за выживание истины, которую приняли, чтобы изучением тонкостей этой истины занимались другие (хотя нельзя отдать должное и благородным авторам дидактик с их глубокими и взвешенными этическими взглядами). Полем сражения были и их собственные души, искушаемые властью и богатством.
Для становления европейской аристократии чрезвычайно важно, что христианство является учением об идеальной личности, призывающим человека нести личную ответственность за свою судьбу и за весь мир. В сердце христианства — личная привязанность ко Христу, отношения любви между Богом и человеком. Любовные отношения между мужчиной и женщиной занимали важное место в рыцарской культуре, но и религиозное рвение аристократов также было гораздо больше похоже на эмоциональные и яркие поступки влюбленных, нежели на расчетливые действия циников.
2. Аристократические модели периода расцвета Средневековой культуры (X-XIII вв.)
2.1 Nobility: положение и самосознание высшей знати
Данный раздел посвящен пониманию собственно знатности — наивысшего общественного положения; смыслам, вкладываемым в понятия, означающие «благородство», различиям между рыцарем и магнатом.
Обозначим еще раз две аристократические модели: «родовую» и «служилую». Эти модели характерны не только для древней Европы или Средних веков, они встречаются в разных странах и в различные эпохи. Первых характеризовала полнота социальной востребованности и благополучия, они представляли полноту культуры своего общества; семейные ценности, власть, благородство, мудрость и рачительность находились у них на первом месте. Они владели миром, поскольку владели землей, и являлись носителями царственного достоинства человека, которому Бог сказал в Бытии «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28).
Для служилых аристократов в начале их пути кровное родство и социальное положение могли не иметь никакого значения. Их настоящим, главным родством становилась дружина, а идеи братства, дружбы и верности, доблести пронизывали их жизнь. Их положение зависело от дерзости, отчаянности поступков, солидарности с товарищами, их целью была слава, которая приносила достаток, уважение и богатство. Именно в Средние века воин, несмотря на отсутствие у него земельных владений, все равно воспринимался особо.
Это деление удобно для понимания, но весьма условно и в социальном, и в психологическом плане. Дружинники, рыцари и служилые аристократы могли стремиться к тому, чтобы стать знатными землевладельцами, основателями почтенного рода, а владетельные князья ввязывались в авантюры, участвовали в далеких и опасных походах, забывали о близких. Данные модели принадлежали к одному большому культурному пространству, объединявшему людей разных положений, их нельзя определить как «мирную» и «военную». Благородных людей разного происхождения объединяли причастность к войне, власти и отношениям личной верности. Даже раннесредневековый клир не мог «похвастаться» полной отделенностью от этого класса, непричастностью к мировоззрению аристократов, несмотря на появившиеся запреты на ношение оружия. «Церковные сановники и священнослужители каролингской эпохи, действительные посредники между королем и его народом, те, кто следовал за ним во время войн и вел его дела в мирное время, были людьми совершенно иного склада. Эти люди — плоть от плоти правящего класса, представители знатнейших фамилий. Они выросли в войне и охоте, отнюдь не среди книг и молебнов. Епископы и аббаты, как и светские государи, имели прерогативу призывать под знамена своих „верных“ и вести их на поле битвы. И даже, согласно обычаю времени, иметь собственное войско. Семейная солидарность и это право — характерная черта всех представителей правящего класса в королевстве, светских и церковных».
Реальность, стоявшая за словами, обозначающими благородное положение в XI—XIII вв., была весьма сложной. Не существовало ни единой для всей Европы системы наследования, ни единой системы имущественно-земельных отношений. Имя и имущество могли переходить как к старшему в роде, так и от отца всем сыновьям, от отца к старшему сыну, или даже от отца к дочери. В некоторых регионах знатность не могла передаваться по наследству, если незнатной была мать, например в Германии начала XI в. Аристократическое сословие было по факту открытым — нобилем можно было стать, а не только родиться. Что касается землевладения, то если Франция, например, — это классическое феодальное государство, в Швеции знать в земельном отношении не зависела от короля и после XI в. по-прежнему владела аллодами, значит, и отношения между наследниками одальманов и правителями отличались от привычных сеньориально-вассальных.
Вассальное служение повсеместно считалось благородным делом и источником привилегий. Но в Италии, например, понятие vassus не было обозначением, применимым лишь к рыцарям и держателям феодов. Так называли членов общин, подчиненных определенному господину.
С утверждением христианства в Европе идея священного происхождения от богов потеряла свой смысл, поэтому подтверждение заслуг и славы рода все же приобрели особое значение, а понятия благородства — новое звучание. Человек «знатный» — это человек «заметный», тот, кто совершил великое деяние, память о котором сохранилась, кто сыграл важную роль в истории или хотя бы просто верно послужил. Так или иначе, средневековая знатность означала обособленное, высокое положение — в том понимании, которое было характерно для конкретного народа.
Считается, что граница первого и второго тысячелетий — это период формирования классового общества и феодальной системы. Но учеными неоднократно высказывалось замечание, что данным терминам, созданным для облегчения понимания эпохи, придается слишком много значения. Когда термин начинает заслонять от нас живую реальность, наступает необходимость отстраниться от него, чтобы не потерять за термином сам предмет изучения. В Средние века не было общепринятого понятия, которое могло бы обозначить всех людей знатного происхождения или благородного служения всех стран (возможно, начитанным клирикам и монахам, владеющим греческим или латынью, эта задача показалось бы более простой, но та структура общества, которую они создавали на бумаге, тоже была далека от действительности). Недаром международные ныне слова nobility и aristocracy прочно вошли в употребление после XIII в. (и по отношению к более ранним векам мы употребляем их для удобства). То, что до этого времени в различных регионах Европы знатные люди обозначались другими словами, — не просто лингвистический нюанс, которым можно пренебречь. За этим фактом стоят подлинные социальные отношения.
Как уже говорилось выше, рыцарский слой тяготел к большей космополитичности, но при этом его представители были основными носителями этнического самосознания. С одной стороны, аристократы узнавали себе подобных в культурах соседей, они (как и Церковь) были создателями европейской метакультуры с общими идеалами, похожими структурами, модой, обменом искусствами и т. п. С другой стороны, это не мешало им дорожить своими традициями и своими землями, союз с которыми они зачастую ощущали как мистический или даже брачный. То, что владело умами аристократов при столкновении с новыми обычаями или конфликте с представителями других этносов, было очень близко к понятию «национальная идея», хотя этот термин, опять же, неприменим к Средним векам (как и другие идеи Нового времени). Конечно, в действительности, это была не идея нации, а идея рода, родовой гордости и наследия предков. И даже если правителям и воинам случалось пойти на поводу у потребностей спокойной жизни, у заинтересованности «заморскими» идеями (среди которых было и христианство), воззвания к чести рода и предков имели на них большее действие. Филидам (поэтам) удавалось убедить ирландских королей не идти на компромисс с королем Британии, апеллируя к их славному происхождению и родословию. Одальманы препятствовали христианизации, гордясь своим родством с богами, отторгаемыми конунгами-христианами.
Становление аристократии в каждом королевстве было в культурном смысле особенным, и оно совпадало со становлением самосознания народов, началом создания государств и институализации общественных структур. Реконкиста создала облик средневековой Испании. Выдвижение саксонских эрлов проходило в борьбе с датчанами. Норманны, завоевавшие Британию в XI в., в свою очередь, боролись с саксонской аристократией. А германцы, расселившиеся в Италии, придавали больше значения римской культуре, чем своей собственной. XI—XIII вв. в Норвегии были эпохой гражданских войн. Вскоре к непрестанным конфликтам, происходившим в Европе, добавились Крестовые походы. В виду всего этого, образ средневековой знати, наслаждающейся богатством, праздностью и удовольствиями, выглядит слишком искусственным.
В первом разделе уже были рассмотрены культурные корни, стоящие за терминами, обозначающими знатность человека в европейских языках высокого Средневековья. В XI—XIII вв. для наименования аристократии по-прежнему использовались слова со значением «человек, мужчина, воин», такие как древнеанглийское beorn. Понятие «свободный человек» оставалось в широком употреблении как указание на аристократа. Среди его вариантов: friherre — в Швеции, freiherr — в Германии, а также широко употреблявшееся слово baron (от лат. baro — «свободный», присутствующее в древневерхненемецком и древнефранцузском), еще не ставшее титулом. Последнее использовалось в Италии, Франции, Британии, Германии, чаще как определение держателей феодов.
Слово nobilite, употреблявшееся в англо-норманском и старофранцузском языках, означало «известность», «славу», а также «заслугу», «добродетель», «великое деяние» и «мужество», «храбрость». Все эти значения указывали, прежде всего, на поступки, а значение определенного социального положения окончательно закрепилось за этим словом позже.
Слово gentil, эквивалентное noble по употреблению, происходит от латинского gens, означавшего «семью», «род». В Средние века и gentil и noble, таким образом, вполне соответствовали русскому слову «благородство», в котором переносное значение, указывающее на доблести и добродетели, опирается на прямое — происхождение из достойной семьи.
Ирландские слова flath, soer и tigern указывали на власть (такой акцент характерен для ирландского менталитета с его развитой концепцией власти) и независимость правления, и обозначали правителей (ri) и их потомков, принцев, в чем-то соотносимых с nobility. Flath избирался для несения службы, которой являлось управление кланом и его землями, причем земли не считались его личной собственностью. Он избирался благодаря своим личным качествам, и его положение сочетало в себе обязанности и особые привилегии. Поскольку в Ирландии и Шотландии общество делилось на кланы, то и первенствующие изначально были лидерами кланов, происходящими из более влиятельных семейств внутри них.